| Алексей Николаевич Варламов | |
|
Мистика бомбы. Грин и русская
революция гипертекстовая версия |
|
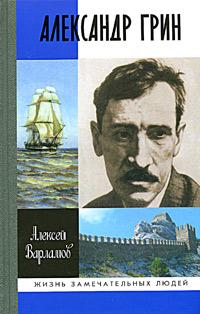 Александр Степанович Грин
(1880–1932) вошел в историю русскую литературы как писатель-романтик и
ассоциируется у большинства читателей со своими феериями — "Алыми
парусами", "Бегущей по волнам",
"Блистающим миром" или же готическими
колдовскими рассказами типа "Крысолова",
"Серого автомобиля" или
"Фанданго".
Было время, когда его проза была почти не востребована или
вовсе ошельмована, были годы, когда имя Грина гремело по всей стране и
даже отзывалось своего рода оппозиционностью. Государство зарабатывало
на Грине несметные деньги, юные
комсомольцы объединялись в клубы
"Алые
паруса" и пели песни про
Лисс и
Зурбаган; в Старом Крыму жила вдова
писателя Нина Николаевна, к которой приходили каждое лето тысячи
поклонников Грина от пионеров до архиереев, а ей не на что было
отремонтировать крышу. Александр Степанович Грин
(1880–1932) вошел в историю русскую литературы как писатель-романтик и
ассоциируется у большинства читателей со своими феериями — "Алыми
парусами", "Бегущей по волнам",
"Блистающим миром" или же готическими
колдовскими рассказами типа "Крысолова",
"Серого автомобиля" или
"Фанданго".
Было время, когда его проза была почти не востребована или
вовсе ошельмована, были годы, когда имя Грина гремело по всей стране и
даже отзывалось своего рода оппозиционностью. Государство зарабатывало
на Грине несметные деньги, юные
комсомольцы объединялись в клубы
"Алые
паруса" и пели песни про
Лисс и
Зурбаган; в Старом Крыму жила вдова
писателя Нина Николаевна, к которой приходили каждое лето тысячи
поклонников Грина от пионеров до архиереев, а ей не на что было
отремонтировать крышу. Ныне страсти вокруг Грина поутихли, "Алые паруса" вышли из моды, Крым больше не наша земля, и только остатки армии энтузиастов играют по Интернету в Гринландию, видя в Грине русского Толкиена и создателя отечественного фэнтези. И очень хорошо, что играют, но все же в наше время Грин, как избушка на курьих ножках, поворачивается к русскому читателю с той стороны, с какой прежде на него большого внимания не обращали, а лишь говорили вскользь: в молодости-де был связан с эсерами и заплатил за это увлечение тюрьмой и ссылкой, написал цикл рассказов о революционерах, но это еще не Грин. Настоящий Грин — это "Остров Рено", "Колония Ланфиер", экзотика, романтика, сильные и отважные люди. А между тема Грин и террор — едва ли не самая важная и в его Жизни и в литературе. Тема, которую выбрал не он, но она сама его выбрала Известно, что у Грина была тяжелая молодость Иногда её сравнивают с молодостью Горького, но едва ли это удачная параллель. В скитаниях Пешкова был некий жизнетворческий жест, своего рода стратегия, нацеленная на узнавание Жизни. У Гриневского сплошное отчаяние и никакого расчета. Он был матросом, грузчиком, актером, переписывал роли для театра, работал на золотых приисках, на доменном заводе, на торфяных болотах, на рыбных промыслах, но успеха не добился ни на одном из этих поприщ, и из всех странствий он побитый возвращался в ненавистную ему Вятку, его родной город, где под конец едва не угодил в очень неприятную историю. В августе 1901 года Гриневский по просьбе своего друга Михаила Назарьева продал золотую цепочку, украденную у врача В. А. Трейтера, и оказался под следствием по обвинению в сбыте краденого. В феврале 1902 года на заседании Вятского окружного суда А. Гриневский и М. Назарьев были признаны невиновными в "совершении приписываемых им преступных деяний", но можно представить, каким ударом для отца (матери уже не было в живых) стала эта история, наделавшая много шуму в тихой Вятке, и последние надежды образумить трудновоспитуемого недоросля возлагались на армию. В марте 1902 года Гриневского призвали и направили в Пензу в 213-ый Оровайский резервный батальон. "Моя служба прошла под знаком беспрерывного и неистового бунта против насилия. Мечты отца о том, что дисциплина "сделает меня человеком", не сбылись. При малейшей попытке заставить меня чистить фельдфебелю сапоги, или посыпать опилками пол казармы (кстати сказать — очень чистый), или не в очереди дневалить, я подымал такие скандалы, что не однажды ставили вопрос о дисциплинарных взысканиях. Рассердясь за что-то, фельдфебель ударил меня пряжкой ремня по плечу. Я немедленно пошел в "околодок" (врачебный пункт), и по моей жалобе этому фельдфебелю врач сделал выговор". "Я был стрелком первого разряда. "Хороший ты стрелок, Гриневский,— говорил мне ротный,— а плохой ты солдат",— писал Грин в "Автобиографической повести". А по воспоминаниям, а точнее показаниям одного из солдат, ефрейтора Пикинова, вместе с Грином служившего "за время служения в батальоне Александр Гриневский вел себя скверно и совершил несколько серьезных выходок (...) когда нашу роту повели в баню Гриневский разделся... повесил на полку свои кальсоны и объявил, что это знамя Оровайского батальона". Он прослужил в армии шесть месяцев, из которых три с половиной провел в карцере на хлебе и воде. Летом 1902 года пытался бежать, но его поймали и предали суду. В ноябре того же года он убежал вторично и на сей раз поймали его не скоро. Помогли бежать революционеры. эсеры уже давно вели пропаганду в армии, искали, на кого опереться, и Грин, тогда еще не разделяя революционных идей — неслучайно в показаниях того же Пикинова читаем, что "Гриневский против царя или же против устройства государства ничего не говорил" — так вот Грин был рад любой возможности избежать солдатчины. Беглеца снабдили письмом, написанном симпатическими чернилами, дали адрес в Пензе, где он смог оставить выданное ему обмундирование, переодеться в гражданскую одежду и, получив билет на поезд, уехать в Симбирск. Там Грин проработал всю зиму на лесопильном заводе, а потом стал агитатором, и на родине Ульянова-Ленина началась новая полоса его Жизни — революционная. О ней он написал свою первую книгу, с неё по большому счету начался как писатель и к ней возвращался всю Жизнь, хотя отношение к революции и революционерам у него претерпевало самые разные и по-гриновски фантастические видоизменения. Русские эсеры действовали в ту пору двух независимых направлениях — готовили теракты и вели пропаганду. Они считали себя наследниками "Народной воли", но опасаясь того, что их партию будет ждать судьба народовольцев, чья деятельность в конце концов свелась полностью к террору и партия была разгромлена, создали такую структуру, при которой Боевая организация действовала независимо от всей партии и лишь получала от неё деньги и указания, кого необходимо убить. Грина поначалу хотели использовать в Боевой организации для акта и отправили на "карантин" в Тверь, чтобы выяснить, нет ли за ним хвоста, однако, когда все было готово, он соскочил. "Пребывая в карантине в полном покое, он разобрался в своих мыслях и чувствах, увидел, что убийство кого бы то ни было претит его натуре",— писала в своих мемуарах Н. Н. Грин. В одной из современных статей о Грине справедливо сказано: "Для преступления нужно, как минимум, мужество поступка, а обыватель немыслим без ощущения почвы под ногами. Ни тем, ни другим Грин не обладал. Он мог стать нищим босяком — его выручала осторожность провинциала; он мог стать “профессиональным революционером” — для этого ему не хватило жестокости". К этому можно было бы добавить свидетельство И. С. Соколова-Микитова: "При всей своей мрачности Грин бывал озорным, дерзким, но, как мне подчас казалось, не слишком смелым". И хотя это воспоминание относится к более позднему периоду Жизни Грина и сопровождено оговоркой мемуариста, что он видел Грина в компании, где "могли быть свои законы и обычаи", само это замечание не лишено наблюдательности и характеризует Грина в целом. Он психологически не смог переступить через кровь, которая так щедро будет литься в его рассказах. Может быть потому и будет литься. Ни настаивать, ни мстить новые соратники не стали Одним из краеугольных принципов Боевой организации была полная добровольность, идти в революцию и уж тем более жертвовать собой никто никого не принуждал, благо желающих было и без Грина достаточно. Тем не менее сама ситуация теракта была Грином душевно очень глубоко пережита и нашла отражение в нескольких его вещах, написанных вскоре после того, как он расплевался не только с эсеровским терроризмом, но и с самой партией социалистов-революционеров. Говоря шире, это была тема Жизни-смерти, их странных взаимоотношений, противостояния и выбора героя, не случайно позднее в рассказе "Приключения Гинча" его повествователь скажет: "Три темы постоянно привлекают человеческое воображение, сливаясь в одной туманной перспективе, глубина её блестит светом, полным неопределенной печали: "Смерть, Жизнь и Любовь". Такая последовательность неслучайна. Грин начал со смерти и с тех, кто ей служит. Он изначально уловил в терроре самое важное — не социальный протест и не крайнее средство политической борьбы, а подсознательное патологическое нежелание жить, борьбу любви и ненависти к Жизни в человеческой душе, поражение первой и победу второй и — как следствие стремление убивать себя и других. Увидел — и от этого призрака отшатнулся, но успел его запечатлеть и запомнить. Эсеры в этом смысле сделали из Грина писателя, но не как борца с угнетателями (скорее наоборот классовую борьбу Грин отрицал, что отразилось в знаменитых и несколько безвкусных словах Артура Грэя о добром миллиардере, который подарит банковскому служащему виллу, опереточную певичку и сейф в придачу) или сочинителя прокламаций, хотя и этого нельзя сбрасывать со счета, но именно как человека, осознающего метафизическую ценность и связь Жизни и смерти и неустанно о них размышляющего. И когда Грин называл одного из эсеровских деятелей Наума Быховского своим "крестным отцом в литературе", это была сущая правда. Эсеры подарили ему биографию или точнее завершили её, подведя беглого солдата к писательству. В одном из самых первых его рассказов, "Марате", показан молодой террорист накануне совершения теракта. Ян обаятелен, смел и молод, он приговорил себя к смерти и хочет провести последний день Жизни с друзьями, двое из которых не знают, что его ждет. "Мне хочется покататься на лодке и посмотреть на их хорошие, дружеские лица... Так мне будет легче...". Во время прогулки неожиданно возникает партийный разговор о том, что важнее — пропаганда или террор, и тут милый Ян неожиданно раскрывается: "— Да! Пусть ужас вперит в них слепые, белые глаза!.. Я жестокость отрицаю... Но истребить, уничтожить врагов — необходимо! С корнем , навсегда вырвать их! Вспомните уроки истории... Совсем, до одного, навсегда, без остатка, без претендентов! Чтобы ни одна капля враждебной крови не стучала в жилах народа. Вот что — революция! А не печатанье бумажек. Чтобы ни один уличный фонарь не остался без украшения!..". Этот лихорадочный монолог не выражает авторскую позицию. Скорее наоборот. "— Вы какой-то Тамерлан в миниатюре, господь вас ведает... А ведь, знаете, вы на меня даже уныние нагнали... Такие словеса может диктовать только полное отчаяние... А вы это серьезно?". Ян — серьезен, хотя и несколько истеричен, и зловещее "без претендентов" в его устах невольно косвенно намекает и на будущую участь Романовых и на массовый красный террор по отношению не к отдельным одиозным личностям, но целому сословию. Ян — жесток, но все же не сразу совершает убийство: в карете человека, которого он должен был уничтожить, ехали его жена и дочь. И только на другой день, когда жертва была одна, в городе гремит взрыв. Ян — это русское Иван. Иваном звали Каляева, чью историю фактически и рассказал Грин в "Марате". 2 Об этой истории писал и другой писатель и эсер, только гораздо более высокопоставленный и заслуженный — Борис Савинков, лично принимавший участие в подготовке убийства великого князя Сергея Александровича, хорошо Каляева знавший и описавший его в своих "Воспоминаниях террориста". В этом смысле вообще очень любопытно сравнить судьбы и творчество двух писателей и эсеров — Бориса Савинкова и Александра Гриневского, В. Ропшина и А.С. Грина. Они оба были дворянами, ровесниками и современниками, оба ушли в революцию, и хотя выходцу из богатой семьи, закончившему гимназию и учившемуся в университете, привыкшему к сытой Жизни Савинкову не приходилось пережить тех мытарств, которые выпали в молодости на долю изгнанного из реального училища Грина, ненависть к существующему строю в какой-то момент у них была одинаково сильна. Но быть может именно больший жизненный опыт, инстинкт и любовь к Жизни помогли Грину отшатнуться от того, что его ждало на пути, по которому бесстрашно, оставляя трупы друзей и врагов, шел Савинков. Грин написал об этом выборе в своем раннем рассказе "Карантин". Герой его, молодой человек по имени Сергей приезжает по заданию партии эсеров в провинциальный город c целью убедиться, что полиция за ним не следит. После этого он должен будет совершить теракт, к которому он давно готов. Однако проходит время и мало-помалу Сергей попадает под обаяние мирной Жизни. Наслаждается природой, проводит дни в ничегонеделанье, поглядывает на хорошенькую племянницу своей квартирной хозяйки Дуню и не думает ни о будущем, ни о прошлом, как вдруг все обрывается. Дуня приносит ему письмо с обывательским содержанием и тайным шрифтом, и Сергей, еще не прочитав его, с ужасом понимает, что "завтра приедет кто-то имеющий отношение к его судьбе, а потом надо будет уехать и умереть". И еще до того как этот "черный, кудластый и горбоносый, в пенсне, закрывающем выпуклые близорукие глаза, стремительный и взбудораженный" человек по имени Валериан привозит похожую на мыльницу бомбу и поздравляет Сергея с тем, что ему пришлось скучать в карантине всего два месяца, в то время как других товарищей партия выдерживает по пять-шесть, Сергей ясно осознает, что ни на какой теракт он не пойдет, что "умирать он не собирался, не хотел и не мог хотеть...". Между ним и посланцем партии происходит объяснение, во время которого приезжий упрекает Сергея ("Вы надоели центральному комитету! Вы всем уши прожужжали об этом! Вы чуть ли не со слезами на глазах просили и клянчили... Ведь были же другие?"), а потом уходит ни с чем, а молодой ренегат остается с хозяйкой, самоваром и Дуней, которая "выйдет за какого-нибудь портного или лавочника. Будет шить, стряпать, нянчить, много спать, жиреть и браниться, как Глафира". Ситуация эта интересна тем, что позднее герои Грина восстанут против обывательской Жизни, которую привлекательная Дуня олицетворяет, так же яростно, как восставал Сергей против террористов, и в "Карантине" Грин показывает ростки этого конфликта, но с неожиданной стороны. Не Сергей, а Дуня, по которой он томится и "торопливо, путаясь, жадными, неловкими движениями" расстегивает её кофту, его отталкивает и убегает, оставляя героя с невнятной, неясной Жизнью. Но главное — с Жизнью. Именно так — с большой буквы. В какой-то момент для Грина, заглянувшего в глаза смерти, это было важнее всего. "Он будет жить. Каждый день видеть небо и пустоту воздуха. Крыши, сизый дым, животных. Каждый день есть, пить, целовать женщин. Дышать, двигаться, говорить и думать. Засыпать с мыслью о завтрашнем дне. Другой, а не он придет в назначенное место и, побледнев от жути, бросит такую же серую, холодную коробку, похожую на мыльницу. Бросит и умрет. А он — нет; он будет жить услышит о смерти этого, другого человека, и то, что будут говорить о его смерти". И совсем иное дело Савинков, и человек и писатель. Он был профессиональным убийцей, хотя и существует мнение, что сам ни разу никого не убил, а только посылал на смерть. Тут есть что-то от тех раскольничьих учителей конца семнадцатого века, которые заманивали десятки своих последователей в церкви и губили в огне, а сами уходили через тайные выходы, чтобы в соседнем скиту отправить на небо следующую партию самосожженцев, о чем, кстати, писал большой поклонник Савинкова Дмитрий Сергеевич Мережковский. Савинков воспевал террор и насильственную смерть и служил им потому, что видел в них не просто рычаг политического воздействия на власть, но определенную религиозную систему, святую жертвенность и экзальтацию — чувство, которое было свойственно всем, кто его окружал и которое его восхищало и будоражило. Тут была какая-то душевная патология, особый вид утонченной наркомании на грани Жизни и смерти. "Ночь с 17 на 18 марта я провел с Покотиловым. Мы сидели с ним в театре "Варьете" до рассвета и на рассвете пошли гулять на острова, в парк. Он шел, волнуясь, с каплями крови на лбу, бледный, с лихорадочно расширенными зрачками. Он говорил: — Я верю в террор. Для меня вся революция в терроре. Нас мало сейчас. Вы увидите: будет много. Вот завтра, может быть, не будет меня. Я счастлив этим, я горд: завтра Плеве будет убит". А вот другой террорист — Сазонов: "— Знаете, раньше я думал, что террор нужен, но что он не самое главное... А теперь вижу: нужна "Народная воля", нужно все силы напрячь на террор, тогда победим". "Сазонов был молод, здоров и силен. От его искрящихся глаз и румяных щек веяло силой молодой Жизни. Вспыльчивый и сердечный, с кротким, любящим сердцем, он своей жизнерадостностью только еще больше оттенял тихую грусть Доры Бриллиант. Он верил в победу и ждал её. Для него террор тоже прежде всего был личной жертвой, подвигом. Но он шел на этот подвиг радостно и спокойно, точно не думая о нем, как он не думал о Плеве. Революционер старого, народовольческого, крепкого закала, он не имел ни сомнений, ни колебаний. смерть Плеве была необходима для России, для революции, для торжества социализма. Перед этой необходимостью бледнели все моральные вопросы на тему о "не убий". Дора Бриллиант: "Её дни проходили в молчании, в молчаливом и сосредоточенном переживании той внутренней муки, которой она была полна. Она редко смеялась, и даже при смехе глаза её оставались строгими и печальными. террор для неё олицетворял революцию, и весь мир был замкнут в боевой организации". И наконец как апофеоз этого культа смерти — строки, которые Каляев писал из тюрьмы (и что самое поразительное — это было открыто опубликовано в русской печати): "Есть счастье выше, чем смерть во время акта,— умереть на эшафоте. Смерть во время акта как будто оставляет что-то незаконченным. Между делом и эшафотом еще целая вечность — может самое великое для человека. Только тут узнаешь, почувствуешь всю красоту, всю силу идеи. Весь развернешься, расцветешь и умрешь в полном цвете... как колос... созревший. Революция дала мне счастье, которое выше Жизни, и вы понимаете, что моя смерть — это только очень слабая моя благодарность ей. Я считаю свою смерть последним протестом против мира крови и слез и могу только сожалеть о том, что у меня есть только одна Жизнь, которую я бросаю как вызов самодержавию". Александру Грину этот пафос совершенно чужд, хотя парадоксальным образом и у него, и у Савинкова (у последнего это особенно видно в "Коне бледном") террор перекликается с темой женской любви, только у Грина любовь связана с идеей Жизни, а Савинкова — смерти, в мире Ропшина Танатос обостряет, усиливает Эрос, и Савинков благословляет тех, кто этому Эросу-Танатосу служит. Последнее подтверждают воспоминания Федора Степуна, который познакомился с Савинковым летом 1917 года и позднее писал: "Оживал Савинков лишь тогда, когда начинал говорить о смерти. Я знаю, какую я говорю ответственную вещь, и тем не менее не могу не высказать уже давно преследующей меня мысли, что вся террористическая деятельность Савинкова и вся его кипучая комиссарская работа на фронте были в своей последней, метафизической сущности лишь постановками каких-то лично ему, Савинкову, необходимых опытов смерти. Если Савинков был чем-нибудь до конца захвачен в Жизни, то лишь постоянным погружением в таинственную бездну смерти". О разном отношении к проблеме Жизни-смерти у эсеров (в лице Савинкова) и народовольцев (в лице Веры Фигнер) очень интересно пишет О.В. Будницкий в предисловии к книге "Женщины-террористки в России. Бескорыстные убийцы", изданной в Ростове-на-Дону в 1996 году и, как мы увидим дальше, все это прямо касается Грина. "Интересно сравнить отношение к моральной стороне терроризма революционеров двух поколений — народовольцев и эсеров. Легендарная Вера Фигнер пережила 20-летнее заключение в Шлиссельбурге, вышла на поселение и в конце концов перебралась за границу, где сблизилась с эсерами. "На поклон" к ней приехал Борис Савинков. Фигнер и Савинков, по инициативе последнего, вели дискуссии о ценности Жизни, об ответственности за убийство и о самопожертвовании, о сходстве и различии в подходе к этим проблемам народовольцев и эсеров. Фигнер эти проблемы казались надуманными. По её мнению, у народовольца, "определившего себя", не было внутренней борьбы: "Если берешь чужую Жизнь — отдавай и свою легко и свободно. Мы о ценности Жизни не рассуждали, никогда не говорили о ней, а шли отдавать её, или всегда были готовы отдать, как-то просто, без всякой оценки того, что отдаем или готовы отдать". Далее в её мемуарной книге, где воспроизведены разговоры с Савинковым, следует блистательный по своей откровенности пассаж, многое объясняющий в психологии и логике не только террористов, но и революционеров вообще: "Повышенная чувствительность к тяжести политической и экономической обстановки затушевывала личное, и индивидуальная Жизнь была такой несоизмеримо малой величиной в сравнении с Жизнью народа, со всеми её тяготами для него, что как-то не думалось о своем". Остается добавить — о чужом тем более. Т. е. для народовольцев просто не существовало проблемы абсолютной ценности Жизни. Рассуждения Савинкова о тяжелом душевном состоянии человека, решающегося на "жестокое дело отнятия человеческой Жизни" казались ей надуманными, а слова — фальшивыми. Неизвестно, насколько искренен был Савинков; человек, пославший боевика убить предателя (Н. Ю. Татарова) на глазах у родителей, неоднократно отправлявший своих друзей-подчиненных на верную смерть, не очень похож на внутренне раздвоенного и рефлектирующего интеллигента. Его художественные произведения достаточно холодны и навеяны скорее декадентской литературой, чем внутренними переживаниями. Однако он все же ставит вопрос о ценности Жизни не только террориста, но и его жертвы и пытается найти политическому убийству (опять-таки, неизвестно, насколько искренне) подобие религиозного оправдания. Характерно, что в его разговорах с Фигнер мелькают слова "Голгофа", "моление о чаше". Старая народница с восхитительной простотой объясняет все эти страдания тем, что "за период в 25 лет у революционера поднялся материальный уровень Жизни, выросла потребность Жизни для себя, выросло сознание ценности своего "Я" и явилось требование Жизни для себя". Неудивительно, что получив как-то раз письмо от Савинкова с подписью: "Ваш сын", Фигнер не удержалась от восклицания: "Не сын, а подкидыш!" Будницкий приводит еще ряд интересных свидетельств, имеющих отношение к теме Жизни-смерти в сознании эсеров: "Приговоренная к смерти в феврале 1908 г. Анна Распутина, член Летучего боевого отряда Северной области, говорила смотрителю арестантских помещений Петропавловской крепости полковнику Г. А. Иванишину, что обвинитель в суде, характеризуя их группу, напал на верную мысль, но только неточно её выразил. Он сказал, что "в этих людях убит инстинкт Жизни и поэтому они не дорожат Жизнью других"; это не так, заметила Распутина, "у нас убит инстинкт смерти, подобно тому, как убит он у храброго офицера, идущего в бой". Возможно, в чем-то были правы и прокурор, и террористка-Распутина принадлежала к тем "семи повешенным", которым посвятил свой известный рассказ Леонид Андреев. Среди казненных, кроме Распутиной, были еще две женщины — Лидия Стуре и "неизвестная под кличками "Казанская" и "Кися" — Елизавета Лебедева. Иванишин отметил у всех "поразительную бодрость духа". О Лидии Стуре, которой восхищались самые разные люди и, в их числе Грин, лично её знавший, речь еще пойдет. Но вернемся к самому нашему герою, чье отношение к товарищам по партии, судя по тому, как это отразилось в его прозе, было очень неоднозначным. В рассказах писателя иногда встречаются образы "хороших", вызывающих симпатию рядовых революционеров — это и герои рассказа" Ночь", разоблачающие в своей среде провокатора, это и убегающие от полиции, попадающие в мирные, "соловьиные сады" Петунников из "Телеграфиста" и Геник из рассказа "В Италию". Но когда Грин копает глубже и ищет ответа на вопрос — почему и зачем его герои стали революционерами и чего ищут и добиваются они в Жизни, то приходит к парадоксальным, прямо противоположным савинковским выводам и обнаруживает совсем негероическую подкладку в мотивах деятельности боевиков, окруженных в общественном сознании героическим ореолом. Он даже как будто издевается над ними и выворачивает их религиозное подвижничество, о котором с придыханием пишет Савинков, наизнанку. Вот монолог одного из гриновских инсургентов: "Видишь ли, я рано соскучился. Моя скука имеет, если хочешь, историческое оправдание. Мой дед бил моего отца, отец бил мать, мать била меня, я вырос на колотушках и порке, среди ржавых ломберных столов, пьяных гостей, пеленок и гречневой каши. Это фантасмагория, от которой знобит. Еще в детстве меня тошнило. Я вырос, а жить лучше не стало. Пресно. Люди на одно лицо. Иногда покажется, что пережил красивый момент, но, как поглядишь пристальнее, и это окажется просто расфранченными буднями. И вот, не будучи в силах дождаться праздника, я изобрел себе маленькое развлечение — близость к взрывчатым веществам. С тех пор, как эти холодные жестянки начали согреваться в моих руках, я возродился. Я думаю, что жить очень приятно и, наоборот, очень скверно быть раздробленным на куски; поэтому я осторожен. Осторожность доставляет мне громадное наслаждение не курить, ходить в войлочных туфлях, все время чувствовать свои руки и пальцы, пока работаешь,— какая прелесть. Живу, пока осторожен,— это делает очаровательными всякие пустяки; улыбку женщины на улице, клочок неба". Биография Савинкова имеет не много общего с "трудным" детством Марвина из "Приключений Гинча", которому и принадлежит вышеизложенная исповедь, но самое важное — искусственный подогрев Жизни, наркотическая острота ощущений и переживаний на фоне постоянной смертельной опасности — у них общее, и это общее Грин сумел очень точно ухватить и выразить. 3 Оставались правда еще героизм, жертвенность, борьба за свободу народу и прочие атрибуты революционной пропаганды, которые окружали суть террора, как оболочка окружает бомбу, но как будто предугадывая то, что еще только напишет Савинков и что, видимо, постоянно обсуждалось эсерами, Грин создает рассказ "Третий этаж", речь в котором идет о героической смерти трех революционеров, случайно попавших под облаву и безнадежно отстреливающихся от полиции. Описываются последние минуты их жизни. «Так страшно еще не было никогда. Раньше, думая о смерти и, с подмывающей радостью, с легким хохотком крепкого, живого тела оглядываясь вокруг, они говорили: "Э! Двум смертям не бывать!" Или: "От смерти не уйдешь!" Или: "Человек смертен". Говорили и не верили. Теперь знали, и знание это стоило жизни". Три человека – Мистер, Барон и Сурок – сидят в окруженном солдатами доме. Настоящих фамилий их автор не сообщает. Сообщает мысли. Сурок думает о жене «Там, за чертой города, среди полей и шоссейных дорог – его жена. Любимая, славная. И девочка – пухленькая, смешная, всегда смеется. Белый домик, кудрявый плющ. Блестящая медная посуда, тихие вечера. Никогда не увидеть? Это чудовищно! В сущности говоря, нет ничего нелепее жизни. А если пойти туда, вниз, где смеется веселая улица и стреляют солдаты, выйти и сказать им: "Вот я, сдаюсь! Я больше не инсургент. Пожалейте меня! Пожалейте мою жизнь, как я жалею её! Я ненавидел тишину жизни – теперь благословляю её! Прежде думал: пойду туда, где люди смелее орлов. Скажу: вот я, берите меня! Я раньше боялся грозы – теперь благословляю её!.. О, как страшно, как тяжко умирать!.. Я больше не коснусь политики, сожгу все книги, отдам все имущество вам, солдаты!.. Господин офицер, сжальтесь! Отведите в тюрьму, сошлите на каторгу!.." Но он знает, что это не поможет, знает, что расстреляют его тут же и только поэтому от безвыходности, а не от любви к революции "глухим, перехваченным тоской голосом" кричит: – Да здравствует родина! Да здравствует свобода! У второго – Мистера – свои мысли. «Он в промежутках между своими и вражескими выстрелами думал торопливо и беспокойно о том, что умирает, еще не зная хорошенько, за что: за централизованную или федеративную республику. Так как-то сложилось все наспех, без уверенности в победе, среди жизни, полной борьбы за существование и политической агитации. Думать теперь, собственно говоря, не к чему: остается умереть". И наконец третий – Барон. Тот просто плачет. « – Отчего я должен умереть? А! Отчего?.. – Оттого, что вы хнычете! – злобно обрывает Мистер. – А? А отчего вы хнычете? А? Отчего?.. Барон вздрагивает и затихает, всхлипывая. Еще есть время. Молчать страшно. Надо говорить, говорить много, хорошо, проникновенно. Рассказать им свою жизнь, скудную, бедную жизнь, без любви, без ласки. Развернуть опустошенную душу, заглянуть туда самому и понять, как все это вышло". Не герои, обычные люди – только ситуация, в которой они оказались, невыносима до жути, и эта ситуация делает их героями насильно, против их желания и воли. Они не борцы, но заложники революции, и героизм всего-навсего обман. Но свою роль они играют до конца. «Они жмут друг другу холодные, сырые руки, бешено сдавливая пальцы. Глаза их встречаются. Каждый понимает другого. Но ведь никто не узнает ни мыслей их, ни тоски. Правда не поможет, а маленький, невинный обман – кому от него плохо? А смерть, от которой не увернешься, скрасится хриплым, отчаянным криком, хвалой свободе. – Да здравствует родина!.. – О, они найдут только наши трупы, – говорит Мистер, – но мы не умрем! В уме и сердце грядущих поколений наше будущее! Бледная, тоскливая улыбка искажает его лицо. Так когда-то начинались его статьи, или приблизительно так. Все равно. Барон подымается на локте. Торжественный, страшный миг – смерть, и эти два глупца хотят уверить себя, что смерть их кому-то нужна? И вот сейчас же, сейчас отравить их торжественное безумие нелепостью своей жизни, ненужной самому себе политики и отчаянным, животным страхом! Как будто они не боятся! Не хотят жить?! лгуны, трусы!.. Мгновение злорадного колебания, и вдруг истина души человеческой, острая, как лезвие бритвы, пронизывает мозг Барона: Да... для чего кипятиться? Разве ему это поможет? На улице плывут шорохи, ползают далекие голоса. Вот-вот... может быть, уже целят. Все равно! Трусы они или нет, кто знает? Жизнь их ему неизвестна. А слова их – красивые, стальные щиты, которых не пробить истерическим криком и не добраться до сердца. Замирает оно от страха или стучит ровно, не все ли равно? Есть щиты, легкие, звонкие щиты, пусть! И он умрет все равно, сейчас. А если, умирая, крикнет те же слова, что они, кто узнает мысли его, Барона, его отчаяние, страх и тоску? Никто! Он плакал? Да! Но плакал просто от боли. – Да здравствует родина! Да здравствует свобода! Три голоса слились вместе. И души, полные агонией смерти, в тоске о жизни и счастье судорожно забились, скованные короткими, хриплыми словами. А на улице опрокинулся огромный железом нагруженный воз, громыхнули, содрогнувшись, стены, и дымные, уродливые бреши, вместе с тучами кирпичей и пыли, зазияли в простенках третьего этажа". Спектакль окончен. Актеры погибли. 4 Все эти рассказы – "Марат", "Карантин", а кроме них еще "Ночь", "Апельсины", "На досуге" и другие были опубликованы в первой книге Грина "Шапка-невидимка" с подзаголовком "Из жизни революционеров", вышедшей в начале 1908 года. Несмотря на несколько поощрительных рецензий большого успеха они не имели. Зато напечатанная два года спустя в "Русской мысли" повесть Савинкова "Конь бледный", равно как и его "Воспоминания террориста", стали в литературе событием. В общем-то это понятно, никто за исключением нескольких человек из партии эсеров не знал Гриневского, и вся Россия знала Савинкова. Это был тот самый случай, когда качество текста определялось не столько его литературными достоинствами, сколько тем, что мы теперь называем пиаром. Что бы ни написал Савинков, это было обречено на успех. К тому же молодому писателю из ЦК партии социалистов-революционеров помогали, ободряли, редактировали и раскручивали такие влиятельные люди, как Мережковский и Гиппиус. У Грина подобных знакомств в литературной среде не было ни тогда, ни позднее. Однако с точки зрения истории литературы и исторической справедливости надо сказать, что именно Грин хронологически был первым в теме террора, как художник Савинкова намного превосходил (Ропшин все-таки по большому счету любитель, а Грин профессионал), и то, что его книга почти никак не прозвучала в тогдашней литературе и странно, и обидно, и нелепо. Грин был так расстроен своей премьерой, что по свидетельству Корнелия Зелинского "прочитав свою книгу "Шапка-невидимка", отложил её чувством полного разочарования, с тем ощущением непоправимой неловкости, какое настигает человека, когда он делает не свое дело". А позднее когда в 1928 году он будет составлять собрание сочинений для издательства "Мысль", то из всей "Шапки-невидимки" в него войдет только один рассказ "Кирпич и музыка", с эсеровской темой не связанный. Все это немножко напоминает Гоголя, уничтожившего свою юношескую драму, или Некрасова его с первым сборником стихов, и тем не менее эсеровские рассказы Грина, да и сам его литературный дебют вовсе не были неудачными ни по замыслу, ни по исполнению. Грин предвосхищает, предугадывает, опережает не только Бориса Савинкова, но и Андрея Белого с "Петербургом", и Леонида Андреева с "Рассказом о семи повешенных". Даже образ Апокалипсиса, который будет напрямую связан с террором у Белого и Ропшина, встретится сначала у Грина. Так, в "Марате" герой описывает свое состояние: "Розоватый свет лампы пронизывал веки, одевая глаза светлой тьмой. Огненные точки и узоры ползли в ней, превращаясь в буквы, цифры, фигуры зверей Апокалипсиса". И бомба, которая является почти одушевленной в "Петербурге" и похожа на сардинницу (а в "Карантине" на мыльницу), тоже первая, не причинив никому вреда, взорвется у Грина. «Маленький металлический предмет, похожий на мыльницу, безглазый тускло, тускло смотрел на него серым отблеском граней. Собравший в своих стальных стенках плоды столетий мысли и бессонных ночей, огненный клубок еще не родившихся молний, с доверчивым видом ребенка и ядовитым телом гремучей змеи, – он светился молчаливым, гневным укором, как взгляд отвергнутой женщины". Конечно в этом описании немало литературщины, которой Грин всегда грешил, много бьющего на эффект – и все-таки мистику бомбы, ненависть к бомбе (которой, к слову сказать, в помине нет у Савинкова, но есть у Андрея Белого) – первым выразил Грин. «– Ты бессильна., – тихо и насмешливо сказал он. – Ты можешь таить в себе ужасную, слепую силу разрушения... В тебе, быть может, спрессован гнев десятка поколений. Какое мне дело? Ты будешь молчать, пока я этого хочу... Вот – я возьму тебя... Возьму так же легко и спокойно, как подымают репу... Где-нибудь в лесу, где глохнет человеческий голос, ты можешь рявкнуть и раздробить сухие, гнилые пни... о ты не сорвешь мою кожу, не спалишь глаз, не раздавишь череп, как разбивают стекло... Ты не обуглишь меня и не сделаешь из моего тела красное месиво..." В русской литературе ХХ века он одним из первых очень зрело написал о том, что станет лейтмотивом в творчестве многих писателей, и раньше других избавится от иллюзий. Что говорить про Мережковских, людей с довольно смутными нравственными понятиями, которые заигрывали с террором и искали в нем все тот же пресловутый религиозный смысл и поощряли Савинкова, если даже такой нравственно ясный человек, как Блок писал Розанову: "А я хочу сейчас только сказать Вам в ответ свои соображения по важнейшему для меня пункту Вашего письма: о терроре. Страшно глубоко то, что Вы пишете о древнем "дай полизать крови". Но вот: Сам я не "террорист" уже по тому одному, что "литератор". Как человек, я содрогнусь при известии об убийстве любого из вреднейших государственных животных, будь то Плеве, Трепов или Игнатьев. И, однако, так сильно (коллективное) озлобление и так чудовищно неравенство положений – что я действительно не осужу террора сейчас. Ведь именно "литератор" есть человек той породы, которой суждено всегда от рожденья до смерти волноваться, ярко отпечатывать в своей душе и в своих книгах все острые углы и бросаемые ими тени. Для писателя – мир должен быть обнажен и бесстыдно ярок. Таков он для Толстого и для Достоевского. Оттого – нет ни минуты покоя, вечно на первом плане – "раздражительная способность жить высшими интересами" (слова Ап. Григорьева). Ничего "томительнее" писательской жизни и быть не может; теперь: как осужу я террор, когда вижу ясно, как при свете огромного тропического солнца, что: 1) Революционеры, о которых стоит говорить (а таких – десятки), убивают, как истинные герои, с сияньем мученической правды на лице (прочтите, например, 7-ю книжку "Былого", – недавно вышедшую за границей, – о Каляеве), без малейшей корысти, без малейшей надежды на спасение от пыток, каторги и казни. 2) Что правительство, старчески позевывая, равнодушным манием жирных пальцев, чавкая азефовскими губами, посылает своих несчастных агентов, ни в чем не повинных падающих в обморок офицериков, не могущих, как нервные барышни, (...) из Медицинского института, видеть крови, бледнеющих солдат и геморроидальных "чинов гражданского ведомства" – посылает "расстрелять", "повесить", "присутствовать при исполнении смертного приговора". Ведь правда всегда на стороне "юности", что красноречиво подтверждали и Вы своими сочинениями всегда. Современная русская государственная машина есть, конечно, гнусная, слюнявая, вонючая старость: семидесятилетний сифилитик, который пожатием руки заражает здоровую юношескую руку. Революция русская в её лучших представителях – юность с нимбами вокруг лица. Пускай даже она не созрела, пускай часто отрочески немудра, – завтра возмужает. Ведь это ясно, как Божий день". Блоку потребовалось увидеть не воображаемое, а истинное лицо революции и революционных нимбов и правду "юности", чтобы написать "Двенадцать", а потом отшатнуться и замолчать. Грин увидел и понял все на десять лет раньше. 5 Но это в литературе А что было в жизни? Как и почему не герои Грина, а сам он ушел из революции и с отвращением писал впоследствии обо всем, что было с нею и её идеями связано? Грин не любил вспоминать и никогда не ставил себе в заслугу революционную деятельность, даже тогда, когда это могло бы принести ему моральный капитал в молодой Советской республике, хотя поплатился он за ошибки молодости порядочно, куда тяжелее нежели, например, такие разные персонажи, как Горький, Бальмонт, Маяковский, Клюев, Пришвин или Ремизов, также грешившие революционными грехами. Журналист Эдгар Арнольди, много раз встречавшийся с Грином в 20-ые годы, писал: "Я знал, что Грин был активным участником революционного движения. Вполне естественно было ожидать, что он с готовностью будет об этом рассказывать: ведь революционные заслуги всеми и повсюду ценились, вызывали общий интерес. Но как раз об этом Грин никогда ничего не рассказывал. Наоборот, он совершенно явно проявлял полное нежелание распространяться о своей жизни. Я догадывался, что делалось это не из особой скрытности или желания утаить что-то сокровенное. Нет, насколько я мог понять, он просто считал, что пережитое им не может составить интереса для других, да и сам, по-видимому, не испытывал влечения к погружению в воспоминания". А между тем история его взаимоотношений с властями была очень драматична и тяжело сказалась на его судьбе. Хотя беглый солдат Гриневский отказался участвовать в терактах, деваться от эсеров ему было, явно, некуда, и скорее всего именно эти, а не какие-либо идейные соображения удерживали его в партии. Нелегал, живущий под чужим именем на партийные деньги, человек, которого ничего не стоило сдать полиции, Гриневский был вынужден выполнять ту работу, которую ему поручали. Однако парадокс заключался в том, что его-то как раз такая жизнь долгое время устраивала. Не надо было больше унижаться, скитаться по золотым приискам, шахтам, вокзалам, пристаням, рыбацким тоням и кораблям, не надо было думать, где преклонить голову и как заработать на хлеб и вино. Обо всем этом заботилась теперь Партия. Он нашел в эсерах то, чего искал в казарме: независимости от отца. эсеры были люди не бедные, они получали деньги из самых разных источников и неплохо платили своим штатным сотрудникам. Скорее не устраивал эсеров сам Гриневский, и в его лице организация партия приобрела не самого полезного члена. Конечно, у него был хорошо подвязан язык и он умел произносить зажигательные речи, но едва ли это компенсировало его недостатки. Грин не был похож не только на жертвенных террористов Боевой организации, воспетых Савинковым, но даже на самых обычных рядовых членов партии не походил. Профессиональный революционер из него был такой же никудышный, как прежде учащийся-реалист, моряк, золотодобытчик, рыбак, солдат… Это потом в шестидесятые годы о Грине станут писать всякие глупости, что, мол, куда бы его ни забрасывала судьба, он везде служил революции, а на самом деле Алексей Долговязый – такую ему дали кличку эсеры – тратил партийные деньги на кабаки, совершенно не интересовался теорией, сочинял в прокламациях небылицы (так однажды присочинил, что убил погнавшегося за ним полицейского, его наставник и политический ментор член ЦК партии эсеров Наум Яковлевич Быховский обрадовался, но на всякий случай подождал предавать этот факт гласности и оказался прав) был болтлив, неосторожен и тем очень сердил своих серьезных товарищей, которые насмешливо звали его "гасконцем". Другим членам организации тех двадцати-тридцати рублей, которые выдавала партия, хватало на месяц, а "Алексей" тратил их за два дня, да и вообще был в финансовых делах неразборчив. Однажды в Ялте на даче у писателя С.Я.Елпатьевского, привечавшего революционеров, Грин украл одеяло, правда не для себя, а для своего товарища, но все равно прислуга Елпатьевского делала круглые глаза, а Быховский (которому, кстати, посвящен рассказ "Третий этаж" и который выведен в образе посланца партии Валериана в рассказе "Карантин") был просто вне себя от гнева. Быховский же оставил чудесные воспоминания о своем первом знакомстве с Грином, произошедшем в Тамбове в 1903 году: «Проснувшись утром, я увидел, что у противоположной стены спит какое-то предлиннющее тонконогое существо. Проснулся и хозяин комнаты, приведший меня сюда – А знаете, – сказал я ему, – я хочу у вас тут попросить людей для Екатеринослава, потому что люди нужны нам до зареза. – Что же, – ответил он мне, – вот этого долговязого можете взять, если желаете. Он недавно к нам прибыл, сбежал с воинской службы. Я смотрел на долговязого, как бы измеряя его глазами, разглядел, что он к тому же и сухопарый, с длинной шеей, и сразу представил себе его журавлиную фигуру, с мотающейся головой на Екатерининском проспекте, что будет великолепной мишенью для шпиков. – Ну этот слишком длинный для нас, его сразу же заметят шпики. – А покороче у нас нет. Никого другого не сможем дать… …Товарищ принес чайник с кипятком и разную снедь. Было уже 9 часов утра, но долговязый не просыпался. Наконец товарищ растормошил его. – Алексей, – сказал он ему, когда тот раскрыл заспанные глаза, – желаешь ехать в Екатеринослав. – Ну что же, в Екатеринослав так в Екатеринослав, – ответил он потягиваясь со сна. В этом ответе чувствовалось, что ему решительно безразлично, куда ехать, лишь бы не сидеть на одном месте". С ним не знали, что делать и какое ему найти применение. Из Екатеринослава, где он некоторое время спустя в отсутствие Быховского начал самовольничать, сплавили в Киев под начало известного эсера Степана Слетова по кличке Еремей, но там повторилась старая история: подпольщик Алексей ходил по пивным и сидел на шее у рабочих, которых пропагандировал, и тихо подрывал авторитет партии. Из Киева Слетов отправил Грина в Одессу, затем в Севастополь, и только в будущем своем Зурбагане, он нашел место. Гриневский вел пропаганду среди матросов и солдат севастопольской крепости и имел успех. Быховский позднее вспоминал: "Долговязый оказался неоценимым подпольным работником. Будучи сам когда-то матросом и совершив однажды дальнее плавание, он великолепно умел подходить к матросам. Он превосходно знал быт и психологию матросской массы и умел говорить с ней её языком. В работе среди матросов Черноморской эскадры он использовал все это с большим успехом и сразу же приобрел здесь значительную популярность. Для матросов он был ведь совсем свой человек, а это исключительно важно. В этом отношении конкурировать с ним никто из нас не мог". Весьма примечательно и другое воспоминание Быховского, прямо касающееся литературных наклонностей Грина. Однажды Наум Яковлевич сочинил прокламацию и продиктовал её своему подчиненному. «Некоторые выражения ему, кажется, не особенно нравились. Но я же не знал, что это будущий видный экзотический беллетрист, и потому не придавал особенного значения его критике. Помнится, однако, что ему хотелось придать этой прокламации необычную для такой литературы, своего рода беллетризированную форму". Быховский же первый признал у своего подопечного литературный талант: «Гм... гм… А знаешь, Гриневский, мне кажется, из тебя мог бы выйти писатель". Эти слова приводятся в воспоминаниях Н.Н. Грин, написанных со слов её мужа. Ничего подобного нет в мемуарах самого Наума Яковлевича, который пишет лишь о том, что не знал тогда, что имеет дело с будущим писателем, и очень может быть, что Грин напутственные слова задним числом ему приписал. Но это и не важно. Если кто-то в жизни Грина и должен был их произнести, то именно Быховский. Творить из собственной жизни легенду Грин умел не хуже любого творца серебряного века. "Это было, как откровение, как первая, шквалом налетевшая любовь. Я затрепетал от этих слов, поняв, что то единственное, что сделало бы меня счастливым, то единственное, к чему, не зная, должно быть с детства стремилось мое существо. И сразу же испугался: что я представляю, чтобы сметь думать о писательстве? Что я знаю? Недоучка! Босяк! Но… зерно пало в мою душу и стало расти. Я нашел свое место в жизни". Однако скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается В октябре 1903 года в Севастополе начались аресты. В ноябре арестовали Грина. Причем выдали его те самые люди, которых он агитировал. Уже задержанные полицией, двое его слушателей в качестве подсадных уток ходили по городу, пока не наткнулись на своего пропагандиста. Позднее в "Автобиографической повести" Грин написал, что 11 ноября 1903 года у него было нехорошее предчувствие и он упрашивал свою начальницу и ровесницу Екатерину Бибергаль, чтобы она разрешила ему остаться дома и не ходить на назначенное в тот день собрание, но "Киска" – такой была партийная кличка Бибергаль – подняла его на смех и назвала трусом. Грин не мог этого оскорбления стерпеть по причинам, к которым мы еще вернемся, и был пойман как рыба на крючок. «Меня отвели в участок; из участка ко мне в комнату, сделали обыск, забрали много литературы и препроводили Грина в тюрьму. Никогда не забыть мне режущий сердце звук ключа тюремных ворот, их тяжкий, за спиной, стук и внезапное воспоминание о мелодической песне будильника "Нелюдимо наше море". Он вошел в тюрьму в ноябре 1903 года и вышел оттуда два года спустя. В сущности для человека, дезертировавшего из армии и занимавшегося революционной пропагандой на флоте (в центральном архиве Военно-морского флота хранится судебно-следственное дело, где Грина обвиняют в "речах противоправительственного содержания" и "распространении" революционных идей, "которые вели к подрыванию основ самодержавия и ниспровержения основ существующего строя") это не так много. К тому же тюрьма, в которой он сидел, была очень либеральной – начальство хоть и воровало продукты, но зато днем двери в коридор не запирались и заключенные могли общаться друг с другом. Однако подобно тому, как есть люди, которые могут проводить в тюрьме годы, сохраняя выдержку, волю, работоспособность и ясный ум, как, например, народоволец Морозов, отсидевший двадцать пять лет в одиночной камере, занимавшийся толкованием Апокалипсиса и доживший до девяноста двух лет, есть и такие, кому тюрьма психологически противопоказана. Именно к ним и принадлежал Александр Грин. «Отведенный в камеру, я предался своему горю в таком отчаянии и исступлении, что бился о стену головой, бросился на пол, в безумии тряс толстую решетку окна и тотчас, немедленно, начал замышлять побег". Попыток побега было две, и обе оказались неудачными. Первый раз Грин должен был бежать с помощью Бибергаль, которая добыла тысячу рублей, купила парусное судно, чтобы отвезти беглеца в Болгарию, и подкупила извозчика. Однако побег не удался на самой первой стадии – из-за того, что в тот день во дворе тюрьмы сушили белье заключенный не смог покинуть территорию тюремного замка. (Любопытно, что три года спустя из Севастополя, правда не из городской тюрьмы, но из крепости совершит побег Борис Савинков). Посаженный после этого в карцер, Грин объявил четырехдневную голодовку, но как писал товарищ прокурора Симферопольского окружного суда прокурору Одесской судебной палаты – "когда ему было объявлено, что более строгое содержание его в тюрьме вызвано его же действиями, он изъявил желание принимать пищу и открыл свое имя и звание, назвав себя потомственным дворянином Александром Степановичем Гриневским". Потомственного дворянина судил военно-морской суд Севастополя и несмотря на то, что прокурор требовал двадцать лет каторжных работ, а тогдашний вице-адмирал Григорий Павлович Чухнин мечтал перевести город хотя бы на месяц на военное положение и вздернуть всех смутьянов на рее, Гриневского благодаря блестящей речи адвоката Зарудного присудили к десяти годам ссылки. Это открывало перед ним новые возможность бегства, но из-за бюрократических проволочек и после решения суда он продолжал находиться в тюрьме, и положение его почти не изменилось. «Я видел в снах, что я свободен, что я бегу или убежал, что я иду по улицам Севастополя. Можно представить мое горе при пробуждении! Тоска о свободе достигала иногда силы душевного расстройства. Я писал прошение за прошением, вызывал прокурора, требовал суда, чтобы быть хотя бы на каторге, но не в этом безнадежном мешке. После моего ареста отец, которому я написал, что случилось, прислал телеграмму: "Подай прошение о помиловании". Но он не знал, что я готов был скорее умереть, чем поступить так". Второй раз Грин попытался убежать из Феодосии, куда его временно перевели из Севастополя и где двадцать лет спустя поселится и будет жить до смерти, но и эта попытка не удалась. Освободили Грина по высочайшему манифесту от 17 октября 1905 года, когда освобождали всех политических. «Свобода, которой я хотел так страстно, несколько дней держала меня в угнетенном состоянии. Все вокруг было как бы неполной, ненастоящей действительностью. Одно время я думал, что начинаю сходить с ума. Так глубоко вошла в меня тюрьма! Так долго я был болен тюрьмой…" Тюрьма и в самом деле стала одним из самых кошмарных воспоминаний, творческих символов и устойчивых мотивов в прозе Грина. "Апельсины", "На досуге", "Сто верст по реке", "Трагедия плоскогорья Суан", "Рене", "Черный алмаз", "Бродяга и начальник тюрьмы", "Два обещания", "Блистающий мир", "Дорога никуда" – вот произведения Грина от самых первых до самых последних, его лучшие, психологические новеллы и романы, где так или иначе встречается описание тюрьмы, преследования и бегства из неё – либо удачного, как в "Черном алмазе", или же неудачного, как в "Дороге никуда". С этой темой Грин не расставался, заново её переживал, вспоминал, негодовал или смеялся, как в обаятельнейшем рассказе "Два обещания", где заключенного отпускают на день из тюрьмы, взяв с него честное слово, что он в тот же день вернется, и он возвращается, но той же ночью бежит, потому что… дал новое обещание – убежать. Но вот что интересно. Если в ранних рассказах герой-арестант Грина – это политический заключенный и особенно ярко эта тема раскрывается в рассказе "На досуге", где чистому, возвышенному революционеру, тоскующему о любимой женщине, противопоставлены похотливые, пошлые тюремщики, которые читают чужие письма и глумятся над чистой любовью (Вот характерный разговор между ними: "Разве без мужика баба обойдется? Врет! Просто туману в глаза пу¬щает, чтобы не тревожит письмами... – Само собой! – кивает писарь. – Я вот тоже думаю: у них это там – идеи, фантазии всякие... А о кроватке-то, поди – нет, нет – да и вспомнят!.."), то позднее акцент в рассказах Грина сменяется. И вот уже Нок из новеллы "Сто верст по реке" попадает в тюрьму за уголовное преступление, пусть даже совершенное из-за любви, и то же самое относится к Трумову из "Черного алмаза". Героя рассказа "Трагедия плоскогорья Суан" убийцу Блюма напротив вытаскивают из тюрьмы политики, для того чтобы он выполнял их задания. Политическим заключенным называет себя серийный убийца Шампилион в рассказе "Рене": "он надел маску политического заговорщика, чтобы хотя этим объяснить сложную таинственность своей жизни – роль выигрышная даже при дурном исполнении". Грин очень точно уловил и выразил близость политического террора к уголовщине, и к 1905 году был внутренне свободен от революционного дурмана, но тем не менее, выйдя из тюрьмы, опять направился к эсерам и снова перешел на нелегальное положение, став на сей раз мещанином местечка Новый Двор Волковышского уезда Гродненской губернии Николаем Ивановичем Мальцевым. И причиной тому была – любовь. 6 Грин давно любил ту женщину, которая в роковой ноябрьский день 1903 года отправила его на задание вопреки его предчувствиям, а потом безуспешно пыталась вытащить его из тюрьмы, но вместо этого сама угодила в ссылку в Холмогоры. Он любил Екатерину Александровну Бибергаль, он томился по ней, когда был в тюрьме, и о ней плакал герой рассказа "На досуге": "В камере палит зной. В решетчатом переплете ослепительно сверкает голубое, бесстыжее небо. Человек ходит по камере и, подолгу останавливаясь у окна, с тоской глядит на далекие, фиолетовые горы, на голубую, морскую зыбь, где растопленный, золотистый воздух баюкает огромные, молочные облака. Губы его шепчут: Катя, милая, где ты, где? Пиши мне, пиши же, пиши!.." Это к ней он приехал в ноябре в Петербург и умолял все бросить и пойти с ним, он любил её, но она его не любила, потому что была предана революции, и ничего с этим нельзя было поделать даже такому упорному и волевому человеку как Грин, готовому на любое преступление во имя своей любви. Он и преступил… Об отношениях Грина и Бибергаль, едва не закончившихся трагедией, рассказано в неопубликованной до сих пор части воспоминаний первой жены Александра Степановича Веры Павловны Калицкой, которые хранятся в РГАЛИ. "Киска - это партийное имя, так сказать, кличка, под которой скрывалась Екатерина Александровна Б. С этой девушкой была тесно связана полоса Жизни А.С. с 1903 по 1906 г. Их первая встреча с А.С.Грином тепло описана в рассказе А.С. "Маленький комитет". Героиня рассказа дана там в очень мягких, привлекательных тонах. К тому же времени относится и другой рассказ А.С-ча "На досуге". (...) Е.А.обещала выйти за него замуж. Но в Петербурге начались между ними нелады. Происходило это по-видимому из-за совершенно разного подхода их друг к другу и к революции. Е.А. была дочерью народовольца; и воспитание, и окружающая её действительность делали её убежденной революционеркой." В этом месте есть смысл прерваться и рассказать более подробно об отце той девушки, в которую был влюблен Грин. Александр Николаевич Бибергаль родился в 1854 году в Керчи в зажиточной еврейской семье. Он учился в Керченской гимназии, а затем в Петербурге по разным источникам в Ветеринарной или Медико-хирургической академии. Бибергаль был арестован в декабре 1876 года за участие в демонстрации возле Казанского собора. Это был знаменитый митинг после литургии в Казанском соборе в праздник Николая Чудотворца, на котором впервые в истории России было поднято красное знамя "Земли и воли" и публично выступил Плеханов. При Бибергале были найдены преступные стихи, в которых говорилось "о рабочих, возвращающихся после трудов на родину, где ожидает их всех старая бедность и больные в отрепьях дети. Один из числа пришедших, обращаясь к товарищам, говорит: пора перестать работать на врагов, бояр и попов, пора рабочей семье соединиться и перестать кормить злодеев". Двадцатидвухлетнего Бибергаля судил сенат, признал виновным в дерзостном порицании установленного законом образа правления, участником сопротивления полиции и автором возмутительных стихов и неоправданно жестоко (действительно эту суровость особенно по контрасту с последующим либерализмом властей понять трудно) приговорил к 15 годам каторги. Александр Николаевич отбывал заключение на знаменитой реке Каре, куда прибыл в 1878 году. За ним следом отправилась жена, а через год там же, на Каре, родилась Катя. (Тоже ведь поразительный штрих той Жизни: каторга каторгой, а детей рожали). По манифесту 1884 года срок каторги был сокращен, и Бибергаль вышел на поселение в Забайкальскую область. Позже переехал на Амур, где служил на золотых приисках. Однако к революционной деятельности в отличие от отца Грина не охладел. В статье А.А.Ромаса "Рабочее движение в Приамурском крае на втором этапе первой русской революции (17 октября 1905 - 22-26 января 1906 гг.), изданной в Благовещенском педуниверситете, читаем: "23 ноября 1905 года в Благовещенском затоне проводился молебен, во время которого был поднят красный флаг с надписью "Слава борцам за свободу". Рабочие исполнили песню "Вы жертвою пали". А потом выступил человек, которого не все знали, а имени его газетная хроника не сообщила. Он рассказал историю первого в России красного знамени, которое развевалось 6 декабря 1876 года на студенческой демонстрации у Казанского собора. Свою речь оратор закончил словами: "Да здравствует свобода! Да здравствует рабочее знамя!". Этим человеком был Бибергаль. О семье Бибергаля написано у Александра Солженицына в его книге "Двести лет вместе". "Революционная традиция иногда выныривает поразительно. Когда-то в 1876 году А.Бибергаль был осужден за участие в демонстрации на Казанской площади. И вот его старшая дочь поступила в Петербург на высшие курсы - в 1901, в точное 25-летие митинга на Казанской площади, арестована там же (А в 1908, в эсеровской группе, получила каторгу за покушение на в. кн. Владимира Александровича)". Вот с кем хотел породниться беглый солдат Оровайского батальона, едва окончивший самое скверное городское училище в Вятке. Но вернемся к мемуарам Калицкой: "Революционная деятельность отвечала характеру её, мужественному и великодушному. В А.С-че она видела только талантливого агитатора, в моменты увлечения становившегося вождем тех, кто его слушал. В это время Е.А. и сама увлекалась им. Способности А.С.-ча к пропаганде Е.А. высоко ценила и всячески поощряла его в этом направлении. Но для А.С. Киска была не только подпольщицей, революционный темперамент которой толкал его на работу, но, главным образом, красивой изящной девушкой, которой он хотел обладать. Время разлуки внесло горечь в их отношения. У А.С. создалось ложное представление, будто бы Е.А. была близка в Холмогорах со ссыльным, который вскоре умер. От этого на отношения легла тень, но все-таки ссора произошла по другой причине. А.С. участвовал в революционном движении, потому что оно привлекало его своей романтичностью. Кроме того, С-в, вовлекший его в партию, помог ему бежать из полка и таким образом избавил А.С. от ненавистной солдатчины. За свою деятельность революционера А.С. поплатился двумя годами одиночного заключения и приговором к ссылке в Восточную Сибирь. Это очень утомило, измучило А.С. и романтика подвига и риска для него потускнела. Захотелось покоя, отдыха и счастливой личной Жизни. Но Е.А. по-прежнему цельно отдавалась революционной деятельности. Она работала в военной организации" (...) Дальше - по загадочным причинам в хранящейся в РГАЛИ рукописи воспоминаний Калицкой нет одной очень важной страницы, однако восстановить суть происшедшего между двумя революционерами помогают другие, также неопубликованные воспоминания, принадлежащие литературоведу В. В. Смиренскому, знавшему Грина в 20-ые годы. "Киска" была умна, порывиста, эксцентрична. Обоих, естественно, сближала общность взглядов, настроений и мыслей. Она хорошо относилась к Грину, но не любила его. И в первых числах января 1906 года они окончательно разошлись. Разрыв этот мог бы дорого обойтись Грину. Очень несдержанный, вспыльчивый, в ярости бессилия и гнева (в такие минуты Грин был всегда страшен), он выхватил револьвер и выстрелил в "Киску" в упор. Пуля попала ей в грудь. Девушка была доставлена в Обуховскую больницу, где её оперироровал знаменитый хирург – профессор И.И.Греков. Грина "Киска" не выдала…" А вот как описывается разрядка этой истории у Калицкой. "Пуля попала в грудную клетку, в левый бок, но прошла неглубоко. Е.А. нашла в себе силы выйти в комнату хозяев и попросила их пойти уговорить Алексея покинуть квартиру. Хозяева так и сделали. Рана оказалась не тяжелой. Оперировал проф. Греков, и Е.А. вскоре поправилась. А.С. несколько раз пытался поговорить с Е.А. наедине, но это ни разу ему не удалось. Е.А. просил своих друзей не оставлять её одну с А.С. Так кончились их отношения В январе 1906 г. А.С. был вновь арестован и попал в Выборгскую одиночную тюрьму "Кресты", где просидел до мая. В мае он был переведен в Пересыльную тюрьму, а оттуда выслан в Сибирь. Когда в 1915 г. вышла книга А.С-ча "Штурман четырех ветров", Е.А. была на каторге по политическому делу. А.С. послал ей туда свою книгу, и Е.А. узнала себя в героине "Маленького комитета". (…) После ареста А.С-ча в январе 1906 г. они с Киской никогда не виделись". 7 Потом, когда за Грином потянется шлейф легенд, то согласно одной из них - свою первую жену он убил. Это будет ужасно смешить и возмущать Нину Николаевну Грин, но в действительности не жену, конечно и не убил - а все же дыма без огня, как видно, не бывает. (Иногда встречаются утверждения, что Грин стрелял не целясь - может быть и так, но пуля, попавшая девушке в левый бок, там, где сердце - это говорит само за себя). Образ Екатерины Александровны Бибергаль вошел в художественную прозу Грина и преломился в ней самым причудливым образом. В ранних рассказах он очень трогателен, нежен и имеет мало общего с революционной Дианой, на которую покушался будущий писатель. Так, в рассказе "Маленький комитет", который упоминает Калицкая, Грин написал про революционера Геника, которого присылают в южный город вести революционную работу. В чертах Геника очень много автобиографического. "Генику двадцать лет, он верит в свои организаторские таланты и готов помериться силами даже с Плехановым. А романтическое и серьезное положение "нелегального" заставляет его еще плотнее сжимать безусые губы и насильно морщить гладкий розовый лоб". И вот этот самый нелегал приезжает по заданию своей партии к молодой девушке-эсерке, в комнате у которой висят "пришпиленные булавками Бакунин, Лавров, террористы и Надсон". Они говорят о революции, и оказывается, что никакой революционной организации в городе нет, все её члены давно арестованы и письма в центр писала эта девушка, подписываясь словом "комитет". "На другой день вечером Геник сел писать подробнейшую реляцию в "центр". Между прочим, там было написано следующее: "Комитет ходит в юбке. Ему девятнадцать лет, у него русые волосы и голубые глаза. Очень маленький комитет". Продолжением этого и в самом деле нежного рассказа стала новелла "Маленький заговор". В ней снова действует тот же самый Геник, к которому на сей раз приходит девушка по имени Люба. Люба хочет совершить теракт, и, глядя на неё, Геник понимает весь ужас того, что это молодое существо погибнет. Он отправляет её в другой город, якобы для "карантина", а на самом деле для того, чтобы она исчезла с поля зрения его соратников из комитета. А потом появляется и сам комитет, на сей раз нормальный, не маленький, состоящий из трех здоровых мужиков-революционеров, которые начинают обсуждать деловые качества Любы с тем же практицизмом и знанием дела, с каким обсуждаются женские достоинства: послушна как монета, конспиративный инстинкт, девушка с характером, твердо и бесповоротно решила пожертвовать собой, "глубокая, мучительная жажда подвига, рыцарства" - словом, вполне подходящая кандидатура для того, чтобы её разорвало бомбой вместе с каким-нибудь генералом. Геник пытается отговорить своих товарищей от того, чтобы использовать Любу в теракте. "Я ведь думал... Я долго и сильно думал... Я пришел к тому, что - грешно... Ей-Богу. Ну хорошо, её повесят, где же логика? Посадят другого фон-Бухеля, более осторожного человека... А её уже не будет. Эта маленькая зеленая Жизнь исчезнет, и никто не возвратит её. Изобьют, изувечат, изломают душу, наполнят ужасом... А потом на детскую шею веревку и - фюить. А что, если в последнее мгновение она нас недобрым словом помянет?" Характерно разное отношение членов партии к тому, что он говорит: "Маслов слушал и понимал Геника, - но не соглашался; Чернецкий понимал, - но не верил; Шустер просто недоумевал, бессознательно хватаясь за отдельные слова и фразы, внутренне усмехаясь чему-то неясному и плоскому". И вот окончательный вывод, своего рода моральный приговор, который выносит партия Генику: "Я думал, представьте, что вы партийный человек, революционер. (..) А вы идите себе с Богом в монахи, что ли... или в толстовскую общину... да!.. (...) Вы говорите, её могут повесить... Да это естественный конец каждого из нас! То, что вы здесь наговорили, - прямое оскорбление для всех погибших, оскорбление их памяти и энтузиазма... Всех этих тысяч молодых людей, умиравших с честью!" Геник уходит от них непонятый, а Любу спешно возвращают из карантина и готовят к заданию. Тем заканчивается рассказ. Любопытно, что схожая ситуация описана и у Савинкова в "Воспоминаниях террориста", и в данном случае Савинков скорее солидаризируется с героем Грина. Вот как описывается разговор Савинкова и Азефа о возможном использовании Доры Бриллиант в теракте: "Я сказал, что я решительно против непосредственного участия Доры в покушении, хотя также вполне в ней уверен. Я мотивировал свой отказ тем, что, по моему мнению, женщину можно выпускать на террористический акт только тогда, когда организация без этого обойтись не может. Так как мужчин довольно, то я настойчиво просил бы ей отказать. Азеф, задумавшись, молчал. Наконец он поднял голову. - Я не согласен с вами... По-моему, нет основания отказать Доре... Но если вы так хотите... Пусть будет так." Маленькие девушки из обоих "маленьких" рассказов Грина совершенно не походили на решительную Катю Бибергаль с её потомственными революционными генами, тут была скорее попытка выдать желаемое за действительное, Бибергаль менее всего была игрушкой в чужих руках и, год спустя возвращаясь к этой теме, Грин совершенно иначе напишет о своей возлюбленной. На смену кроткой, женственной девушке придет независимая, властная натура одного из самых пессимистических рассказов Грина - "Рай", где собрались вместе за отравленным обедом несколько самоубийц и каждый из них рассказывает свою историю. Среди них -"женщина неизвестного звания". "Я состарилась; мне всего 23 года, но иногда кажется, что прошли столетия с тех пор, как я родилась, и что все войны, республики, эпохи и настроения умерших людей лежат на моих плечах. Я как будто видела все и устала. Раньше у меня была твердая вера в близкое наступление всеобщего счастья. Я даже жила в будущем, лучезарном и справедливом, где каждый свободен и нет страдания. У меня были героические наклонности, хотелось пожертвовать собой, провести всю Жизнь в тюрьме и выйти оттуда с седыми волосами, когда Жизнь изменится к лучшему. Я любила петь, пение зажигало меня. Или я представляла себе огромное море народа с бледными от радости лицами, с оружием в руках, при свете факелов, под звездным небом. Теперь у меня другое настроение, мучительное, как зубная боль. Откуда пришло оно?.. Я не знаю. (…) Прежде из меня наружу торчали во все стороны маленькие, острые иглы, но кто-то притупил их. Я начинаю, например, сомневаться в способности людей скоро завоевать будущее. Многие из них кажутся мне грязными и противными, я не могу любить всех, большинство притворяется, что хочет лучшего. Как-то, два года назад, мы шли целой гурьбой с одного собрания и молчали. Удивительное было молчание! Это было ночью, весной. Какая-то торжественная служба совершалась во мне. Земной шар казался круглым, дорогим человечком, и мне страшно хотелось поцеловать его. Я не могла удержаться, потому что иначе расплакалась бы от возбуждения, сошла с тротуара и поцеловала траву. (…) Потом я любила. Мы разошлись ужасно глупо: он хотел обвенчаться и показался мне мещанином. Теперь он за границей." В реальной Жизни за границу уехала, а потом вернулась в Россию и пошла на каторгу она и никакого разочарования в своей деятельности не испытала. Но то, что Грин заочно записал Бибергаль в клуб самоубийц, обнаруживает его глубокую интуицию по отношению не к самой Екатерине Александровне, но тому типу людей, к которому она принадлежала. "Мотив самопожертвования, сопровождавший террористические акты, привел американских историков Эми Найт и. Анну Гейфман к заключению, что, возможно, многие террористы имели психические отклонения и их участие в террористической борьбе объяснялось тягой к смерти. Не решаясь покончить самоубийством, они нашли для себя такой нестандартный способ рассчитаться с Жизнью, да еще громко хлопнув при этом дверью. Для тех террористов, которые были воспитаны в христианской традиции, расценивающей самоубийство как грех, подобный выход становился едва ли не единственным", - пишет О.В. Будницкий. Мало-помалу Катя Бибергаль все больше и больше стала превращаться в литературный персонаж. Маятник гриновской фантазии качался то в одну, то в другую сторону и подобно тому, как в маленьких - "Комитете" и "Заговоре" - Грин пытался свою возлюбленную обелить, в "Рае" её демонизирует и приписывает то, чего в ней не было, а переживалось им самим. Кульминацией движения этого маятника становится рассказ "Земля и вода", тот самый, о котором пишет Калицкая, что в нем изображена "сила и безысходность неразделенной любви". Если согласиться с мемуаристкой, что этот рассказ был навеян образом Кати Бибергаль (а Калицкой нет никаких оснований не доверять, ибо она могла знать это от самого Грина), то здесь мы встречаем единственный художественный портрет роковой революционерки. "Эта женщина небольшого роста, смуглая в тон волос, пышных, но стиснутых гребнями. Волосы и глаза темные, рот блондинки - нежный и маленький. Она очень красива, Лев, но красота её беспокойна, я смотрю на неё с наслаждением и тоской; она ходит, наклоняется и говорит иначе, чем остальные женщины; она страшна в своей прелести, так как может свести Жизнь к одному желанию. Она жестока; я убедился в этом, посмотрев на её скупую улыбку и прищуренные глаза, после тяжелого для меня признания". Именно в эту женщину имел несчастье влюбиться главный герой некто Вуич, ради неё приезжает из деревни, где ему было очень сладко жить на лоне природы, в город, в котором все ему отвратительно, но он одержим любовью и потребность видеть предмет любви так велика, что хотя девушка его отвергает, Вуич, переступив через гордость, решается идти к ней опять. Но на пути у влюбленного встает… землетрясение. (Так что ялтинское землетрясение, остановившее Остапа Бендера - литературно вторично). Описание этого землетрясения, составляющее композиционный центр рассказа, предвосхищает современные фильмы ужасов и катастроф - Грин вообще очень кинематографичный писатель: "Грохот, напоминающий пушечную канонаду, раздавался по всем направлениям; это падали, равняясь с землей, дома. К потрясающему рассудок гулу присоединился другой, растущий с силой лавины, - вопль погибающего Петербурга. Фасад серого дома на Адмиралтейском проспекте выгнулся, разорвал скрепы и лег пыльным обвалом, раскрыв клетки квартир, - богатая обстановка их показалась в глубине каждого помещения. Я выбежал на полутемную от пыли Морскую, разрушенную почти сплошь на всем её протяжении: груды камней, заваливая мостовую, подымались со всех сторон. В переулках мчалась толпа; множество людей без шляп, рыдая или крича охрипшими голосами, обгоняли меня, валили с ног, топтали; некоторые, кружась на месте, с изумлением осматривались, и я слышал, как стучат их зубы. Девушка с растрепанными волосами хваталась за камни в обломках стен, но, обессилев, падала, выкрикивая: "Ваня, я здесь!" Потерявшие сознание женщины лежали на руках мужчин, свесив головы. Трупы попадались на каждом шагу, особенно много их было в узких дворах, ясно видимых через сплошные обвалы. Город потерял высоту, стал низким; уцелевшие дома казались среди развалин башнями; всюду открывались бреши, просветы в параллельные улицы, дымные перспективы разрушения. Я бежал среди обезумевших, мертвых и раненых. Невский проспект трудно было узнать. Адмиралтейский шпиц исчез. На месте Полицейского моста блестела Мойка, вода захлестывала набережную, разливаясь далеко по мостовой. Движение здесь достигло неслыханных размеров. Десятки трамвайных вагонов, сойдя с рельс, загораживали проход, пожарные команды топтались на месте, гремя лестницами и крючьями, дрожали стиснутые потоком людей автомобили, лошади становились на дыбы, а люди, спасаясь или разыскивая друг друга, перелезали вагоны, ныряли под лошадей или, сжав кулаки, прокладывали дорогу ударами. Некоторые дома еще держались, но угрожали падением. Дом на углу улицы Гоголя обвалился до нижнего этажа, балки и потолки навесами торчали со всех сторон, под ногами хрустели стекла, фарфор, картины, ящики с красками, электрические лампы, посуда. Множество предметов, чуждых улице, появилось на мостовой - от мебели до женских манекенов. Отряды конных городовых, крестясь, без шапок двигались среди повального смятенья неизвестно куда, должно быть, к банкам и государственным учреждениям". Но самое поразительное, что все это описание нужно автору лишь для одного. Когда Вуич в этом аду отыскивает свою Мартынову и выносит её из рушащегося дома, она отталкивает его, потому что не хочет быть ему ничем обязанной. " - Последнее, что я услышал от неё, было: "Никогда, даже теперь! Уходите, спасайтесь". Она скрылась в толпе; где она - жива или нет? - Не знаю". Вот как преломилось в прозе Грина роковое объяснение между двумя влюбленными в декабре 1905 года. Подобно тому, как в "Рае" Грину потребовалось самоубийство, эквивалентом драмы неразделенной любви в "Земле и воде" стало не больше не меньше чем землетрясение. Не всякая женщина похвастается такими ассоциациями. Но вряд ли полученные на каторге рассказы Грина сильно тронули Киску и она пожалела о том, что не послушалась Долговязого и не ушла с ним в мирную Жизнь. Бибергаль была стойким бойцом. Сохранилась её фотография 1915 года на нерчинской каторге, куда она попала после неудачного покушения на великого князя Владимира, о котором упоминает Солженицын. На фотографии весь цвет женщин-эсерок - Спиридонова, Школьник, Бронштейн, Измайлович, Зверева, Беневская, Полляк, Бибергаль... Всего тринадцать человек. Чертова дюжина. В ссылке она пробыла до февральской революции. В двадцатые годы была членом общества политкаторжан. В журнале "Каторга и ссылка" о ней вспоминали довольно часто. Год её смерти – 1937. А умерла ли она своей смертью или была убита в расстрельном году теми, кого привела её партия к власти – неизвестно. Грин так высоко в партийной иерархии никогда не поднимался и в политзаключенные попасть не стремился. В самом конце Жизни, когда ему пришлось совсем худо и он задыхался от нужды, знакомые посоветовали обратиться за пенсией для ветеранов революции, на что он замечательно глубоко ответил: "Не хочу существовать на подачку, переходить на инвалидность, а политической пенсии тем более не хочу. Я всю свою зрелую Жизнь был писателем, об этом только и мыслил, этим только и жил. Им я и буду до конца. От политики я раз и навсегда ушел в молодости и питаться за счет того, что стало мне чужим и ненужным никогда не буду. В молодости отдавал себя политике, но и вырос за этот счет. Следовательно, мы квиты с нею. И вопрос кончен". 8 Однако именно политика подарила ему более сговорчивую подругу. Они познакомились в "Крестах", куда Грин попал вскоре после приезда в Петербург и окончательного разрыва с Бибергаль. Это был совершенно случайный и тем особенно досадный арест, но более всего подвело Грина то, что у него был опять подложный паспорт и полиция этот подлог быстро раскрыла, вынудив сознаться арестованного во время облавы 7 января 1906 года мещанина Николая Ивановича Мальцева в том, что он никакой не Мальцев, а дворянин Александр Степанов Гриневский. Поначалу Грина навещала и носила передачи в темницу его сводная сестра Наталья, которую взяли в младенчестве из приюта родители Грина, покуда у них не было своих детей, а потом вынуждены были отдать в чужие руки и которая, как видно, не держала зла на их семью. (В "Автобиографической повести" Грин также отмечает, что во время заключения в севастопольской тюрьме его посетила, проезжая из Анапы, его сводная сестра: "оставила мне рубль, просидела с час и ушла"). Но в мае она должна была уехать, и Наталье Степановне посоветовали найти для Грина "тюремную невесту" - девушку, приходящую на свидания к заключенным, у которых в Петербурге не было ни родных, ни знакомых. Этой невестой Грина стала Вера Павловна Абрамова, дочь богатого чиновника, сочетавшего успешную карьеру и награды с либеральными убеждениями, выпускница Бестужевских курсов, идеалистка, сочувствующая революционному движению и работавшая на общественных началах в "Красном Кресте", при котором и существовала "ярмарка" подобных невест. Во время второго тюремного заключения Грин был совсем не тот, что два года назад. Тогда ему было понятно, за что он сидит, он был полон ярости и ненависти и отказывался от сотрудничества со следствием и строил планы побега - теперь же писал покаянные письма правительству и просил об одном - его выпустить. "Ни при мне, ни на квартире моей не было найдено ничего, что могло бы дать повод к такому несправедливому заключению меня в тюрьму. Если раньше, до амнистии, мое заключение и могло быть оправдываемо государственными соображениями, общими для всех политических преступников, то теперь после амнистии, не имея ничего общего ни с революционной или с оппозиционной деятельностью, ни с лицами революционных убеждений - я считаю для себя мое настоящее положение весьма жестоким и не имеющим никаких разумных оснований, тем более что и арестован я был лишь единственно по подозрению в знакомстве с лицами, скомпрометированными в политическом отношении. На основании вышеизложенного честь имею покорнейше просить Ваше высокопревосходительство сделать надлежащее распоряжение об освобождении меня из тюрьмы, с разрешением проживать в г.С.-Петербурге". Ему отказали. И в мае 1906 года отправили в ссылку в Тобольск, откуда два месяца спустя политический заключенный Гриневский, воспользовавшись большим скоплениям народа, бежал. На сей раз удачно. Сначала в Самару и Саратов, потом в Петербург, оттуда в Вятку. Отец, пользуясь служебным положением, рискуя карьерой и добрым именем, помог добыть ему паспорт на имя почетного гражданина Вятки Алексея Алексеевича Мальгинова (сам Мальгинов незадолго перед этим скончался в земской больнице), и с этим паспортом, уже третьим по счету чужим документом в своей Жизни, Грин приехал в Петербург. И пошел сначала к тюремной невесте, которая менее всего ожидала увидеть у дверей своей квартиры тюремного "жениха", а потом к эсерам. Но ни с Быховским, ни со Слетовым дело не заладилось, видимо, после истории с покушением на Бибергаль, когда партия могла потерять столь ценного человека, как Киска, они были Грином и его "гасконскими" похождениями и неизменными привычками сыты по горло и отказались дать ему работу. Но все же сделали заказ на письменный текст агитационного характера. Именно при таких обстоятельствах был написан самый первый рассказ Грина "Заслуга рядового Пантелеева", за который автор от книгоиздательства Мягкова получил свой первый гонорар 75 рублей - деньги, которые должны были показаться ему немалыми и изрядно подхлестнуть к занятиям литературным трудом. Тираж этого рассказа, где описывалась карательная операция армии против крестьян и "подвиг" рядового, застрелившего по приказу пьяного офицера ни в чем не повинного деревенского парня - был арестован и совершенно случайно сохранилось несколько брошюр, одна из которых была найдена в архивах и опубликована в шестидесятые годы. Вслед за этим Грин пишет еще один агитационный рассказ "Слон и Моська" также на армейскую тему и также уничтоженный еще в типографии на том основании, что он "заключает в себе возбуждение к нарушению воинскими чинами обязанностей военной службы". После этого писать по заказу партии прекращает и выбирает путь свободного литератора. Это очень понятно, трудно представить Грина партийным писателем, но есть одна подробность, которую приводит в своих воспоминаниях Вера Павловна Калицкая и которая в жизнеописаниях Грина никогда не упоминалась вероятно для того, чтобы ничем не замарать облик писателя-романтика. А между тем подробность довольно существенная. Калицкая рассказывает о том, как однажды Наум [Яковлевич - FV] Быховский попросил Грина написать некролог для "Революционной России" об одном из казненных революционеров (это была лично знакомая Грину Лидия Стуре - впоследствии она станет прообразом героини "Рассказа о семи повешенных" Леонида Андреева) и приводит его собственный рассказ о том, что из этого вышло. "А.С. сел и написал; я плакал, читая, так сильно это было написано. И вдруг Алексей говорит: - А теперь гонорар. Это за статью о казненном товарище! Я разозлился и стал гнать его вон. Алексей пошел к дверям, остановился на полдороге и сказал: - Ну дай хоть пятерку!" Сердечный товарищ Н. Я. не мог без ужаса вспоминать о таком цинизме, а между тем этот цинизм вовсе не обозначал бесчувствия. Способность глубоко чувствовать уживалась в Ал. Ст. с неистребимой практичностью". (РГАЛИ, ф. 2550 - оп.2 - ед.хр.620) Для сравнения вспомним, что Леонид Андреев от авторских прав на свой "Рассказ о семи повешенных" отказался и разрешил его свободную перепечатку. Разумеется один из самых богатых писателей своего времени, он мог себе позволить то, чего не мог Грин. И все же можно представить, какое впечатление это производило. Рассказу Быховского можно было бы и не поверить. Но если почитать последующую переписку Грина с редакторами литературных журналов как дореволюционных, так и после, почитать мемуары Паустовского, Миндлина, Слонимского и других сочувствующих Грину писателей, то везде можно увидеть один и тот же мотив - романтик Грин всегда был очень жесток, требователен и даже занудлив в финансовых вопросах, прося деньги у всех кого можно - своего адвоката, своего критика, редактора, при том, что само отношение к этим деньгам у него было своеобразное: получив их, Грин стремился как можно скорее от денег избавиться - черта, сохраненная им до конца дней. Но может быть именно эта практичность в сочетании с мотовством и стала последней каплей в отношениях между Грином и партией, хотя истинные причины лежали конечно глубже - Грин отошел от революции, потому что стал писателем, нашел себя и нашел себе куда более интересное поприще. Грину вообще очень сильно повезло, что он оказался наделен литературным талантом. Когда б не этот талант, неизвестно, как сложилась бы его судьба, вероятно что-нибудь вроде судьбы обитателей горьковского "дна", ибо всякая обыденная деятельность с юности претила его существу. Об этом писала и его первая жена: "Из всех человеческих дел Грин любил только литературу и только одно умел делать – писать". Но сколько бы впоследствии он о революции и революционерах ни писал, отзывался о них насмешливо. Так, в "Приключении Гинча" выведен сатирический образ подпольщика, который пытается привлечь главного героя к работе, а когда тот отказывается, признается: "- Я тоже не люблю людей (…) И не люблю человечество. Но я хочу справедливости". Эта жажда справедливости вообще, уживающаяся с ненавистью к людям - очень точная черта всего русского освободительного движения от декабристов до марксистов, и, пожалуй, во всей нашей литературе начала века ни у кого кроме Грина не было такого скрупулезного, критического отношения к революции и революционерам в сочетании с личным революционным опытом и взглядом изнутри, а не извне, как например, у Бунина или Андрея Белого. Еще более жестко и насмешливо, словно недоумков Грин изобразит революционеров в несколько лет спустя в рассказе "История Таурена", показав, как "от телятины погибла идея" и анархист стал предателем, потому что ему захотелось вкусно пить, есть и спать с женщинами, но один революционный трофей Грину все же достался. Тюремная невеста с именем любимой героини романа "Что делать?" стала Грину женой, сначала гражданской, а потом законной. "Вот и определилась моя судьба: она связана с Жизнью этого человека. Разве можно оставить его теперь без поддержки? - спрашивала себя она и отвечала: - Ведь из-за меня он сделался нелегальным". Ей исполнилось в ту пору 24 года и, как сама она пишет в своих воспоминаниях, до сих пор никто из мужчин, кроме отца и дяди, её не целовал. Поцеловавший её вопреки всем правилам приличия еще во время тюремного свидания на глазах у надзирателя арестант в потертой пиджачной тройке и синей косоворотке стал первым. "Поцелуй Гриневского был огромной дерзостью, но вместе с тем и ошеломляющей новостью, событием". И когда он внезапно вернулся из Сибири, как она могла поверить в то, что он сделал это не ради неё? Вера Павловна влюбилась в него со всей страстью и благодарностью нерастраченной женской натуры, и - надо отдать Грину должное - он это оценил. Она была совсем другой, чем женщины-эсерки, она не требовала от него подставлять голову под гильотину революции или же красть деньги из банка, и предстала добрым ангелом, спасителем, сестрой милосердия, и он щедро отблагодарил её в своей прозе. Он был Нок, а она была Гелли из рассказа "Сто верст по реке". Нок убежал из тюрьмы, куда попал по вине обманувшей его, толкнувшей на преступление злой и хищной женщины, а Гелли его не выдала и спасла. У Нока до встречи с ней были лишь мысли "о своем диком, тяжелом прошлом: грязном романе, тюрьме, о решении упиваться гордым озлоблением против людей, покинуть их навсегда если не телом, то душой; о любви только к мечте, верной и нежной спутнице исковерканных жизней". А случайно встреченная Ноком на реке Гелли стала воплощением этой мечты. Краснея, багровея и алея, как будущие корабельные паруса, она вытерпела все выходки мужского шовинизма и оскорбления, выпавшие на её голову как на представительницу женского рода ("женщины - мировое зло! Мужчины, могу сказать без хвастовства, - начало творческое, положительное… Вы же начало разрушительное!… Вы неорганизованная стихия, злое начало. Хоть вы, по-видимому, еще девушка… я могу вам сказать, что... значит... половая стихия. Физиологическое половое начало переполняет вас и увлекает нас в свою пропасть… все интересы женщины лежат в половой сфере, они уже по тому самому ограниченны. женщины мелки, лживы, суетны, тщеславны, хищны, жестоки и жадны. Вы, Гелли еще молоды, но когда в вас проснется женщина, она будет ничем не лучше остальных розовых хищников вашей породы, высасывающих мозг, кровь, сердце мужчины и часто доводящих его до преступления), и получила за это свою награду. Заканчивая рассказ "Сто верст по реке", Грин написал - "Они жили долго и умерли в один день". Этой же фразой заканчивается и другой, более ранний рассказ Грина - "Позорный столб", история человека, который похитил не любившую его девушку, был наказан за этот поступок тем, что его привязали к позорному столбу, а потом девушка уходит вместе с ним из колонии, потому что ей не будет Жизни среди людей. "Люди ненавидят любовь". Герои Грина её любят, и потому отвержены обществом, но теперь из политического Грин переносил этот конфликт в абстрактную плоскость и потому не имеет значения, в какой стране и в какое время это происходит. Его герои получают везде свою награду. "Они жили долго и умерли в один день". Так было в сказке - в реальной Жизни Александр Степанович и Вера Павловна прожили то вместе, то порознь семь очень трудных лет, часто ссорились и с годами все меньше понимали друг друга. Во всяком случае женские надежды, что Грин устал от Жизни и мечтает о покое и уюте оказались, несколько преждевременными. Отойдя от эсеров, Грин все больше связывался с литературной богемой - сначала, как иронически вспоминала Калицкая, в роли "пассажира", потом завсегдатая; он много пил, просаживал деньги, и свои и те, что она зарабатывала, а когда она пыталась экономить, ругал её за мещанство и показывал пример, как надо к деньгам относиться. Словом, настоящий был писатель. Позднее в "Приключении Гинча" это отразится чудесной фразой, обращенной к литераторам и чем-то предсказывающей будущий "праздник жизни" в "Калине красной" Шукшина: Русские цветы, взращенные на отравленной алкоголем, конституцией и Западом почве! Я предлагаю снизойти до меня и наполнить все рестораны звонким разгулом. Денег у меня много, я выиграл пятьдесят тысяч! Грин, правда, столько никогда не выигрывал. Но "если деньги получал Александр Степанович, он приходил домой с конфетами или цветами, но очень скоро, через час-полтора, исчезал, пропадал на сутки-двое и возвращался домой больной, разбитый без гроша. (…) В периоды безденежья Александр Степанович впадал в тоску, не знал, чем себя занять, и делался раздражительным (…) Он одновременно искал семейной жизни, добивался её и в то же время тяготился ею, когда она наступала (…) Трудно понять, что было ему нужнее в те годы: уют и душевное тепло или ничем не обузданная свобода, позволяющая осуществлять каждую свою малейшую прихоть". Она любила, но не понимала его, и честно это признавала: "Его расколотость, несовместимость двух его ликов: человека частной Жизни - Гриневского и писателя Грина била в глаза, невозможно было понять её, примириться с ней. Эта загадка была мучительна…" "В отношении к своему творчеству А.С. был строго принципиален, тверд и независим, чего нельзя сказать относительно его "личной Жизни". "Грин-писатель и Грин-человек совершенно разные личности". Она пыталась от него уйти еще в 1908-ом. Сняла комнату - сначала в том же доме, потом переехала на 9-ю линию Васильевского Острова, куда ежедневно приходил обедать и оставался допоздна "молодой, плохо одетый" человек. Хозяйки - две чопорные, почтенные немки - были в шоке и в конце концов указали квартирантке на дверь. После этого любовники стали опять жить вместе. Но лучше не стало. Гриневский буйствовал, безбожно врал и ни с кем не считался, писатель Грин писал все лучше и лучше и литературная общественность его признала. Это произошло не сразу: первые рассказы Грина были отвергнуты Короленкой с резолюцией - можно печатать, а можно и не печатать. Ничего не ответил Грину Горький, когда тот написал самому знаменитому после Льва Толстого русскому писателю начала века почтительное письмо и просился напечататься в "Знании". Но зато Грина опубликовал "Новый журнал для всех", издаваемый Миролюбивым, зато в 1908 году "Русская мысль" напечатала "Телеграфиста". А в самом начале 1910-го вышла вторая книга рассказов, которую сам автор считал первой, навсегда забыв о злополучной "Шапке-невидимке". Но тему революции и революционеров не оставил. 9 В 1910 году, Грин пишет еще один замечательный рассказ на экзотическом материале, но с чисто русской фактурой и автобиографическим подтекстом. Рассказ этот называется "Трагедия плоскогорья Суан" и сопровождается эпиграфом из Библии: "Кто из вас приклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего" (Исаия 42, 23). В этом рассказе несколько героев. Хейль и Фирс - два партийных деятеля, которые вытащили из тюрьмы и используют в своих целях уголовника Блюма, чья биография "укладывается в одной строке: публичный дом, исправительная колония, тюрьма, каторга". Эти двое уверены в своем интеллектуальном и нравственном превосходстве и над Блюмом и над всем миром, и Блюм им нужен для того, чтобы это превосходство доказать. Утверждать прямо, что этот треугольник повторяет отношения Быховского-Слетова-Гриневского невозможно, но очевидно, что глубоко в подтексте такая ассоциация у Грина была. Просто вместо себя, человека к революции не подошедшего, не преступника - Грин создал образ того, кого эсеры искали и кто бы им подошел. Вот кредо Хейля - замените журналист на писатель - чем не Борис Савинков с его культом утонченных психологических наслаждений и переживаний? "Я честолюбив, люблю опасность, хотя и презираю её; недурной журналист, и - поверьте - наслаждаться блаженством Жизни, сидя на ящике с динамитом, - очень тонкое, но не всякому доступное наслаждение". А между тем сам Блюм этих людей презирает: "Кровавые ребятишки (…) В вас мало едкости. Вы не настоящая серная кислота. Я кое-то обдумал на этот счет. В вас нет прелести и возвышенности совершенства. Согласитесь, что вы бьете дряблой рукой". Все это чем-то еще напоминает отношения Ставрогина, Верховенского, Федьки-каторжника - политика смешанная с уголовщиной, уголовщина - как политика, к чему уже несколько десятилетий шла Россия. Блюм похож на также и на другого героя "Бесов" - Шпигалева и излагаемая им политическая программа приобретает зловещие черты антиутопии: "Я мечтаю о тех временах, Фирс, когда мать не осмелится погладить своих детей, а желающий улыбнуться предварительно напишет духовное завещание. Я хочу плюнуть на веселые рты и раздавить их подошвой так, чтобы на внутренней стороне губ отпечатались зубы. (…) Придет время, - угрюмо произнес Блюм, - когда исчезнут леса; их выжгут люди, ненавидящие природу. Она лжет." Но именно в мир природы попадает этот вынужденный бежать из города человек. Вообще сюжет "Плоскогорья Суан" чем-то повторяет историю, рассказанную в "Карантине", но с совершенно иными логическими акцентами. После ряда заказных убийств Блюм вынужден скрываться от полиции в тихом, идиллическом месте, а через некоторое время за ним приезжает Хейль и дает новое задание, но Блюм, как некогда Сергей, отказывается. Правда, причины у него другие. Вот диалог Хейля и Блюма. политика и уголовника. Очень сильно напоминающий то, что пережил Грин в молодости. "- Вы ренегат, что ли? - Я преступник, - тихо сказал Блюм, - профессиональный преступник. Мне, собственно говоря, не место у вас (..) вы решили, что я человек отчаянный, и предложили мне потрошить людей хорошо упитанных, из высшего общества. Мог ли я отказать вам в такой безделке, - я, которого смерть лизала в лицо чаще, чем сука лижет щенят. Вы меня кормили, одевали и обували, возили меня из города в город на манер багажного сундука, пичкали чахоточными брошюрами и памфлетами, кричали мне на одно ухо "анархия", в другое "жандармы!", скормили полдесятка ученых книг (...) Вы бьете все мимо цели, все мимо цели, милейший. Я не одобряю ваших теорий, - они слишком добродетельны, как ужимочки старой девы. Вы натолкнули меня на гениальнейшее открытие, превосходящее заслуги Христофора Колумба. (...) Вы уйдете с сознанием, что все вы - мальчишки передо мной. Что нужно делать на земле. (...) "Сочинения Блюма. О людях. Следует убивать всех, которые веселы от рождения. Имеющие пристрастие к чему-либо должны быть уничтожены. Все, которые имеют зацепку в Жизни, должны быть убиты. Следует узнать про всех и, сообразно наблюдению, убивать. Без различия пола, возраста и происхождения". Это - программа-максимум, доведенный до логического конца катехизис революционера. Бред выродившейся нигилистической мысли, и вслед за обнародованием программы Блюм убивает своего слушателя и воспитателя, как то английское чудище по имени Франкенштейн, созданное фантазией Мери Шелли, убивает своего творца. Хейль Блюму больше не нужен. На очереди другие веселые от рождения люди. Но сама идея убийства - столь значимая для Грина - получает в этом рассказе совершенно фантастическое освещение. Блюму противопоставлен охотник Тинг - первый, по-настоящему совершенный абсолютно положительный, без неопределенности Горна герой, который живет в уединенном доме со своей женой Ассунтой - будущей Ассоль - и любит " лес, пустыню, парусные суда, опасность, драгоценные камни, удачный выстрел, красивую песню". Тинг читает Ассунте стихи про любовь. А Блюм, подслушав их - "медленно повторил про себя несколько строк, оставшихся в его памяти, сопровождая каждое выражение циническими ругательствами, клейкими вонючими словами публичных домов; отвратительными искажениями, бросившими на его лицо невидимые в темноте складки усталой злобы..." И с этой минуты Тинг становится его врагом, он ищет как его унизить и пытается убить Ассунту и скрыться, а потом, когда Тинг его догоняет говорит: "Две ямы есть: в одной барахтаетесь вы, в другой - я. Маленькая очень маленькая месть, Тинг, за то, что вы в другой яме". Блюм - это олицетворение всего скотского, что есть в человеке, что-то вроде маньяка Чикатило или героя американских фильмов ужаса "Молчание ягнят": "- Овладеть женщиной, - захлебываясь и торопясь, продолжал Блюм, как будто опасался, что ему выбьют зубы на полуслове, - овладеть женщиной, когда она сопротивляется, кричит и плачет... Нужно держать за горло. После столь тонкого наслаждения я убил бы её тут же и, может быть, привел бы сам в порядок её костюм. Отчего вы так дрожите? Погода ведь теплая. Я не влюблен, нет, а так чтобы погуще было. У неё, должно быть, нежная кожа. А может быть она бы еще благодарила меня". И вот финале рассказа - Тинг догоняет Блюма. Он не хочет его убивать. Он хочет его отпустить и взять с Блюма честное слово, что тот "спрячет свое жало", но Блюм так же честно и ненавистно отвечает, что убьет Тинга через неделю. И тогда Тинг стреляет. Только тогда. Ассунта остается жива, но её муж не пишет больше стихов про любовь и счастье Жизни, потому что думает о Блюме. - Ты жалеешь? - Нет. Я хочу понять. И когда пойму, будь спокоен, весел и тверд, как раньше". Это желание понять зло, заглянуть ему в глаза стало своего рода сверхидеей Грина. К этой теме он не раз возвращался, совершенно по-разному её варьируя и пробиваясь своим путем к одному ему ведомой истине о человеке. Пока что изображать зло у него получалось лучше чем добро. Блюм написан гораздо убедительнее Тинга. Самые лучшие рассказы Грина этого времени - рассказы о зле. Но никакой его эстетизации нет - есть только отвращение и желание зло победить. Врага надо знать в лицо - именно к этому стремился писатель с очень ясной нравственной позицией и очень загадочными художественными приемами Александр Степанович Грин. Было это не вполне по-декадентски. Но и реалисты не могли Грина у себя прописать. Так он и мучался как неприкаянный среди разнообразных течений и направлений русской литературы Серебряного века, нигде не находя приюта, и позднее писал Миролюбову: "Мне трудно. Нехотя, против воли, признают меня российские журналы и критики; чужд я им, странен и непривычен. От этого, т.е. от постоянной борьбы и усталости, бывает, что я пью и пью зверски. Но так как для меня перед лицом искусства нет ничего большего (в литературе) чем оно, то я и не думаю уступать требованиям тенденциозным, жестким более, чем средневековая инквизиция. Иначе нет смысла заниматься любимым делом". "Трагедию на плоскогорье Суан" Грин отослал в "Русскую мысль" Брюсову, где она провалялась почти полтора года, и Брюсов долго сомневался, стоит ли этот "Судан" размером в два печатных листа публиковать. Но в конце концов летом 1912 года, когда обычно нам время летних отпусков даются вещи похуже, напечатал. Грин в это время был в Петербурге, но вот промежуток времени между отправкой рукописи в "Русскую мысль" и её публикацией в который раз перевернул его Жизнь. 10 Четыре года с 1906 по 1910 Грин легкомысленно и беспечно жил в Петербурге по подложному паспорту покойника Алексея Мальгинова, четыре года печатался в журналах и издавал книги под своим звонким иностранным псевдонимом, водил литературные знакомства, вспоминал революцию как давнопрошедшие времена и черпал в ней материал для литературных произведений, и казалось, так будет продолжаться всегда. Но кто-то донес, и в июле 1910 года Александра Степановича Гриневского арестовали за бегство из ссылки и проживание по подложным документам. Это был уже третий его арест. Вскоре после этого Грин писал Леониду Андрееву: "Я арестован, вероятно, по доносу какого-нибудь из моих литературных друзей. Мне это, впрочем, безразлично. И за то, что уехал из административной ссылки, прожив эти четыре года в Питере по чужому паспорту. Я сообщаю Вам это для того, чтобы Вы не подумали чего-нибудь страшного или противного моей чести." Но несмотря на очень независимый тон этого послания душевное состояние Грина было ужасно. Он только-только начал устраивать свои литературные дела, как - эта неудача. Грин был в отчаянии и снова писал письма Его высокопревосходительству господину министру внутренних дел, а заодно и самому царю. (Вспомним, что в 1903 году Грин отказался писать прошение о помиловании на высочайшее имя - теперь его настроение совсем иное). "Ныне арестованный, как проживающий по чужому паспорту, я обращаюсь к Вашему высокопревосходительству с покорнейшей просьбой не смотреть на меня как на лицо, причастное к каким бы то ни было политическим движениям и интересам. За эти последние пять лет я не совершил ничего такого, что давало бы право относиться ко мне как к врагу государственности. Еще до административной высылки в миросозерцании моем произошел полный переворот, заставивший меня резко и категорически уклониться от всяких сношений с политическими кружками. (…) Последние 4 года, проведенные в Петербурге, прошли открыто на глазах массы литераторов и людей, прикосновенных к литературе; я могу поименно назвать их, и они подтвердят полную мою благонадежность. Произведения мои, художественные по существу, содержат в себе лишь общие психологические концепции и символы и лишены каких бы то ни было тенденций. (…) Организм мой надломлен; единственное желание мое - жить тихой, семейной Жизнью, трудясь, по мере сил, на поприще русской художественной литературы". Последнее - если не лукавство, то условность, с идеалом тихой, семейной Жизни литератор Грин разделался и был как никогда от него далек, но правительство едва ли его творения читало и пошло писателю навстречу. Вместо четырех лет в Сибирь ему присудили два года ссылки в Архангельской губернии, да плюс к этому министр приказал архангельскому губернатору "при хорошем поведении Гриневского в месте водворения войти в обсуждение вопроса о дальнейшем облегчении участи названного лица". Вера Павловна поехала вместе с ним. Для неё этот арест обернулся одним преимуществом, теперь она могла обвенчаться с Грином и честно смотреть в глаза людям. После венчания молодые сели в разные кареты и отправились каждый в свою сторону, он в пересыльную тюрьму, она - домой укладывать вещи. Местом ссылки был назначен город Пинега в двухстах километрах от Архангельска. Гриневские сняли жилье и зажили той самой обывательской Жизнью, которой так боялся Грин и к которой втайне стремилась его жена. По её воспоминаниям, он много читал, писал, спал, ел, играл в карты, ходил на охоту, наслаждался северной природой и впоследствии "не раз вспоминал, что два года, проведенные в ссылке, были лучшими в нашей совместной Жизни". Однако если обратиться к духовной биографии писателя, его прозе, относящейся к событиям той поры, то можно увидеть тоску, не меньшую, если не большую, чем в описании тюрьмы, и это противоречие еще раз косвенным образом подтверждает, насколько Вера Павловна была далека и как плохо понимала своего мужа. Владимир Сандлер в своей замечательной работе "Вокруг Александра Грина" именно в связи с северной ссылкой Грина писал: "По образованию и воспитанию она была типичной буржуазкой, не способной, в силу целого ряда причин, до конца понять столь сложное, сотканное из противоречий явление, как Грин, окончивший университеты российских дорог". Оставим "буржуазку" и "университеты российских дорог" на совести Сандлера и тех романтических времен, когда его документальное повествование создавалось, но в его книге приводится замечательный отрывок из воспоминаний других ссыльных, рисующий облик Грина и его первой жены. "Александр Степанович был высоким худым молодым человеком, с желтоватым цветом лица, живым, веселым и приветливым. Вера Павловна - красивая молодая женщина, всегда подтянутая и молчаливая, производила на ссыльных впечатление "тонкой дамы из аристократической семьи". Часто уезжала из Пинеги в Петербург. В обращении была приветливо-холодновата, так что собираясь к Гриневским, ссыльные всегда говорили: "Пойдем к Александру Степановичу" и никогда: "Пойдем к Гриневским". На самом деле Грин ужасно тосковал в Пинеге. Он писал одно за другим прошение о смягчении своей участи и переводе или хотя бы отпуске на три дня в Архангельск по состоянию здоровья; но ему не спешили ответить, на него нападало отчаяние, однажды во время зимней прогулки по лесу большой компанией Грин соскочил с саней и ни слова не говоря ломанулся в лес. Думали, шутит - вот-вот придет, потом стали искать и звать его, а он вернулся домой только на следующий день. Ночь провел в охотничьей избушке. Как провела эту ночь буржуазка Вера Павловна - остается только гадать. Среди произведений Грина, относящихся ко времени ссылки, есть рассказ "Ксения Турпанова". Место его действия - северная деревня на острове с говорящим названием Тошный. На самом деле это был Кегостров, находящийся всего в трех верстах от Архангельска, куда наконец Грина перевели осенью 1911 года по ходатайству жены и отца. Но описан он как край света и тьма кромешная. Главный герой, как и автор, политический ссыльный, Турпанов, который "чрезвычайно боялся воды, и ко всему, отмеченному риском, к рекам, лесу, охоте и ружью, относился с брезгливым недоумением интеллигента, - полумужчины, неловкого голодного человека". Душевное состояние его - тоска, уныние, бесцельность, споры и ссоры с другими ссыльными из-за разного понимания "самоценности Жизни". Турпанов живет на Тошном острове не один, а с женой, к которой относится снисходительно, а она любит "его сильной, думающей любовью". Но Турпанов этого не понимает, не ценит, он все воспринимает иначе и Грин очень ядовито описывает эту инаковость, вновь возвращаясь к теме своего революционного прошлого. "Мы все-таки с ней разные, - мои идеалы, например, чужды ей". Под идеалами он подразумевал необходимость борьбы за новый лучший строй. Но представления об этом строе и способах борьбы за него делались у Турпанова с каждым годом все более вялыми и отрывочными, а остальные ссыльные даже избегали говорить об этом, как живописцы не любят вспоминать о недоконченной, невытанцовавшейся картине". Это - экспозиция. А сюжет построен на двойном обмане. Ксения очень любит мужа и хочет подарить ему на день рождения часы. Для этого, ничего ему не сказав, она с риском для Жизни едет на баркасе в город и едва не погибает на обратном пути в волнах. Сам же Турпанов отправляется искать жену, но встречает на берегу другую ссыльную Мару Красильникову, срок ссылки которой вот-вот заканчивается и она на прощание говорит Турпанову: "Довольно с меня. По горло сыта! (...) Актеры вы все, и плохие, плохенькие. Ну чего там? Какая еще революция? Живы - и слава Богу". Поразительно, но это прямая перифраза и ранних эсеровских рассказов Грина с их идеей "просто Жизни" как самой высшей ценности, и блюмовского "кровавые ребятишки, в вас мало едкости". А дальше следует обыкновенная, в сущности, история. Турпанов, решив, что жена сегодня уже не вернется, после недолгой моральной борьбы, нравственно или нет супруге изменять, заводит Мару к себе домой и их застает спешащая к мужу с часами Ксения. Он жалко пытается объясниться, но она уходит от него навсегда. Вслед за приговором революции - полный моральный крах её героев и ветеранов - "революционеров на покое". В неопубликованных воспоминаниях Е. И. Студенцовой говорится: "У меня в памяти остались разговоры о рассказе Грина "Ксения Турпанова", напечатанном тогда в журнале "Русское богатство". Он (брат Е.И. Студенцовой – А. В.) говорил, что в основу этого рассказа лег действительный случай ухода жены А.С." Так это или не так, сказать трудно, во всяком случае в рассказе автор явно дистанцирует себя от героя, но правда и то, что Калицкая довольно часто уезжала от мужа в Петербург. Другой поворот этой темы "ссылки и ссыльных" - рассказ "Зимняя сказка". В далекую северную деревню приезжает человек, который нашел себе мужество бежать. Его товарищи по несчастью смотрят на него и с тоской, и с завистью, и с восхищением. А он дает им надежду и излагает свое кредо: "Я еду, думаю... все скучаем, это сон, сон, мы проснемся, честное слово, надо проснуться, проснемся и мы. Будем много и жадно есть, звонко чихать, открыто смотреть, заразительно хохотать, сладко высы-паться, весело напевать, крепко целовать, пылко любить, яростно нена-видеть... на подлости отвечать пощечиной, благородству - восхищением, презрению - смехом, женщине - улыбкой, мужчине - твердой рукой..." 11 В 1912 году срок ссылки закончился. Грин заплатил по всем долгам и окончательно расстался со своим революционным прошлым. С новой силой он бросился в богемную Жизнь, о его кутежах и пьянстве ходили легенды; не выдержав их, Калицкая его оставила и позднее вспоминала своего первого мужа и мужчину как страшный сон; уже существовал Зурбаган и Сан-Риоль, Грина часто видели в обществе то Куприна, то Арцыбашева и Кузмина, критика иногда снисходительно его хвалила, иногда поругивала, а чаще не замечала; сам он говорил, что принадлежит к третьестепенным писателям, но занимает среди них первое место, а революция по-прежнему притягивала его как художника и заставляла искать все новые и новые ответы на вопрос, почему люди туда идут, ради чего жертвуют собой и что происходит с теми, кто собой не жертвует и оттуда уходит? Про дезертиров революции Грин написал рассказ с трескучим названием "Дьявол оранжевых вод". В нем действуют два героя - русский и англичанин. Наш Баранов - ноющий интеллигент с революционным прошлым, чем-то похожий на ссыльного Турпанова, только в действие происходит не в Пинеге, а на корабле под названием "Кассиопея", следующем из Австралии в Шанхай, а потом и вовсе переносится в дебри юго-восточной Азии между несуществующими на карте городами Порт-Мель и Сан-Риоль. Англичанин Бангок - полная противоположность Баранову, активен, олицетворяет собой силу воли и мужество. Сближает этих разных людей то, что оба плывут без билета и обоим грозит высадка в ближайшем порту. Это служит поводом для их знакомства, и Баранов начинает изливать декадентским слогом своему попутчику и товарищу по несчастью душу: "Человек трагически одинок. Никому нет ни до кого дела. Каждый занят своим. Сложная, огромная, таинственная, нелепая и жестокая Жизнь тянет вас - куда? Во имя чего? Для какой цели? Я это почувствовал сейчас в тишине спящего парохода. Зачем я? Кто я? Зачем жить?" Бангок выслушивает его жалобы, совершенно не понимая, что нужно этому странному человеку. Убийственно безнадежные рассуждения "о человечестве, борьбе классов, идеализме, духе и материи, о религии и машинах" кажутся ему лишенными "центра, основной идеи и убеждения". Он замечает, что его спутник говорит ради того, чтобы говорить, упиваясь собственным красноречием, и испытывает желание свистнуть, ударить кого-нибудь по уху или закричать. Наутро их ссаживают с корабля в совершенно гиблом месте, и они начинают думать, как быть дальше. Бангок предлагает пробираться пешком в Шанхай, но у Баранова другая идея, основанная на его политическом прошлом. Он предлагает объявить голодовку, но только не тюремной администрации, а … Жизни и разражается целым манифестом: "Мы - арестанты Жизни. Я - заезженный, разбитый интеллигент, оторванный от моей милой родины, человек без будущего, без денег, без привязанности, человек, не знающий, зачем он живет. А я хотел бы знать это. Я арестант и вы - тоже. Вы - бродяга, пасынок Жизни. Она будет вас манить лживыми обещаниями, россыпями чужих богатств, красивой любовью, смелым размахом фантазии, всем тем, чем манит тюремное окно, обращенное к солнечной стороне и морю. Но это обман. У вас, как у всякого пролетария, один шанс "за" из многих миллионов "против", так как мир кишит пролетариями. Разве вы не чувствуете, что наше теперешнее положение с особенной болью звенит цепями, которыми мы скованы от рождения? Нас выбросили, как щенят, только потому, что у нас нет денег. Мы блуждаем в незнакомой стране. Жизнь хочет заставить нас сделать тысячи усилий: идти пешком, потом искать лодку, быть может, вязать плот, голодать, мокнуть под дождем, мучиться - и все затем, чтобы, приехав, куда нам хочется, спросить себя: "Да что же нас здесь ждало такое?" Вы, человек старой культурной расы, меня поймете. Мы - люди, люди от головы до ног, со всеми прирожденными человеку правами на Жизнь, здоровье, любовь и пищу. А у нас - ничего, потому что мы - арестанты Жизни. И вот здесь, под открытым небом, на опушке этого сказочно прелестного леса, в стенах этой роскошной тюрьмы, я предлагаю вам объявить голодовку - Жизни. Мы ляжем, не тронемся с места и - будь что будет". Так опять возникает традиционный гриновский мотив Жизни-смерти. Но теперь он связан не с волевым усилием террориста или вспышкой воли самоубийцы, а с усталостью, обреченностью побитого Жизнью человека, который пусть даже и смог убежать из ссылки, но это не освободило его от неё, ибо он носит несвободу в своей душе, как ветхозаветной еврей в пустыне между Египтом и Израилем. "День будет сменяться ночью, ночь - днем. Мы ослабеем. Болезненные голодные грезы посетят нас. Потом - или чудо, или же... - Смерть, - сказал я. - Вы предлагаете смерть. - Да." Собственно это и есть то искушение "дьявола оранжевых вод", которое дало название рассказу. А дальше англичанин, этому искушению не поддаваясь, начинает действовать, чтобы показать русскому, "как весело и бойко течет плохая Жизнь в хороших руках". Двое европейцев похищают дрезину, проезжают на ней какое-то количество километров, потом под пулями бегут через пышно описанный тропический лес, добираются до могучей реки, разводят костер, делают плот, охотятся, сначала неудачно, а потом добывают себе на еду обезьяну и до отвала наедаются - словом живут. Хотя и ведут себя по-разному, Бангок пытается победить все препятствия на своем пути, а Баранов, напротив, испытывает странное удовлетворение, когда у них что-то не получается и как будто радуется "силе обстоятельств, поддерживающих его холодное отчаяние". В сущности Грин рассматривает в этой новелле две модели человеческого поведения, которые можно было бы уподобить известной притче о лягушках, угодивших в кувшин с молоком. Разница лишь в том, что "гриновские лягушки" попали не в разные кувшины, а в один, и одна лягушка, спасая себя, невольно спасает и другую. Это спасение могло бы быть счастливым окончанием этой истории, победой Жизни над Смертью, но последовательный Грин предпочел другой финал. Когда Баранов и Бангок, преодолев кучу трудностей, добираются наконец до мифического Сан-Риоля и перед ними открывается выход в мир, Баранов в страхе перед Жизнью пытается застрелиться. Но и тут у него не хватает воли и он просит своего товарища оказать ему последнюю услугу. Глядя на своего русского спутника, уже давно превратившегося в мертвеца, англичанин находит справедливой его просьбу. Идея этого немудреного с трескучим названием рассказа достаточно очевидна и, казалось бы, авторская позиция тоже ясна: он всецело на стороне на англичане. Но не все так просто. Здесь надо сделать одно отступление. Несколько лет тому назад в потоке хвалебных статей о Грине, которые время от времени появляются в различных газетах и журналах, промелькнула очень острая, выпадающая из восторженного "хора гринолюбов" статья Натальи Метелевой "Романтизм как признак инфантильности" с многообещающим подзаголовком "попытка литературного психоанализа личности Александра Грина". Статья эта была опубликована в вятском журнале "Бинокль" и вряд ли стала известна широкой литературной общественности, она не была размещена ни на одном из известных "гриновских" сайтов в Интернете, а между тем статья очень любопытная и очевидно требующая ответа. "Романтизм Грина совершенно особенный в русской литературе - романтизм от инфантильности. От невозможности владеть ситуацией. Романтизм детей, уходящих в небытие Мечты, в поиски Истины и утраченного рая. Романтизм хиппи. Что главное в мире для А.Грина, что он сделал главным для своих героев, что он предлагает читателю как главное в его, читателя, Жизни? - Веру (в Мечту), Надежду (на Чудо), любовь и Свободу (Философию хиппи)". Заметим, что предлагая своему товарищу умирать, Баранов также не исключает надежды на чудо. "Будучи крайне нелюдимым из-за особенностей своей тайной внутренней Жизни, Грин создал собственную страну хиппи. "Грин населил свои книги, - писал К. Паустовский, - племенем смелых, простодушных, как дети, гордых, самоотверженных и добрых людей". И вот в рассказе "Окно в лесу" добрый герой с явного одобрения автора А.С. Грина считает возможным выстрелить в человека, который мучает беззащитную птицу. Да здравствуют романтики, избавляющие природу от человечества!" Все это отчасти справедливо (хотя не учитывает эволюцию Грина - "Окно в лесу" было написано в 1909 году и после этого Грин очень далеко ушел). Тут другое важно: Грин и сам в себе видел эти черты, их понимал и не апологизировал. Скорее наоборот. Может быть потому и писал своих инфантильных героев, что хотел с инфантилизмом бороться. Неслучайно в том же "Дьяволе оранжевых вод" Баранов, перед тем как попытаться застрелиться, произносит заключительный из своих ноющих монологов: "Ах, Бангок, вы чем-то привязали меня к себе. Город пугает меня. Снова все то же: ночлеги на улицах, поиски куска хлеба, работы, усталость, Жизнь впроголодь... одиночество. Как будто не в зачет прошли мои тридцать лет, словно только что начнешь бороться за Жизнь... Скучно. Вернемтесь... - тихо прибавил он, - назад, в лес. Люди страшны, человек бесчеловечен. Бесчисленные, жестокие шутники злой Жизни ждут нас. Вернемтесь. Купим, или украдем ружья и, при первой возможности, уйдем от людей. В тихом одичании пройдут года, в памяти изгладятся те времена, когда мы были среди людей, боялись их, любили или ненавидели, и даже лица их забудутся нам. Мы будем всем тем, что окружает нас - травой, деревьями, цветами, зверями. В строгости мудрой природы легко почувствует себя освобожденная от людей душа, и небо благословит нас - чистое небо пустыни." Чем не та философия хиппи, которую приписывает Наталья Метелева Грину (и кстати, характерна реакция Бангока на слова Баранова, реакция в первый раз человечная, сострадательная: " - Опять вы стали ребенком, - сказал я, тронутый его отчаянием"), в то время как это все-таки мироощущение его героя, пусть даже выражающего сокровенные стороны души самого писателя и пусть даже в облике Баранова есть что-то от самого Грина - "незнакомец был высок, тощ, сутул". Как и в случае с повестью "Приключения Гинча", Грин попытался в образе Баранова, психологически ему гораздо более близкого и понятного нежели Бангок, разобраться с самим собой, себя понять и от себя уйти. Грин видел и не любил в себе Баранова, так же, как не любил и Гинча. Литература была для него способом врачевать от недугов собственную больную, измученную и израненную с детства душу. Даже может быть не врачевать, но просто понять. Выслушать её и взглянуть на себя стороны. В конце концов - "мы не врачи, мы боль". Это можно и про Грина сказать. Любопытно, как оценивала все это не современная, а тогдашняя критика М. Левидов, в будущем сподвижник Маяковского, прославившийся в двадцатые годы на всю страну фразой "Интеллигенция - это иллюзия, которая очень дорого обошлась стране и революции, с которой давно пора покончить" и расстреленный в 1941 году за "шпионаж" в пользу Великобратании, в 1915 году писал: "Рассказ ведется от лица Бангока, и кажется переведенным с английского, - ибо Грин усиленно подчеркивает, насколько чужда ему эта странная психология Баранова, которого он в рассказе усиленно называет просто "русский", словно желая отметить, что душа Баранова именно душа русского. И тут, думается, ключ, ко всему творчеству Грина. Немногочисленные рассказы его из русской Жизни только повторяют тип Баранова. У героев его русских рассказов "впалые лбы, неврастенически сдавленные виски, испитые лица, провалившиеся глаза и редкие волосы", или "лицо маленькой твари, сожженное бесплодной мечтой о силе и красоте" (Воздушный корабль"), а сами они "расколотые, ноющие и презренные", по яркому выражению Грина - "Тяжкоживы" ("Приключения Гинча"). Не любит Грин этих людей, - а только их он и видит в России, - не любит до того, что и природа, породившая их, ненавистна ему (…) Почти единственный из писателей русских, Грин выработал в себе психологию иностранца, России и русской душе чуждого, и возлюбил односложную, упрощенную душу людей с бритыми, каменными подбородками и односложными, по-иностранному звучащими именами. Не феноменальное ли это явление? Русский писатель, владеющий хоть подчас и мелодраматичным, но все же ярким, красочным и мощным языком, и тем не менее усиленно притворяющийся иностранцем?! (…) писателю Грину жестоко отомстили за его притворство. Благодаря тому, что вопль чеховских "Трех сестер" - "В Москву" он сменил призывом "На остров Рено" - Грин считается как бы вне литературы. Серьезная критика пренебрежительно обходит его, да и для широких читательских кругов его имя звучит не то как Нат Пинкертон, не то как Джек Лондон, только пониже рангом. (…) Слишком темпераментен, динамичен этот писатель, слишком богата и необузданна фантазия его, чтобы удовольствоваться возделыванием серых, унылых огородов нашего быта (…) Творчество Грина насквозь пропитано волей к действию, динамикой, в то время как литература наша - кладбище страстей, бесконечная повесть о бессильных "тяжкоживах". И в этом совершенно особое и своеобразное значение его рассказов, в которых он поднимает знамя романтического бунта, пусть наивного, но все же важного и ценного бунта против серой, унылой Жизни". 12 В 1914 году Грин пишет новеллу "Повесть, оконченная благодаря пуле". Это своего рода рассказ в рассказе. Главный герой писатель Коломб мучается над повестью об анархисте и его возлюбленной, которые хотят совершить самоубийство в толпе на карнавале. Что-то вроде шахидов начала века, и тут пока что ничего нового для Грина нет - вариация старой темы о террористах-революционерах. "Анархист и его возлюбленная замыслили "пропаганду фактом". В день карнавала снаряжают они повозку, убранную цветами и лентами, и, одетые в пестрые праздничные костюмы, едут к городской площади, в самую гущу толпы. Здесь, после неожиданной, среди веселого гула, короткой и страстной речи, они бросают снаряд, - месть толпе, - казня её за преступное развлечение, и гибнут сами. Злодейское самоубийство их преследует двойную цель; напоминание об идеалах анархии и протест буржуазному обществу". Но в последний момент девушка передумывает. "Похитив снаряд, она прячет его в безопасное для Жизни людей место и становится из разрушительницы - человеком толпы, бросив возлюбленного, чтобы жить обыкновенной, просто, но, по существу, глубоко человечной Жизнью людских потоков, со всеми их правдами и неправдами, падениями и очищениями, слезами и смехом". Так опять смерти противопоставляется обывательская, казалось бы, Жизнь, но теперь никакого осуждения этой Жизни у Грина нет. Скорее его волнует другое - причина, по которым происходит от одного состояния человеческой души к другому. Та же сюжетная коллизия разрабатывалась в ранней повести "Карантин", но там все подменялось по сути эротическим томлением главного героя. Здесь же Грин решает эту задачу совершенно иначе. Его герой-писатель ищет причину, почему девушка так поступает. Разочарование? Страх? Все это он отметает как слишком мелкое и недостойное её. Для того чтобы дойти до сути, Коломб - авторское альтер-эго - едет на войну и попадает в ситуацию между Жизнью и смертью, которую позднее экзистенциалисты, которых Грин во многом предвосхитил, назовут пограничной. Там он получает ранение и вместе с раной ему открывается истина, которую он пытался найти за письменным столом и которая является своего рода манифестом Александра Грина и очень важным человеческим документом. Грин благословляет не просто Жизнь, но Жизнь осознанную, осмысляемую, Жизнь, имеющую цель, и уходит от замкнутого индивидуализма и инфантилизма своих ранних рассказов и характеров героев, которые над Жизнью не задумывались вовсе , как Гнор из "Колонии Ланфиер" или лучше бы не задумывались, как Лебедев-Гинч. Герой Грина переживает ситуацию прозрения, духовного роста. "Он знал уже, что рана сквозная, и, хотя это обстоятельство говорило в его пользу, - ждал смерти. Он не боялся её, но ему было жалко и страшно покидать Жизнь такой, какой она была. Потрясение, нервность, торжественная тьма леса, внезапный переход тела от здоровья к страданию - придали его оценке собственной Жизни ту непогрешимую суровую ясность, какая свойственна сильным характерам в трагические моменты. Несовершенства своей жизни он видел очень отчетливо В сущности, он даже и не жил по-настоящему. Его воля, хотя и бессознательно, была всецело направлена к охранению своей индивидуальности. Он отвергал все, что не отвечало его наклонностям; в живом мире любви, страданий и преступлений, ошибок и воскресений он создал свой особый мир, враждебный другим людям, хотя этот его мир был тем же самым миром, что и у других, только пропущенным сквозь призму случайностей настроения, возведенных в закон. Его ошибки в сфере личных привязанностей граничили с преступлениями, ибо здесь, по присущей ему невнимательности, допускалось попирание чужой души, со всеми его тягостными последствиями, в виде обид, грусти и оскорбленности. В любви он напоминал человека, впотьмах шагающего по цветочным клумбам, но не считающего себя виновным, хотя мог бы осветить то, что требовало самого нежного и священного внимания. Это был магический круг, осиное гнездо души, полагающей истинную гордость в черствой замкнутости, а пороки - неизбежной тенью оригинального духа, хотя это были самые обыкновенные, мелкие пороки, общие почти всем, но извиняемые якобы двойственностью натуры. Его романы тщательно проводили идеи, в которые он не верил, но излагал их потому, что они были парадоксальны, как и все его существо, склонное к выгодным для себя преувеличениям". Удивительно, но ведь Грин действительно пишет в этом месте о себе, о всех слабых и уязвимых сторонах своего таланта. Пишет беспощадно, искренне, далеко заглядывая вперед и отрицая тот путь, по которому все равно пойдет, ибо не захочет измениться. "Жизнь в том виде, в каком она представилась ему теперь, казалась нестерпимо, болезненно гадкой. Не смерть устрашала его, а невозможность, в случае смерти, излечить прошлое. "Я должен выздороветь, - сказал Коломб, - я должен, невозможно умирать так". Страстное желание выздороветь и жить иначе было в эти минуты преобладающим. И тут же, с глубоким изумлением, с заглушающей муки души радостью, Коломб увидел, при полном освещении мысли то, что так тщетно искал для героини неоконченной повести. Не теряя времени, он приступил к аналогии. Она, как и он, ожидает Смерти; как он, желает покинуть Жизнь в несовершенном её виде. Как он - она человек касты; ему заменила живую Жизнь привычка жить воображением; ей - идеология разрушения; для обоих люди были материалом, а не целью, и оба, сами не зная этого, совершали самоубийство. - Наконец-то, - сказал Коломб вслух пораженному Браулю, - наконец-то я решил одну психологическую задачу - это относится, видите ли, к моей повести. В основу решения я положил свои собственные теперешние переживания. Поэтому-то она и не бросила снаряд, а даже помешала преступлению". История России сложилась так, что помешать преступлению 1917 года никто не смог. В том числе, и Грин своими "контрреволюционными" рассказами. Он не был услышан, как не был услышан и Достоевский, и Лесков, и Писемский и вся русская антинигилистическая проза. Грину пришлось в царстве победившей революции жить пятнадцать лет и умереть в нищете и забвении. Но если искать причины, отчего писатель придумал свой "блистающий мир" и ушел в Гринландию, то самая первая из них кроется именно в этом - мистике бомбы, заложенный под страну и взорвавшейся. Источник Литература www.pseudology.org |
|