|
Игорь Джадан |
|
| Поэтика катастроф | |
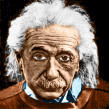 До тех пор, пока
математика
описывает реальность, она не точна,
и до тех пор, пока она
точна, - она не описывает реальность.
Альберт Эйнштейн
До тех пор, пока
математика
описывает реальность, она не точна,
и до тех пор, пока она
точна, - она не описывает реальность.
Альберт Эйнштейн
Тот, кто первый сказал, что новое - это хорошо забытое старое, определенно лукавил, если только вообще можно что-либо сказать впервые. Впрочем, следует отдать должное творцу этой крылатой фразы уже потому, что она прекрасно отражает одно наше исключительно глубокое желание, а именно: судить о новом, исходя из наших знаний. Но что представляют собой любые знания, если не опыт, то есть знание-о-старом? Собственно, вера в непобедимость знания - фактически, наша вера в самих себя, наша видовая гордость - зиждется на этом, далеко не бесспорном, предположении. Другими словами, если новое - это не хорошо забытое старое, тогда наши знания (и умения) - источник нашего видового "шовинизма" - ничего не стоят. Однако, возразит эрудит, если нам уже удалось познать некоторые законы природы, пускай даже не все, мы можем на них одинаково прочно опереться, как сейчас, так и в будущем! Да, ответим мы - эта поговорка (новое - это хорошо забытое старое) логически совершенно равнозначна вере в существование законов природы. Однако сама такая наша вера, как теперь выясняется трудами историков и культурологов, представляет собою определенное новшество Впрочем, давайте поразмышляем вначале над самой формулировкой этого неожиданного открытия: вера в отсутствие новшеств сама представляет собой новшество - не выглядит ли она несколько странной и не согласующейся сама с собой? При ближайшем рассмотрении выясняется, что отождествление науки с поисками "законов природы" ведет свое начало со схоластических поисков понимания воли Божией, то есть являет собой логическое развитие совершенно определенной религиозной веры в то, что божество правит Вселенной через издание законов - просто как феодал своим имением. Европейская вера в науку, занимающуюся поиском мировых законов, - это, по сути дела, продолжение христианского богоискательства. При попытках же найти аналог этому подходу в других культурах обнаруживается совершенно иной взгляд на мир. Так, согласно Аристотелю, живые объекты не подчиняются внешним законам. Китайская же философия видит в мировом порядке не слепое подчинение мира некоему определенному раз и навсегда закону, а самопроизвольное стремление к гармонии, которая может пониматься и как следование некоторому правилу, и как его нарушение, в зависимости от ситуации. Нельзя не признать, что во многих важных областях, например в физике, европейская стратегия познания, а именно - попытки все более и более приблизиться к пониманию некоей устойчивой и повторяющейся закономерности, имели практический успех в том смысле, что способствовали решению западной цивилизацией множества утилитарных вопросов. Сам процесс развития технологий, как выяснилось, может носить устойчивый характер только в тех областях, где наблюдается лишь повторение однородных явлений, не несущих ничего принципиально нового по сравнению с предшествующими То есть технология преуспела больше всего там, где энергия богоискателя могла дать побочный продукт в виде параллельного открытия закономерностей, имеющих (как выяснилось только в дальнейшем) прикладное значение. Итак, к ХХ веку в умах нерелигиозных ученых, пришедших на смену наивным богоискателям (религию саму по себе в данной статье мы не рассматриваем в принципе), сложилась следующая картина: мир познаваем и управляется конечным числом закономерностей, которые предстоит открыть. То, что мы фактически знаем об окружающем мире немного, в принципе исправимо и зависит от наших совместных усилий (усилий науки). То, что непознаваемо в принципе - не имеет никакого практического значения, кроме свойства быть предметом религиозной дискуссии. Все было бы хорошо, если бы идиллическая картина торжества знания над невежеством не омрачалась бы временами свидетельствами полного провала всех предсказаний и рациональных построений, когда новое вдруг проявляло себя "во всей красе", причем не в качестве хорошо забытого старого, а в качестве совершенно новом, непонятом, загадочном и угрожающем. В начале это явление окрестили революцией, затем, когда репутация термина оказалась запятнанной возникшими по ходу дела нежелательными ассоциациями с конкретными историческими событиями, в обиход вошел другой термин: катастрофа. Итак, в современном понимании катастрофа - это эвфемизм существенной инновации, этому термину придается отрицательная или положительная коннотация.
В 1812 году французский ученый Ж.Кювье использовал эту теорию катастроф для объяснения наблюдаемых в геологических пластах смен фауны и флоры, а авторство Шарля Бонне было на какое-то время незаслуженно забыто. В конце 60-е годов ХХ столетия активный французский и ныне здравствующий математик Рене Том (Rene Thom), занимающийся теорией особенностей дифференцируемых отображений - разделом математики малоизвестным и малопонятным вне узкого круга геометров, - заинтересовался возможностью применения своих знаний для объяснения биологических катаклизмов. Таким образом, название "теория катастроф" не случайно, оно призвано не только подчеркнуть преемственность и национальный приоритет в исследовании данной области, но и, как верно отмечают некоторые, служить целям рекламы. Сразу скажем, реклама оказалась удачной: теория уже самим своим названием привлекла множество нематематиков, в их числе и гуманитариев, часть из которых просто по недостатку методологической квалификации оказались неспособными оценить значение этой теории реалистически (как и смысл любого другого математического построения). Для людей, более изощренных в методологии наук, достаточно предсказуемым оказалось то, что главных и наиболее бесспорных своих успехов теория катастроф добилась не в области предсказания социальных или даже биологических катастроф, а в области физики (теория устойчивости кораблей, разрушения мостовых конструкций, поведения волновых фронтов и т.д.), что признают и сами ее авторы. Впрочем, именно в лице выдающегося российского математика академика Арнольда мы имеем одного из основателей попыток применения теории катастроф для наиболее общего описания квазикатастрофических инноваций в общественной жизни (см. теория перестроек)
Эти направления в качестве модели катастрофы или революции пытаются использовать физическую аналогию с фазовыми переходами, ведущими к изменению агрегатного состояния вещества. Так, нагревая или охлаждая воду, при строго определенных значениях температуры (управляющий параметр), синергетика рассматривает возникновение упорядоченных макроструктур как рождение коллективных типов поведения огромного числа входящих в макроструктуру элементов.
При всех существующих различиях, эти направления похожи между собой хотя бы тем, что оперируют конечным символьным языком с ограниченным по определению набором комбинаций символов и смыслов. При этом окружающий мир оказывается сложнее любого языка описания и постоянно преподносит неожиданности и сюрпризы, которые остается только научится замечать (хотя можно и продолжать упорно отрицать). Таким образом, любая "новизна" в таком языке предсказуема и может быть только псевдо-новизной - математической случайностью события в ряду однородных ему - то есть некоей умозрительной подделкой под настоящую новизну и настоящую непредсказуемость В синергетике попытка предсказать "новое" оборачивается предсказанием всего лишь "хорошо забытого старого". Эта дисциплина вводит понятия типа "конечной причинности", "памяти о будущем", "воспоминания будущей активности" и т.д. Другими словами, как утверждает синергетика, паттерны самоорганизации и эволюции существуют до самой эволюции, говоря языком классической философии, языком Платона: идея чашки существует до чашки. Однако же это и означает, что в синергетике не остается никакого места для принципиальной новизны, эволюции и революции, понимаемых как постоянное или периодическое рождение совершенно новой реальности. В синергетике не только будущее предопределено, но и настоящее определяется из будущего, положением аттрактора, "уже" находящегося в будущем. Приходится, однако, выбирать: либо аттрактор действительно [динамическая система] находится в будущем, и тогда о нем невозможно получить никакой информации, подтверждающей или опровергающей его существование и выводы ученых, либо он "не совсем" в будущем, а уже наличествует и в настоящем хотя бы в виде своего описания. Приходится признать, что попытка описать возникновение нового каким-либо законом противоречива в своем основании: ведь вывести новое путем применения любого правила из "старого" означало бы отрицать саму новизну нового, признаваясь самому себе, что мы вывели не "новое", а нечто другое, что не имеет полного права называться "новым". Можно, опять же, принимать этот принцип догматически: "новое - это хорошо забытое старое", что избавит нас от неприятного ощущения неопределенности. Однако если не прятать голову в песок, следует понимать, что реальность, кроме "хорошо забытого старого", несет в себе еще нечто, чего не было раньше никогда. Нельзя сказать, что синергетика и неравновесная термодинамика полностью игнорируют проблему новизны, но они пытаются решить ее, отождествив новизну с вероятностью
Можно застраховать себя только от риска некоторого уже известного фактора: пожара, наводнения, автокатастрофы, действий террористов, даже смерти (страхование жизни), но нельзя застраховаться от катастрофы общественной: мировой войны, "культурной революции", "переворота в сознании масс" или "наступления новой эпохи"! Ни одна страховая компания не выдаст вам страховой полис на случай "смены социальной парадигмы". Как видим, народная сказка и финансовая сметка капиталистов в один голос высказываются против того, чтобы считать феномен новизны "стохастическим" или "вероятностным" процессом". Итак, в попытках вероятностного подхода к проблемам новизны угадывается доля того, что иногда называют "победой науки над здравым смыслом". В этом свете еще более нелепыми нам представляются попытки изобразить новизну геометрически, как это пытаются делать приверженцы теории катастроф, когда выходят за рамки естественных наук. Часть 2  -
Сегодня вы у меня в гостях. Я - Макс Квордлеплин.
Я прибыл сюда из другого отрезка
времени,
чтобы вместе с вами стать свидетелем
исторического события - конца самой Истории.
Близок восхитительный, сладостный
миг
апокалипсиса! -
Сегодня вы у меня в гостях. Я - Макс Квордлеплин.
Я прибыл сюда из другого отрезка
времени,
чтобы вместе с вами стать свидетелем
исторического события - конца самой Истории.
Близок восхитительный, сладостный
миг
апокалипсиса!
- То есть вы хотите сказать, что Вселенная имеет конец? - спросил Артур. - Он состоится через несколько минут, сэр. Вселенная прекратит свое существование. А теперь, если вы наконец соблаговолите заказать напитки, я провожу вас к столику. Douglas Adams. The Restaurant at the End of the Universe Очевидные неудачи совершенно разных языков научного описания в изображении нового заставляет нас предположить: а не является ли причиной таких неудач то, что сам язык, как таковой, не приспособлен для этого? Любой язык опирается на некоторую семантику, на устойчивость означающего, и когда она теряется с приходом нового, от языка остается один каркас, на который каждый может нанизать какое угодно значение. Прежде всего, в области общественных явлений мы видим, как одни из означаемых исчезают, и на их место подставляются другие, третьи же меняют свою форму до неузнаваемости. Таким образом, любой закон, кроме самых общих, где говорится о "явлении", "феномене" или "системе" в самом общем и неопределенном смысле, со временем подвергается неизбежному размыванию самих своих основ. Его основные определения теряют связь с действительностью. Пример, уже ставший классическим, размывание понятие "пролетариат" по мере перехода к обществу потребления и впоследствии - к пост-индустриализму. Классический пример, приводимый пост-конструктивистами: исчезновение означаемого. Это явление характеризует язык вообще. При этом стоит добавить, что самым неизбежным деконструктором было и остается время. И поскольку любое языковое общение предполагает временную близость, одинаковое для участников соотнесение базовых конструктов языка с действительностью, близкое, если не одинаковое, понимание участниками диалога семантики произносимого (написанного) необходимо для поддержания взаимопонимания. Люди, разделенные изрядным промежутком времени, навряд ли смогли бы вести между собой диалог, даже если бы смогли вдруг встретиться Отсюда, кстати, и убеждение, что, поскольку означаемое связано с психикой отдельного человека в большей степени, чем со знаком, построить на основе конструкций языка совершенно однозначное понимание действительности невозможно, как не гарантирует его введение системы особых трансцендентальных смыслов, поскольку они будут ничуть не менее зависимы от личного восприятия: Как отличить epoche, которое раскрывает имманентную сферу чисто психического, от собственно трансцендентального epoche? Ибо поле, открытое этой чистой психологией, имеет преимущество перед всеми другими областями, а его всеобщность преобладает над остальными. (Жак Деррида. Голос и феномен)Вопрос: понимаем ли мы правильно, скажем, Платона? Мы уверены, что да, однако что, кроме голой веры, дает нам право утверждать, что мы его понимаем в точности так, как понимали его современники? Ведь мы не можем с ним вступить в диалог с целью уточнения смысла сказанного, как это могли делать его ученики. Быть может, мы и хотели бы обратиться к Платону за разъяснениями, но он молчит: Вежливое молчание может стать самым дерзким оружием и самой едкой иронией. Под предлогом необходимости подготовки к серьезному ответу: повторного чтения, размышления, проработки (что действительно необходимо и могло бы занять вечность), не-ответ, в форме отсроченного или уклончивого ответа, даже абсолютно урезанного ответа, всегда сможет надежно защитить от любых нападок. (Эссе об имени)Таким образом, мы никогда до конца так и не сможем быть уверены, что поняли Платона правильно, а не манипулируем своими собственными представлениями, приписывая их Платону. И здесь мы, наконец, приближаемся к главному, что, собственно, и составляет идею статьи: к связи между повторяющимися катастрофами, новизной и структурой самого времени в чистом виде Не следует, однако, тешить себя иллюзиями, что времени мы сможем дать положительное определение, - это настолько же противоречило бы принципу новизны, который составляет самый дух этого явления, как и предыдущие попытки исследователей, признанные неудачными нами самими. При всех недостатках подобного подхода мы могли бы попытаться дать лишь только апофатическое, через отрицания, определение времени, как когда-то схоластики пытались подобным же образом определить понятие Бога. Итак, попытаемся определить время через те свойства, которыми, как мы ранее думали, оно должно было обладать и которыми, как теперь становится ясным, оно не обладает (в общем случае). Первое свойство - симметрии направления. Ранее было принято считать, что если вместо направления по ходу времени выбрать противоположное (сделав попутно замену вещества на его зеркальное отображение), законы природы не меняются. Пригожин первый заметил, что это не так, то есть на самом деле относительно замены своего направления время в общем случае несимметрично. Однако это не все: важной асимметрией времени должна быть также асимметрия относительно замены одной точки на оси времени - другой, т.е. неоднородность. Без этой асимметрии невозможна была бы никакая новизна, и наоборот, признание существования новизны предполагает неоднородность времени. Другими словами, утверждение существования новизны в природе логически равнозначно утверждению о неоднородности времени Если раньше само собой подразумевалось, что единожды открытый закон природы действует совершенно одинаково на двух различных временных отрезках, скажем, сегодня, триста лет назад и через тысячу лет, то теперь в адекватности такого подхода к реалиям возникли большие сомнения. Мы с помощью некоторых открытий пост-конструктивизма уже показали выше, каким путем происходит в языке подобная утрата самотождественности и почему. Теперь покажем вкратце, как процессы самопроизвольной деконструкции языковых структур могут приводить к научным революциям, а от них и до общественных катастроф недалеко. Дело тут в том, что в каждой своей точке время по-разному закрепляет события вокруг себя и обволакивает их каждый раз в совершенно иную сетку законов и интерпретаций. Причем признание неоднородности времени столь существенно, что требует не просто смены модели рассуждения, или парадигмы, но изменения самой логики суждений. Действительно, коль скоро время неоднородно, то закон логического тождества - А=А для любых утверждений - не выполняется. Собственно, мы, таким образом, указываем теперь для языка логики то, что до этого утверждали для физического типа мышления (неоднородность времени) и для мышления лингвистического (потеря означающего). [может это проблемы семантики?] Наиболее ясно это заметно тогда, когда мы хотим рассказать о родственных событиях, произошедших с разрывом в несколько десятилетий, и находим, что понятия, годные для описания в прошлом, теперь не годятся, изменилась стратификация не только общества, но и нашего исследовательского сознания. И поэтому получается, что "А-тогда" не равно "А-сейчас", и таким образом, в условиях фактически не работающего закона тождества понятий, любое логическое построение растворяется в реке времени, подобно капле чернил, упавшей в стакан. Катастрофа разделяет нашу логику на логику-до и логику-после, не особенно заботясь о возникающих методологических проблемах. Скажем, схоластический вопрос: "могут ли на конце иглы уместиться сорок ведьм?" воспринимается нами сейчас как совершенно ненаучный В то же время каких-нибудь 500 лет назад подобный вопрос не вызвал бы ни у кого никакого удивления, более того, был бы воспринят, как сугубо научный и даже экспериментальный. Действительно, не составило бы никакого труда собрать по окрестным монастырям сорок ведьм, приговоренных к сожжению, и заставить их сесть на одну единственную иголку, понаблюдав за результатом и аккуратно записав в журнал наблюдений. Что бы нам могло в этом помешать? С точки зрения средневекового ученого получился бы вполне корректный эксперимент. Ваши возражения о том, что ведьмы якобы не существуют, были бы тут же отвергнуты приведением конкретных примеров, демонстрацией экспонатов, а также наличием вполне ясной и подробно описанной методики их отлова (см. Яков Шпреглер. Молот Ведьм). Последующая "смена парадигм" оставила понятие "ведьма" без денотата, подобно тому как недавняя смена парадигм оставила без означающего слово "пролетариат". Научная парадигма изменилась, просто повторив очередной "изгиб" парадигмы общественной, проявившийся в языке. Итак, показано, что деконструкция понятий, базовых для каждой конкретной эпохи, - достаточно серьезная причина для смены научной парадигмы Приходится признать, что время не только неоднородно, но еще и неравномерно-неоднородно, поскольку "движется" скачками, изломами, субъективно воспринимаемыми нами как катастрофы. Вместе с тем, как было показано нами выше, для прошлого, настоящего и будущего невозможно построить никакой единой "геометрии", которую можно было бы единовременно охватить теоретически. За новым "изломом" каждый раз возникает, рождается совершенно иная, не похожая на предыдущую, геометрия, в смысле "теоретической разметки" поля нашей борьбы за выживание. Снова и снова возникает новая для нас игровая ситуация с совершенно новыми, невиданными, правилами игры. Некоторые считают правила новой игры слишком жестокими. Такие склонны считать социальную катастрофу сугубо отрицательным явлением, отходя от принципа строгой научности в пользу "чисто человеческого смысла". Нет ничего пошлее подобного рода интеллектуального оппортунизма. Социальная катастрофа - это просто новое, властно стучащееся в двери и уже переступающее порог. Глупо пытаться оценить неравномерную неоднородность течения времени с точки зрения морали или права, измеряя ее аршином своего страха и собственной лени При размышлениях о применимости термодинамических теорий (основы синергетики) в области рассуждений об обществе, бросается в глаза еще одна несуразность. Если ученый, расчитывая поведение массы молекул, играет роль "макромира", своего рода "полубога", проводящего эксперимент или наблюдение и контролирующего условия, то ученый, рассуждающий о поведении "народных масс" не может этого о себе сказать. Не говоря уже о том, что такой ученый не может контролировать условия "эксперимента" (что стало уже общим местом в понимании проблемы гуманитарных наук), он не может вообще говорить об условиях и наблюдении в том же смысле, в каком об этом рассуждает физик. Ученый здесь сам находится в положении "молекулы", стремящейся познать поведение "ансамбля молекул". И вот такая "молекула" при помощи своей мыслительной функции, которая, кстати сказать, имеется в наличие и у каждой другой "молекулы", входящей в "ансамбль", пытается понять и предсказать поведение всего "ансамбля". Тот, кто верит, что часть меньше целого, сразу заподозрит, что такое понимание будет либо вообще невозможно, либо возможно лишь с очень грубыми упрощениями. Это - как если бы на кирпиче нарисовать дом. Кроме того, если при исследовании физиком молекул можно говорить о воздействии самого процесса исследования на микрообъект, в результате чего возникают квантовые эффекты, то при исследовании социологом общества, сам объект - общество - влияет на исследования, да так сильно, что может определять парадигму самого исследования. Назовем это "обратным квантовым эффектом". Но что тогда исследовать, если сама парадигма исследования задается "подопытным объектом"? И можно ли всерьез говорить о "подопытном объекте" - обществе - когда влияние его на ум исследователя заведомо превышает или сравнимо с влиянием ума исследователя на общество? Не обманываем ли мы себя, когда делаем вид, что "изучаем общество"? Может, оно нас изучает, как биолог - клетки собственного тела? Теперь мы видим, что неизбежность грубых упрощений в гуманитарной науке - это меньшая часть проблемы Следующая проблема: цели исследования. Они не могут быть сформулированы в гуманитарной области так же, как в физической. Проведем мысленный эксперимент. Предположим, что помимо нас наше общество изучает некий Высший Разум, для которого мы сами - всего лишь объекты микромира. При этом он замечает невнятное копошение множества "микрообъектов" и, не имея возможности отличить нас одного от другого, будет интересоваться некоторой "средней составляющей". - Ага, - высокомерно замечает он, про себя: казалось бы, бессмысленная масса, но тем не менее угадываются некоторые закономерности ее движения. Допустим, познавая эти закономерности, Высший Разум надеется научиться нами управлять. Как сам Илья Пригожин у себя в лаборатории - то добавит огня в горелку, то убавит, так и наш гипотетический В.Р. играет с нами, забавляясь своим всесилием. Но что это? Поведение системы вдруг резко изменяется, попытки высшего разума воздействовать на нас ни к чему не приводят. Когда-то такие лояльные и послушные, мы вдруг упорно не хотим подчиниться казалось бы уже совершенно доказанной закономерности. Более того, некоторые из нас как будто бы готовы взять на себя роль высшего разума и управлять взбесившейся системой. Конечно, у нас это выходит плохо, то есть выходит совсем не то, что поначалу ожидалось. И если Высший разум знаком с синергетикой и теорией неравновесных систем, то он наверняка назовет происходящее приближением к точке бифуркации, а если он предпочитает язык "теории катастроф", то он отметит для себя, что происходящее ему напоминает появление "излома" на поверхности, бывшей до этого совершенно гладкой. Однако что видим при этом мы из нашего "микромира" - (напомним, что в рамках данного мысленного эксперимента именно мы играем роль микрообъектов")? Мы смотрим на ситуацию совершенно иначе, чем Высший Разум. Наша оценка управляемости системы драматически разойдется с точкой зрения Высшего Разума. Если для него, огромного и сильного, точка бифуркации, катастрофа или революция означает наше своеволие и уход от исполнения казалось бы незыблемых до этого законов, то для нас - именно революция есть дополнительный шанс резко повысить свою значимость и степень влияния на ход событий. Пригожин отмечает, что система становится непредсказуемой и в этом смысле неуправляемой, но для кого? Для Великого Экспериментатора, для Большого Брата. Вырывая "Систему" из рук Высшего Разума, для нас именно катастрофа делает систему "квазиуправляемой", как бы управляемой, то есть подверженной воздействию наиболее смелых и предприимчивых из нас. В период исторических катастроф роль личности возрастает Это означает, что хотя авторство результата и не может быть установлено, оно все еще может быть "приписано". Скажем, предполагаемые причины революции могут быть приписаны недальновидной политике правящего класса, активности "низов", организованности "революционного авангарда". Но кто приписывает себе катастрофу, именно как заслугу? Естественно, тот, который в результате приходит к власти. В этом смысле революция дает шанс тому маленькому человеку, бывшему "никем", кто без нее не имел бы заведомо никаких шансов. Повышая степень риска, она вместе с этим увеличивает и ставки. Хотя Катастрофа - это и не путь прямого решения общественных проблем, поскольку пути ее развития неисповедимы и заранее не предсказуемы, оно вполне может сгодиться для решения личных проблем наиболее организованной, сплоченной и предприимчивой "части нас", и в этом случае - универсальным способом решения (некоторых) наших общих проблем (на некоторое время). Совершившись, катастрофа удовлетворяет ожидания пассионариев (либо уменьшая их количество по принципу: нет человека - нет проблемы.) и, таким образом, избавляет нас на некоторое время от прихода новой катастрофы. Таким образом, в рамках нашего мысленого эксперимента выходит, что, если точка отсчета наблюдателя находится в нашем собственном мире, катастрофа - это просто разновидность игры "ва-банк", если же точку отсчета наблюдателя расположить в мире "горнем", то катастрофу можно считать потерей "высшего управления". В этом случае часть из нас становятся номинально хозяевами своей (и нашей) судьбы. Мы можем изменять мир, но можем это делать лишь тогда, когда он приближается к катастрофе, "стал на дыбы" на краю пропасти. Часть 3  -
Наступает долгожданный миг! - воскликнул Макс. Через двадцать секунд со
Вселенной будет покончено! Поприветствуем великого
пророка, - провозгласил он.
- Он
явился! Зарквон вновь явился к нам! Под гром оваций Макс подошел к пророку
и
вручил
ему микрофон. Зарквон откашлялся. Поглядел вокруг. Неловко повертел
микрофон.
- Э...
- сказал он. - Я... э... опоздал немного. Куча дел, знаете ли, совсем
замотался. - Зарквон снова откашлялся.
- Как
у нас со временем? Надеюсь, найдется мину... -
Наступает долгожданный миг! - воскликнул Макс. Через двадцать секунд со
Вселенной будет покончено! Поприветствуем великого
пророка, - провозгласил он.
- Он
явился! Зарквон вновь явился к нам! Под гром оваций Макс подошел к пророку
и
вручил
ему микрофон. Зарквон откашлялся. Поглядел вокруг. Неловко повертел
микрофон.
- Э...
- сказал он. - Я... э... опоздал немного. Куча дел, знаете ли, совсем
замотался. - Зарквон снова откашлялся.
- Как
у нас со временем? Надеюсь, найдется мину...
И в этот миг настал Конец Света. Douglas Adams. The Restaurant at the End of the Universe На первый взгляд, единственным спасением от катастрофы могла бы стать катастрофа перманентная Но все же этого невозможно утверждать уверенно. Ведь это бы означало предсказуемость самой катастрофы. Катастрофа в таком случае стала бы нормой, а значит, перестала бы быть катастрофой. По этой же причине невозможна и окончательная стабилизация путем небольших разрядок, "микрокатастроф" - чего-то вроде выборов каждые четыре года. Думать так означало бы впадать в иллюзию полной закономерности и стабильности. Кроме того, навязывание обществу подобной точки зрения равноценно навязыванию людям, недовольным своим положением, ощущения полной безысходности, которая всего вернее и приводит к желанию освободится от застоя и, как следствие, - к приближению новой катастрофы. Полное спокойствие и определенность означают полную безысходность. Пытаться сохранить застой - означает приближать революцию! Реакционеры - главные зачинщики всех революций! - эту фразу стоило бы написать всем аракчеевым на надгробии от имени всех пассионариев Что касается идейного авнгарда самих пассионариев, то они могут помочь правительству в организации катастрофы в собственной стране уже распространением иллюзии того, что общество можно изменить радикальнейшим образом, причем в обозримом будущем. То есть важно не то, какая это будет идеологическая парадигма, а то, чтобы эта парадигма была как можно новее и выглядела как можно радикальнее, обещая дополнительные шансы как можно более широкой прослойке людей. Если мы попытаемся сравнить историю разных цивилизаций, скажем, Запада и Востока, даже неискушенному наблюдателю бросается в глаза связь повторяемости катастроф со скоростью развития цивилизации. Но катастрофа не просто ускоряет развитие, она сама и является развитием, она ему полностью тождественна, так что, по сути, без повторения катастроф невозможно и подумать о действительном развитии. Приходится признать, что без катастроф жизнь невозможна в обоих смыслах: и в смысле того, что жизнь порождает катастрофы, и в смысле того, что без катастроф нас ожидает смерть, то есть - опять же катастрофа, но только уже самая последняя Итак, катастроф, как мы выяснили выше, не избежать. До катастрофы, впрочем, еще надо дожить. И делать это лучше, обставляя себя всяческими удобствами. Из опыта повседневности мы знаем, что одним из самых ценных качеств "удобства" человеческих отношений является их честность, то есть единство слова и дела. И если на уровне бытовом мы еще готовы мириться с "ложью во спасение" или щадящей ложью, то на уровне профессиональных отношений или на уровне "отношений производитель-потребитель" мириться с любой формой "дискрепанса" между обещаниями и действиями означает подвергать себя опасности обмануться в ожиданиях. А какой, кроме соответствия ожиданиям, может быть иной критерий оценки действия профессионала, будь он врач или политик. Поэтому, хотя, идя к "духовнику", мы и рассчитываем получить порцию щадящей лжи, идя к "профи", мы не готовы отдавать свои деньги только за это. Однако бес, как всегда, прячется в подробностях: обещания бывают настолько расплывчатыми, что мы часто оказываемся в положении негра в пустыне, которого джин по его собственной просьбе превратил в белого и наполненного влагой... то есть в ночной горшок. Как бы яростно ни спорили между собой философы, наука - это всего лишь способ избежать подобной незавидной ситуации, точнее - сделать общение с профессионалами немного более предсказуемым для клиента, и, следовательно, жизнь - удобнее. Естественное желание сделать жизнь более удобной приводит нас и к другому практическому выводу: за свои деньги мы хотели бы получить максимально хорошее обслуживание и если бы мы узнали, что профессионалы неспособны прийти к единому мнению относительно того, скажем, как надо лечить нашего ребенка, это нам навряд ли бы понравилось и навряд ли такая ситуация говорила бы в наших глазах в пользу профессионалов. Если же мы вместо одного решения получили бы ответ в том смысле, что "некоторые философы считают, что истины не существует, поэтому можем вашему ребенку сделать операцию, а можем и не делать, решайте сами, как хотите! У нас демократия" - мы бы наверняка решили, что имеем дело не с профессионалом, а с кем-то совсем другим. При этом мы сами можем тысячу раз быть агностиками, циниками и сторонниками принятия решений путем голосования - от профессионалов мы будем требовать совсем другого: ответственности, однозначности и честности, и ни за что другое выкладывать свои деньги не станем Нас навряд ли убедят в обратном, например, вполне здравые утверждения Деррида о том, что настаивать на одной точки зрения как на единственной истине - есть "репрессия" и "попытка доминировать". Мы согласны на такую "репрессию" лишь бы только получить то, за что заплатили деньги. Иначе, если из массы утверждений нет способа выбрать одно, наиболее близкое к истине, то всякое ожидание получить от профессионала наилучшее обслуживание становится бессмысленным. Конечно, интересы потребителя требуют "диверсификации истины", в том смысле, чтобы ни один производитель интеллектуального продукта не имел запрограммированной монополии на рынке интеллектуальных услуг. В этом смысле между поисками нами наилучшего интеллектуального продукта - "истины" - и плюрализмом предложения (теориями) нет никакого противоречия (в рамках нашей, социальной, модели науки). Но уж если мы выбрали "производителя", то хотим получить от него уже именно обещанное. Кроме того, мы, конечно, были бы заинтересованы в существовании некоего стандарта на род интеллектуальных услуг, называемый "наукой", чтобы обезопасить себя от заведомых подделок. Стандартами-то мы, в основном, здесь и займемся. Тут следует обратить внимание, что мы упомянули слово "обещанное". Здесь, впрочем, не следует искать никакой принципиальной новизны и никакого "смещения понятий": "истина" - это и есть обещанное. "Обещанное" в широком смысле слова - это обобщенное определение истины в приложение к труду любого специалиста, не только научного, а "истина" - частный случай обещанного, в данном случае - обещанного ученым. И если какой-либо специалист пообещал клиенту вылечить зубы - он лечит зубы, а не сверлит дырки в здоровых зубах или ставит ненужную коронку... Если специалист- синоптик обещает хорошую погоду, он должен "держать слово", хотя он и волен его не давать Обещание может быть не "стопроцентным", однако тогда это должно быть отмечено. Что действительно важно, так это то, чтобы обещание было честным. Если специалист дает обещание, зная заранее, что сдержать слово невозможно, это должно послужить основанием для исключения специалиста из цеха профессионалов. Таким мы хотели бы видеть сферу обслуживания в целом и науку в частности. Собственно, наша идея и будет состоять в том, чтобы попытаться рассмотреть науку как часть сферы обслуживания, занимающейся определенным социальным заказом, а именно составлением все более точных прогнозов и в последующем также попытками управления. По мере того как занятие наукой становилось все более капиталоемким делом, а само производство этого рода интеллектуальных услуг - все более ценимым обществом, когда общество осознало связь между степенью развития этой сферы и процветанием, в среде работников науки естественным образом встал вопрос о "цеховой дисциплине". Действительно, коль скоро называться ученым (как и хорошим мастеровым, врачом или адвокатом) стало почетным, возрос риск того, что марка данного цеха будет использована в ущерб заказчику, и в конечном итоге - самому производителю интеллектуального товара, науке. Так, если некто недобросовестный, назвавшись адвокатом, но не зная толком законов, станет представлять клиента в суде, мы скажем, что он использовал в ущерб клиенту то доверие, которое заработала своим честным трудом коллегия адвокатов. Или же кто-нибудь, выдавая себя за специалиста, станет чинить вашу машину, у которой после этого на полном ходу отвалится колесо... В подобных случаях цех профессионалов не только обладает моральным правом, но и обязанностью оградить свое имя от компрометации недобросовестными людьми, а интересы потребителя - от некачественного обслуживания. Проводя подобную мысль далее, можно сказать, что научное сообщество в какой-то момент осознало необходимость проведения ясной демаркационной линии, отделяющей свою профессиональную сферу от посягательства недобросовестных людей, да и попросту вмешательства деятелей сфер совсем иных, скажем, политической. Впервые была сделана попытка разделить понятия "истинное" и "научное" Карлом Поппером
Не надо быть философом, чтобы заметить, что большинство людей совершенно не знакомы с научной методикой. Тем не менее, они умеют различать с достаточной степенью надежности "истину" и "ложь" в большинстве бытовых ситуаций, причем в таких, которые наука до сих пор не научилась описывать и разбирать при помощи своих методов. Утверждать обратное означало бы оставить без объяснения тот факт, что, только имея такую способность, люди продолжают жить и функционировать в довольно сложной среде, построенной на необходимости постоянного составления, а также уточнения и пересмотра достаточно надежных прогнозов. Когда женщина пытается определить, говорит ли ей мужчина правду, она не полагается на учебник психологии. То же самое можно сказать и обо всей сфере бытовых взаимоотношений. Тем не менее, этот предрассудок научного сознания о самом себе оказался крайне стойким. Во-вторых, вскоре выяснилось, что существует довольно распространенный род теорий, притом применяющихся на практике, которые не может совершенно бесспорно поколебать ни один изолированный факт (тезис Дюгема-Куайна). Это аналогично ситуации, когда, скажем, врач предлагает срочную операцию, поскольку научная медицинская теория говорит, что с таким диагнозом больной не проживет без операции и нескольких дней. Больной умирает, после чего врач объясняет родственникам и коллегам: больной умер, потому что у него оказалось слишком слабое сердце, а это не всегда удается установить перед операцией. Теория оказывается незапятнанной (да и заменить ее, в сущности, нечем, лучшей просто нет). Такие теории, будучи "неопровержимыми перед лицом любого факта", являются, согласно "фальсификационизму" (раннего) Поппера, "ненаучными", поскольку для них даже теоретически невозможно предложить простого способа эмпирического опровержения. Однако на деле они продолжают применяться на каждом шагу, причем в самых критически важных областях. Неоднократные попытки Поппера обойти подобные трудности потерпели полный провал, так что самому Попперу в конце жизни пришлось, фактически, оставить задачу чисто логической демаркации, как не поддающуюся решению и сосредоточиться на формировании модели истории науки такой, какая она есть на самом деле, а не такой, какая она "должна быть". У другого видного методологического логициста Лакатоса возникли вообще сомнения по поводу того, могут ли сами положения фальсификационизма пройти проверку на научность:
Позволю заметить, что подобная идея: обосновывать эпистемологию при помощи эпистемологии же - выглядит несколько странно в устах философа-логика. Следовало бы помнить, что при попытках перейти к высказываниям второго порядка - или "метавысказываниям" теории о самой себе невозможно исключить возникновения парадоксов типа известного парадокса Эпименида ("парадокс лжеца"). Для избежания подобного рода противоречий существует известный подход Тарского, суть которого заключается в полном разделении исследовательского метаязыка и языка исследуемой теории - предметного языка. Однако, в случае эпистемологии, нам было бы очень трудно решать вопрос о рациональности (научности) того или иного языка (науки) при помощи языка (методологии), о котором было бы известно, что он нерационален. Не так то просто наложить запрет на применение языка эпистемологии для решения вопроса о научности самой эпистемологии - слишком уж "всеобщими" являются ее установки. Более того, логическая эпистемология нам интересна только в том случае, если она способна дать нам рациональные суждения о научном способе суждения максимальной универсальности. Но Лакатос ставит вопрос ребром: "мы перед выбором". Выбор он видит следующий: либо необходимо найти рациональный критерий демаркации и - тогда его можно "объявить" причиной успехов науки, либо придется "вообще отказаться от попыток рационального объяснения успехов науки". Заметим вскользь, что сама наука в общем-то и есть система рационального объяснения окружающего мира. Лакатос, однако, на этом не останавливается, таким образом, он хочет, фактически, рационально объяснить само рациональное объяснение. Видна ли в таком случае вершина строящейся нами "вавилонской башни" рациональных объяснений? Продемонстрируем вкратце, как именно мы приходим к противоречию, когда допускаем возможность рационально объяснить рациональное объяснение. Допустим, хотя бы одна "истинная эпистемология" существует, тогда она способна отделить научные теории от ненаучных. "Естественно" предположить, как это делает Лакатос, что такая теория должна и сама относиться к сфере научных (теорий, дисциплин или направлений). Повторим еще раз: весь смысл логического подхода к проблеме разграничения в том и состоит, что нам предлагается найти для рациональных рассуждений рациональные же критерии, слово "научный" здесь просто современный эвфемизм старого слова "рациональный". - ОК, - скажете вы, - такая эпистемология просто обязана быть научной, но что из этого? Разве это плохо? А то, что в таком случае (об этом нам сообщает сама эта "эпистемология") обязана существовать некоторая процедура проверки - "фальсифицирующая процедура" - в ходе которой и выяснится, рациональна ли сама теория научного рационализма. В ходе такой фальсифицирующей процедуры нам предстоит проверить, существует ли хотя бы в принципе такой род событий, при котором следовало бы признать эпистемологию опровергнутой. Можно сразу сказать, что такого рода событий нет и быть не может, поскольку эпистемология (у Поппера, Лакатоса и других логиков) - наука, так сказать, "чистого разума". Это означает, что эпистемология не может быть фальсифицируемой, то есть - она ненаучна и нерациональна по своим собственным же критериям. Противоречие. Итак, предположив возможность установления фальсификационного критерия для самой эпистемологии (необходимость чего неизбежно следует из нашей программы рационального объяснения рационального) мы пришли к парадоксу. Важным побочным выводом является то, что применение ненаучных методов для оценки науки становится неизбежным, поскольку в качестве метаязыка науки может быть использован без противоречий только ненаучный язык. Часть 4 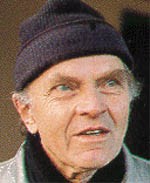 Процедура,
осуществляемая в соответствии с правилами, является научной; процедура,
нарушающая эти правила,
ненаучна.
Эти правила не всегда
формулируются явно, поэтому существует мнение, что в своем
исследовании ученый
руководствуется правилами скорее интуитивно, чем сознательно.
Кроме того, утверждается
неизменность этих правил.
Однако тот факт, что эти
правила существуют, что наука своими успехами обязана
применению этих правил и
что эти правила "рациональны" в некотором безусловном,
хотя и расплывчатом
смысле, - этот факт не подвергается ни малейшему сомнению.
Пол Фейерабенд, Против метода, в кн.:
Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986 Процедура,
осуществляемая в соответствии с правилами, является научной; процедура,
нарушающая эти правила,
ненаучна.
Эти правила не всегда
формулируются явно, поэтому существует мнение, что в своем
исследовании ученый
руководствуется правилами скорее интуитивно, чем сознательно.
Кроме того, утверждается
неизменность этих правил.
Однако тот факт, что эти
правила существуют, что наука своими успехами обязана
применению этих правил и
что эти правила "рациональны" в некотором безусловном,
хотя и расплывчатом
смысле, - этот факт не подвергается ни малейшему сомнению.
Пол Фейерабенд, Против метода, в кн.:
Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986
Кризисом методологии не преминул воспользоваться Фейерабенд, призвавший уравнять в правах мистику, религию с наукой Здесь мы не будем касаться того, насколько подобный подход совместим с анархизмом и теми элементами марксизма, с которыми Фейерабенд себя настойчиво позиционирует, то есть насколько он как исследователь сам консистентен в идейном смысле. Отметим только, что относительный успех этого лозунга, как и модные обвинения науки в тоталитаризме и монополизме на истину, на наш взгляд, тесно связаны с тем очевидным для самих ученых кризисом основ, который происходит на наших глазах. Поэтому мы совершенно согласны с заявлением Фейерабенда, вынесенным в эпиграф. Впрочем, многие другие его утверждения, подобно утверждениям кантового "чистого разума", настолько же обоснованы, как и их противоположности. Например, Фейерабенд выступает за более "демократичный" способ формирования научных знаний: Наконец, принятие или отбрасывание научных фактов и принципов полностью отделено от демократического процесса информирования общественности, обсуждения и голосования. Демократия представляет собой собрание зрелых людей, а не сборище глупцов, руководимое небольшой группой умников. - Надо ли говорить, что известно большое число неглупых людей, которые придерживаются прямо противоположных взглядов на демократию, и среди них - Сократ. Другой пример малообоснованного высказывания Фейерабенда: Рассмотрим действия суда присяжных. Согласно закону, высказывания специалистов должны подвергаться анализу со стороны защитников и оценке присяжных. В основе этого установления лежит та предпосылка, что специалисты тоже только люди, что они часто совершают ошибки, что источник их знаний не столь недоступен для других, как они стремятся это представить, и что каждый обычный человек в течение нескольких недель способен усвоить знания, необходимые для понимания и критики определенных научных высказываний. Многочисленные судебные разбирательства доказывают верность этой предпосылки. - Что представляет собой суд присяжных - мы, как говорится, "плавали - знаем". Вместе с определенными достоинствами он сочетает, мягко говоря, "некоторые недостатки". Мы не думаем, что, скажем, умный и ответственный человек захотел бы, чтобы решение о способе лечения его ребенка принималось присяжными. [А как быть с вышеприведённым тезисом: "Когда женщина пытается определить, говорит ли ей мужчина правду, она не полагается на учебник психологии"?] Далее читаем: "Только религия способна обуздать многочисленные стремления, противоречащие друг другу достижения, надежды, догматические предрассудки, существующие сегодня, и направить их к некоторому гармоничному развитию". - Не исключено, конечно, только как наличие такой способности у церкви можно проверить? Хотя насчет "обуздания догматических предрассудков" при помощи религии - не слишком ли сильно сказано? Сразу всплывают в памяти "героические усилия" тевтонских рыцарей-монахов по упромысливанию "восточных схимников". [разве "церковь" - одно и тоже, что "религия"?] Но коль скоро очевидно, что эпистемология нуждается в обосновании неэпистемологическими методами, с помощью процедуры, несводимой к логической, тогда встает вопрос: какой именно? Позволим себе взять за основу мысль кантианцев о боге, вкладывающем в нас "концептуальный каркас", и продолжить ее немного в иную сторону: в сторону эволюции, вложившей в нас этот "концептуальный каркас" в результате многочисленных проб и ошибок в процессе естественного отбора. Мы стали способны существовать, ориентироваться и побеждать в конкурентной борьбе из-за того, что наш концептуальный каркас достаточно совершенен. То есть мы можем им пользоваться достаточно уверенно, не заботясь до определенных границ о необходимости логического подкрепления наших концептуальных установок. Гипотезой о наличии такого концептуального каркаса и снимаются все возражения скептиков, или, как их называют в данном случае, фаллибилистов (от fallibilism - подозрение в шаткости любых фактов), относительно недоказуемости эмпирических фактов. Доказательством нашего умения переводить эмпирические факты в правильные утверждения служит эволюция, то есть само наше существование в качестве человека разумного. Впрочем, во избежание тех логических противоречий, о которых было сказано выше, эволюционную теорию приходится считать в таком случае не наукой, а "символом веры", позволяющим построить завершенную эпистемологию и, одновременно, дать одно из наиболее элегантных объяснений происхождению видов. Интересно, что в конце жизни Карл Поппер сам превратился из "логического фальсификациониста" в "методического эволюциониста", впрочем, продолжая считать эволюционную теорию наукой: Первый тезис. Специфически человеческая способность познавать, как и способность производить научное знание, являются результатами естественного отбора. Они тесно связаны с эволюцией специфически человеческого языка. Этот первый тезис почти тривиален. Мой второй тезис, возможно, несколько менее тривиален. Второй тезис. Эволюция научного знания представляет собой в основном эволюцию в направлении построения все лучших и лучших теорий. Это - дарвинистский процесс. Теории становятся лучше приспособленными благодаря естественному отбору. Они дают нам все лучшую и лучшую информацию о действительности. (Они все больше и больше приближаются к истине.) Все организмы - решатели проблем: проблемы рождаются вместе с возникновением жизни. (Выдержка из лекции, прочитанной Карл Поппер после конференции "Открытые вопросы квантовой физики" в Бари, Италия, 07 мая 1983 г.) - Таким образом, эпистемология просто становится у позднего Поппера частным подразделом эволюционной теории, сливаясь с теорией Дарвина и различными теориями социального усовершенствования в одну большую теорию прогресса.
Теорию Тулмина можно охарактеризовать как "селекционную". Ученые - это своего рода фермеры, "разводящие понятия" и выбирающие наиболее рациональные образцы. Инновации в науке ("мутации") сдерживаются критикой и самокритикой ("естественный" и "искусственный" отбор). Выживают те "популяции" теорий, которые в наибольшей степени адаптируются к интеллектуальной среде. Однако, подход к науке, как еще к одному полю борьбы за существование, не объясняет, чем наука отличается, скажем, от религии, где тоже можно отметить наличие борьбы за существование между религиозными взглядами. В таком случае подобное определение науки никаким образом не отделяет ее, скажем, от религии. Более того, в таком случае, как уже было сказано, мы обязаны принять базисный характер эволюционной теории по отношению к рациональному знанию, то есть принять ее, как было сказано, в качестве своеобразного символа нашей веры, суррогата религии (или, может, действительно? новой религии с числом божеств строго равным нулю - минимальным из всех возможных). Так или иначе, но проблема отделения "борющейся за существование" науки от всего остального, тоже продолжающего "бороться за свое существование", осталась нерешенной Следует заметить, что современная наука вовсе не претендует на глобальность своего вовлечения в жизнь общества, на диктовку ему своих принципов видения мира, что бы ни утверждали анархо-мистикологические критики науки, такие, как Фейерабенда. Наоборот, среди ученных немало людей, чья картина мира является религиозной - это лучшее подтверждение того факта, что наука не стремится занять место религии в обществе. Скорее, относительно религии можно сказать, что часто именно она пыталась вмешиваться в те рекомендации, которые давали научные специалисты. Мы и теперь можем наблюдать, как вмешательство религиозных авторитетов в сферу, в которой должны решать специалисты, приводило к печальным результатам. Так, шумная кампания против абортов привела к тому, что в местах, где влияние католицизма велико, из-за угроз врачи стали бояться делать аборты, принося человеколюбие в жертву слишком рьяной религиозности. Впрочем, борьба с негативным влиянием вовлечения религии и мистики в некоторые сферы жизни общества не относится к задачам науки, что видно, хотя бы по отсутствию соответствующей отрасли, которая на этом специализировалась бы. Скорее уж современной науке в большей степени свойственно самоограничение своей области. Мы позволим себе высказать некоторые соображения по поводу одного возможного способа введения демаркации, основываясь именно на тех самоограничительных тенденциях, которые, вопреки обвинениям Фейерабенда, просматриваются в деятельности ученых. Так все же, как и в чем наука сама себя ограничивает? Опыт изучения разнообразных отраслей науки как отдельного феномена подсказывает нам, что научное сообщество обычно ограничивает сферу своих интересов так называемыми темпоральными высказываниями, то есть теми, смысл которых можно связать с каким-либо отрезком времени, либо высказываниями, которые можно однозначно переводить в темпоральные. Это могут быть так называемые сингулярные высказывания, когда со временем связывается некоторое положение в пространстве определенного объекта - такими утверждениями занимается физика. Это также могут быть утверждения, в которых с определенным промежутком времени или точкой на оси времени связывается некоторое свойство, принадлежащее некоторому объекту. Мы, однако, помним сделанный нами вывод о неизбежном крахе любого [Диалектика?] чисто логического подхода к определению сферы научного. Мы также помним о невозможности непротиворечивого применения языка науки к самой себе. Поэтому мы будем стараться подкрепить критерий "чистого разума" эмпирической констатацией некоторого темпорального состояния самой науки, однако мы будем относить эти наши суждения к сфере бытового здравого смысла (в которой тоже, как мы убедились, существует "истина"), а не собственно науки. Тогда мы склонны сформулировать это следующим образом: наука в борьбе за свое выживание с иными областями человеческой духовности: религией, законом, философией отбила для себя определенную нишу, которую готова и способна защитить от внедрения мистики и т.д. Отождествлять полностью эту нишу с наукой невозможно из-за того, что процесс борьбы и самоутверждения науки продолжается. [Почем, почему "невозможно"?] Однако при этом ведущие деятели науки, создатели ее ежедневной парадигмы, понимают, что выход за рамки определенной сферы чреват ростом общественной критики. [И что?] В то же время само общество, как нам предстоит увидеть, признает авторитет науки в основном в сфере определения истинности-ложности темпоральных высказываний, так что введение этого критерия в качестве критерия демаркации представляется нам вполне закономерным. Его следует рассматривать в качестве линии перемирия (или демаркационной линией) с религией, философией и другими традиционными отраслями общественного знания [а может сознания?] и только, и ни в коем случае в качестве границы вечной и неизменной или "священной". Рассмотрим этот вопрос более подробно С одной стороны, мы предложили рассматривать научные предсказания, как некий род "обещаний", но не относительно собственных обязательств, а относительно внешних событий. Тем самым мы подчеркиваем ответственность ученых за сказанное как за определенный вид работы. [хороша работёнка не брать обязательств!] При таком подходе явственная связь цеха ученых с "социальным заказом" становится очевидной, и смеем предположить, что авторитет науки и те деньги, которые общество готово на нее тратить, тесно связаны с тем, насколько ответственны подобного рода "обещания". [Авторитет, чтоб до денег постоянно добираться?] Как мы уже отмечали в начале статьи, многие виды прогноза научными не являются Причина, как нам представляется, не в том, что существует некая логическая граница между повседневным прогнозом и научным, а в том, что наука, понимая, что невозможно "объять необъятное", занимается лишь теми видами прогноза, за надежность и "повторябельность" (repetitiveness) которых она способна отвечать, а способна она отвечать за те виды прогностической деятельности, которым ученые могут один другого научить. [Предсказание, которое не сбывается. принято называть прогнозом] Любая способность индивидуума к прогнозированию, если остается неизвестным способ обучения ею других, не будет включена наукой в сферу своей актуальности до тех пор, пока положение не изменится. Причина тому - не логическая, а, как мы уже отметили, профессиональная. Наука не хочет брать ответственность за вид работ, который несет для нее риск падения профессиональной репутации. Как всякий иной профессиональный цех - науке приходится быть консервативной. [Зачем науке авторитет и репутация, если нет целей вне науки?] С другой стороны, в сферу научного-актуального, безусловно, входят проблемы управления, понимаемые широко, от управления ядерной реакцией до кибернетики. Однако реальная способность управлять всегда может прийти только после понимания, - это очевидно. Менее очевидно то, что любое наше предложение, выражающее наше понимание, является темпоральным или может быть переведено в темпоральное. Простой пример: ботаническая классификация означает некоторое сокращенное выражение набора элементарных прогнозов: "если мы возьмем цветок растения семейства розоцветных, то обнаружим то-то и то-то..." и т.д. Теперь отставим все задачи управления как вторичные и займемся собственно темпоральными суждениями (и суждениями, сводимыми к темпоральным) как базисными для науки (не только для науки, естественно, но и вообще для любого понимания). Попробуем решить некоторые демаркационные задачи, под которыми будем понимать логически непротиворечивое, без парадоксов, отделение одной сферы утверждений от другой. Как нами было показано выше, утверждение "ведьм не существует", согласно попперовскому критерию, оказалось "ненаучно", а утверждение "на конце иглы могут уместиться не менее 40 ведьм" - "научным". Если же мы, не пытаясь вводить абсолютного критерия научности, просто укажем, что ни первый, ни второй вопросы (сейчас) не входят в сферу профессиональных интересов науки и потребительских интересов ее заказчиков, и именно поэтому оба они научно-неактуальны, а значит "ненаучны", мы сумеем избежать войны между методологией и интуицией. Таким образом, демаркационная линия между "актуальным прогнозом" и "неактуальным", построенная так, как описано выше, при всей своей некоторой подвижности, сама по себе более соответствует нашим целям [Больше цинизма в описании действительных целей науки] и, таким образом, сама по себе более "актуальна", нежели попперовский "демаркационный критерий научности". Если же мы захотим все же попытаться построить демаркационную линию, разделяющую "актуальный" и "неактуальный" прогноз, так чтобы она обладала некоторой степенью универсальности, а не являлась результатом воли лишь одного индивидуума и лишь одного его понятия об "актуальности", - то и здесь принципиальных трудностей не возникает [При такой готовности менять принципы!], а лишь технические: в коллективе, научном "цехе" или во всем обществе должно сперва возникнуть, а затем доминировать некоторое представление об актуальной сфере прогноза, и если в таком обществе "ведьмы" по каким-то причинам станут относиться к актуальной сфере, то и прогноз относительно их количества автоматически становится "актуальным". Общество, как уже было отмечено, меняется, а с ним - вслед за сменой общественной доминанты естественно исторически меняется и сфера "научной актуальности". [Не умеешь побеждать, научись дружить с победителем?] Попробуем применить критерий научной актуальности для решения демаркационных задач в гуманитарных областях, то есть там, где попперовский фальсификационизм показал свою наибольшую слабость. Для начала попробуем провести демаркационную линию, отделяющую "актуальную" часть гуманитарной области познания от "неактуальной". Для примера возьмем социальную науку в максимально широком смысле Мы замечаем, что, некоторые - во всяком случае, термины со временем устаревают, потому, что означаемые ими феномены перестают существовать, распадаются или изменяют характер своего поведения и связей с другими феноменами. [а как же "ноумены"?] Например, пролетариат в том смысле, как понимал его Маркс, когда описал его признаки, теперь не существует. [ой ли?]. Данное понятие осталось без означаемого. И действительно, попытка применить попперовский критерий сразу наталкивается на непреодолимые сложности: с одной стороны, мы обязаны определить марксизм, как сугубо научное учение, поскольку его выводы, как кажется, опровергнуты практикой (что и доказывает "фальсифицируемость" марксизма в попперовском смысле). С другой стороны, мы не можем указать пути проверки марксизма в ситуации, когда понятие "пролетариат" фактически осталось без означаемого и в этом смысле стало аналогично в нашем (современном) сознании месту, занимаемому словом "ведьма". Марксизм выходит и научен, и ненаучен одновременно. Противоречие. [Доказать бы наличие противоречия] В то же время при помощи критерия "актуальности" демаркационная линия, отделяющая "актуальное" социальное знание от "неактуального" может быть проведена для каждого отдельного момента интересов однозначно. В примере с марксизмом это выполняется следующим образом: во-первых, фиксируется состояние означаемых для всех понятий, которыми оперирует теория. В случае марксизма, предстоит решить, например, стоит ли за термином "пролетариат" реальный феномен или нет. Во-вторых - на основе первого, устанавливается область научного-актуального в этой сфере социальных высказываний. И если, например, научный цех либо общество в целом приходят к мнению, что термины теории имеют проблемы со своими означаемыми, то она уже на этом этапе может быть вынесена за сферу научной актуальности. О связи такого положения вещей с неоднородностью времени мы уже написали в первых разделах статьи, посвященных теориям новизны. [Искусство придумывать новые термины, старым болячкам?] Итак, мы подошли к Главному Вопросу Дня - перспективам русской гуманитарной науки Несмотря на некоторую интимность данного вопроса [как тепло о деньгах!], разговоры об отдельной, совершенно особой и отличной от западной и идущей своей неповторимой дорогой науке, существующей в России, имеют, на наш взгляд веское основание. На Западе наука не оставляет автору другой дороги к успеху, кроме инновации, он вынужден каждый раз начинать свою работу с разрушения того, что было создано другими [совсем не обязательно], перед тем как прейти к собственному строительству. [способность к инновании есть просто способность жить и выжить в конкурентной среде] В России - лозунг "освоить западный опыт" в кратчайшие сроки был перманентно [в том-то и беда, что не "перманентно"!] актуальным последние триста лет кряду. Это делало из работы гуманитария чудную смесь адаптации мировых достижений на родной почве и просветительства родного народа, но ни в коем случае не принципиальной и коренной инновации, как на Западе. В этом смысле гуманитарная наука в России, в отличие от западной, чрезвычайно созидательна, в ней наблюдается лишь процесс просеивания, выбора и адаптации лучших и самых апробированных образцов человеческой мысли. [это теорема только] Странно, однако, то, что мало кто способен это заметить и оценить по достоинству. [По достоинству на западе ценится только сделанная работа, а не способности к ней, как в России]
Причем эти два плана противоположны, как я уже сказал раньше, друг другу. Первый есть "строительство", устроение, второй - истребление, уничтожение первого. На бытовом, житейском уровне эта разведенность, раздвоенность, роковая несвязанность первого и второго планов переживается как чувство всеобщей деструкции, бесполезности, безосновности, бессмысленности всего, что ни делает человек, что бы он ни строил, ни затевал - во всем есть ощущение временности, нелепости и непрочности". Может, такая ситуация и была характерна какое-то время для жизни страны в целом, но для русской науки такая неупорядоченность и разрушительный нигилизм совершенно не характерны. В этом смысле наука всегда оставалась в России островком интеллектуальной стабильности. [художник просто делает свою игру] Вспомним Базарова, который, будучи "по жизни" конченым нигилистом, в том, что касалось науки, был "хорошим мальчиком", прилежным учеником немецких профессоров, далеким от научного бунтарства. Если уж кто-либо из литературных персонажей и выражает деструктивно-революционные взгляды на науку, так это, пожалуй, Фамусов с его откровенным недоверием к западной образованности. Если же отвлечься от скептиков, подобных Фамусову, в России сама мысль о том, что сегодняшняя "лженаука" - это и есть завтрашняя "наука", выглядит в глазах образованного человека антинаучно с самого начала Такая разумность и взвешенность в западной гуманитарной науке безвозвратно утеряны с тех пор, когда путями развития и совершенствования науки занимался лично римский папа. В этом смысле мир русской гуманитарной науки совершенно уникален. [не надоело пыжиться?] Позволим себе также привести другие черты этой науки, делающей ее в корне отличной от западной и совершенно уникальной в своем роде. Самая узнаваемая и ценная из ее национальных [каких, каких?] особенностей - это яркая вторичность, или, согласно современному выражению, строгая интертекстуальнось, когда каждый текст не только снабжен ссылками на западные первоисточники, но и сам заявляет себя вторичным, подчеркивает свою устарелость и компилятивность, демонстрирует отсутствие всяческого своеволия и отсебятины, как наиболее надежный залог научности. [Начётничество?] Некоторым недостатком подобной модели отсутствия развития гуманитарных наук служит то, что элементы или, говоря более выразительным языком, проблески действительной инновации, если бы они и были, стали бы тут же стесняться своего уродства на фоне великолепных стилевых подделок и компиляций стиля "мировой науки", который сам превратился в доминантный русский стиль и который уже успели прозвать исконно-русским постмодерном. Но благо - таких проблесков до сих пор почти не наблюдалось, так что подобные наши фантазии, слава богу, не имеют большого практического значения.
Тогда отечественным ученым придется идти своей непроторенной и трудной дорогой, не имея уже такого четкого и простого критерия научности, как кардинальное отсутствие всякой новизны. Так не безопаснее ли идти вослед чужого (и уже поэтому правильного) мышления, повторяя каждый изгиб, как японские инженеры XIX века, копировавшие в чертежах английских кораблей абсолютно все, вплоть до малейших, пускай даже лишних, деталей (а бывают ли лишние детали?). Научную смелость, так распропагандированную Поппером, мы восприняли и взяли на вооружение - как смелость принятия чужих концепций, но не как смелость их отвержения И потом, любое сколь-нибудь существенное открытие означает необходимость если не коренной ломки, то модификации парадигмы, а каковы шансы открытия, сделанного в России, изменить гуманитарную парадигму на Западе? Я думаю, большинство ученых, хоть немного знакомых с западной системой гуманитарного знания, оценивают (совершенно правильно) эти шансы как близкие к нулевым. [Если имеется ввиду правовой способ защиты, а не так называемые "меры нетарифного регулирования", то это действительно невозможно. Так ни одна западная правовая система не удосужилась обзавестись понятием "отрытие". Здесь знают авторское право, патент, торговую марку, полезную модеь и даже рационализаторское предложение. Но регистрировать как в СССР непонятно что под пафосным названием "открытие" здесь не додумались. А нет предмета, стало быть и защищать нечего.] Поэтому, они даже и не пытаются всерьез защищать мнения [само по себе наличие "мнения" - есть яркий индикатор отсуствия настоящего "знания"], принятие которых в качестве "открытий" означало бы изменение принятой парадигмы, то есть - стараются даже случайно не сделать никаких открытий. Это и служит наиболее надежным залогом научности русской науки. [чаво, чаво?] К тому же, если и будут сделаны русскими гуманитариями какие-либо открытия в сфере духа, то их проще переоткрыть, чем переводить с русского. Российский же читатель, сверяя своего и чужого автора, скорее подумает, что заимствовали свои, а не чужие. Как всегда.
Навряд ли найдется много западных авторов, которые стали бы утверждать обратное. Некоторые, как уже было нами отмечено выше, поспешили объявить русский постмодерн извечным (и в то же время долгожданным) русским стилем, который присущ изначально не только русской науке но и самой русской жизни (Михаил Эпштейн). В таком утверждении невозможно угадать никакой похвалы, одна только критика (опять критика!). [Радуйтесь! То, что не имеет будущего, не критикуется.] Тогда уж лучше считать и русский постмодерн заимствованием, так вернее будет утверждена его сугубая научность, то есть опять же отсутствие всякой новизны в его "введении". Кроме того, если иностранные ученые позволяют себе фривольное употребление эпитета "национальный" применительно к достижениям своих наук: изобретения там всегда "американские" или "французские", технологии "западные" и т.д. [смотря где и в какой аудитории], - то в России подобный неосторожный способ употребления прилагательного "русский" расценивается скорее как моветон. Представьте себе фразу: "Русские гуманитарные технологии покорили весь мир. Администрация и Конгресс обеспокоены". Либо она вызовет смех, либо сразу возникнет ассоциация с чем-то нехорошим, как будто говорят о русской мафии. Беспокойство "администрации и Конгресса" воспринимается в данном случае с полным пониманием (хотя даже не указано, какой страны, заметьте!). А попробуйте заменить в этой фразе переменные-означающие на другие: "Западные технологии покорили весь мир. В Кремле обеспокоены" - сразу понятно, что в последнем случае именно те, кто "в Кремле" - неправы. [...у сильного всегда бессильный виноват...] Итак: ничего нового! Ничего русского! Можно считать, что мы обнаружили еще один демаркационный критерий русской гуманитарной науки: все, что представляется по-настоящему новым или русским, русской наукой должно быть отвергнуто и объявлено лженаучным. Таким образом, отечественной науке удается пока полностью избежать как ошибок, так и достижений западной. [Ура!!!] Отсюда можно сделать только один вывод: национальная, в корне отличная от западной, наука в России не просто возможна - на родной почве она успешно живет и побеждает. [Вот только как быть с западной продукцией: товарами, работами и услугами, которыми завален гордый национальный рынок?] Можно ещё почитать "Компьютерный учебник по современной философии" |
|
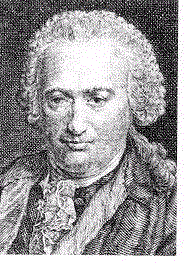 Сама
история введения данного термина в обиход поучительна и интересна: в
середине XVIII века швейцарский биолог
Сама
история введения данного термина в обиход поучительна и интересна: в
середине XVIII века швейцарский биолог
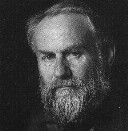 В
современной науке существуют, помимо собственно теории катастроф, еще два
направления: это неравновесная термодинамика
В
современной науке существуют, помимо собственно теории катастроф, еще два
направления: это неравновесная термодинамика
 Такие
типы поведения, называемые модами, появляются под действием
Такие
типы поведения, называемые модами, появляются под действием 
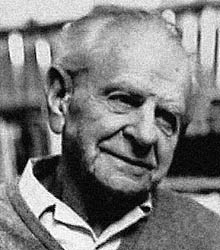 Предполагалось
при этом, что область "истинного" должна быть частью области "научного".
Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что в этом коренном пункте
содержится сильное преувеличение реальных возможностей
Предполагалось
при этом, что область "истинного" должна быть частью области "научного".
Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что в этом коренном пункте
содержится сильное преувеличение реальных возможностей
 Но
как фальсифицировать сам методологический фальсификационизм? Нет такого
бедствия, какое могло бы опровергнуть теорию рациональности. Более того,
если бы даже эпистемологическая катастрофа разразилась, как могли бы мы
узнать об этом? Мы лишены возможности судить о том, увеличивается или
уменьшается правдоподобие наших успешных теорий. Пока еще нет общей теории
критицизма даже в сфере научного знания, не говоря уже о критике теорий
рациональности. Следовательно, если мы хотим фальсифицировать
методологический фальсификационизм, то нам придется делать это, не имея еще
теории, с помощью которой такая критика могла быть обоснована.
Но
как фальсифицировать сам методологический фальсификационизм? Нет такого
бедствия, какое могло бы опровергнуть теорию рациональности. Более того,
если бы даже эпистемологическая катастрофа разразилась, как могли бы мы
узнать об этом? Мы лишены возможности судить о том, увеличивается или
уменьшается правдоподобие наших успешных теорий. Пока еще нет общей теории
критицизма даже в сфере научного знания, не говоря уже о критике теорий
рациональности. Следовательно, если мы хотим фальсифицировать
методологический фальсификационизм, то нам придется делать это, не имея еще
теории, с помощью которой такая критика могла быть обоснована. "Только
самые приспособленные к выполнению своих задач теории выживают и дают
потомство. Создание новых теорий становится по своим методам неотличимо от
выведения племенного скота", - подобные аналогии стали весьма
распространенными в современной научной мысли, например, у американского
философа Стивена Тулмина (
"Только
самые приспособленные к выполнению своих задач теории выживают и дают
потомство. Создание новых теорий становится по своим методам неотличимо от
выведения племенного скота", - подобные аналогии стали весьма
распространенными в современной научной мысли, например, у американского
философа Стивена Тулмина ( Мало
того, бытует мнение совершенно противоположное, что русский человек имеет
чуть ли не природную тягу к разрушению. В одной из своих статей известный
исследователь русского постмодерна (Истоки и смысл русского постмодернизма.
Журнал "Звезда", 1996, #8) Михаил Эпштейн приводит в подкрепление такой
мысли слова
Мало
того, бытует мнение совершенно противоположное, что русский человек имеет
чуть ли не природную тягу к разрушению. В одной из своих статей известный
исследователь русского постмодерна (Истоки и смысл русского постмодернизма.
Журнал "Звезда", 1996, #8) Михаил Эпштейн приводит в подкрепление такой
мысли слова
 В
таком бесконечном рачительном заимствовании, с одной стороны, и топтании
всего своего-нового - с другой, есть бесспорное разумное зерно: ведь,
коль скоро правы те, которые считают, подобно
В
таком бесконечном рачительном заимствовании, с одной стороны, и топтании
всего своего-нового - с другой, есть бесспорное разумное зерно: ведь,
коль скоро правы те, которые считают, подобно
 Кроме
того, как недавно заметил Томас Зейфрид (
Кроме
того, как недавно заметил Томас Зейфрид (