|
Валерий Сердюченко |
|
| Южнорусская школа: миф и реальность "Южнорусская школа" не нашла до сих пор собственного исследователя и летописца | |
|
Единственный опыт подобного рода имел место двадцать лет тому назад и остался в памяти автора этих строк потому, что привел к плачевному результату. Речь идет о диссертации "Южнорусское измерение советской прозы", представленной на кафедру советской литературы МГУ. Симпатичной аспирантке из Днепропетровска оглушительно не повезло. "Вы бы еще бердичевское или биробиджанское измерение выдумали, - возмутился зав. кафедрой профессор Алексей Иванович Метченко. – У советской прозы может быть только одно, измерение - соцреалистическое." Прошли десятилетия, Россия из советской стала постсоветской, но ожидаемого возрождения интереса к южнорусской школе не произошло – правда, по причинам скорее противоположного свойства. Нынешний литературоведческий олимп сократился до нескольких десятков оголодавших докторов наук, вообще неспособных проявить интереса к чему бы то ни и готовых исследовать хоть тексты водочных этикеток, только бы получить грант у соросовских эмиссаров. Возвратимся, однако, к теме, объявленной в названии Воистину, если бы Россия не имела своего Причерноморья, его следовало бы выдумать. Из этой географической окраины весь отечественный романтизм 19 века вышел. Русские романтики, не находя для своих вольнолюбивых героев соответствующего интерьера, отправляли их туда, где бездонные морские глубины соседствовали с заоблачными горами, бескрайние степи с дремучими лесами, и где вольные племена пасли свои стада, изредка сходясь в молодецких ратных забавах. "Южные поэмы" Пушкина и Лермонтова, малороссийский цикл Гоголя, кавказские и крымские повести Л. Толстого, южнорусская проза Бунина, "Гамибринус" Куприна, "босяцкие" рассказы и "Старуха Изергиль" М. Горького – такова дань, отданная русской классической литературой Югу и одновременно самая светлая, жизнедышащая ее страница. Реалист из реалистов, трезвейший Лев Толстой превращался в романтика, когда писал своих "Казаков". Но до определенного времени сами южане в этом процессе не участвовали. Они вообще были далеки от культурных интересов РоссииПричерноморский люд мореходствовал, рыбачил, торговал, служил в таможнях и одновременно занимался контрабандой, гулял на бесчисленных свадьбах и, увы, время от времени устраивал еврейские погромы. Малороссы, молдаване, армяне, греки, болгары, караимы, немецкие колонисты, те же евреи – таков был этнический состав этого края, где русские занимали отнюдь не первое место. Богами этой почти гомеровской окраины были скорее Гермес и Бахус, чем литературные музы. Внезапно все переменилось. Буколическая аркадия вдруг стала эпицентром мировых событий, местом, где решалась судьба величайшей из революций. На ее земли хлынули армии чужеземцев, принявшихся ожесточенно избивать друг друга. Белые, красные, зеленые, петлюровцы, махновцы, германские, румынские войска прокатывались по Черному морю во всех направлениях, сея разрушения и смерть. На местный люд обрушились мобилизации, реквизиции, экспроприации – нигде фурии революции и гражданской войны не распоясывались до такой ярости, как на русском Юге. В каждом человеческом "множестве", подвергаемом перегрузкам, неизбежно возникают процессы конденсации и кристаллизации. Когда Причерноморье начали беспощадно прессовать, оно породило из своей среды собственных вождей, ораторов, певцов и художников. Мы не согласны со знаменитым утверждением Маркса о том, что, когда пушки стреляют, музы молчат. Более жестокой эпохи, чем начало двадцатого века, Россия не знала, а какое созвездие талантов породила эта эпоха! Русский Юг, пребывавший в вековой культурной спячке, также проснулся и делегировал наверх, в сферу профессиональной культуры блестящую плеяду писателей. Перечислим их: Эдуард Багрицкий Илья Ильф и Евгений Петров Валентин Катаев Константин Паустовский Михаил Светлов Лев Славин Юрий Олеша
Все они с большими или меньшими колебаниями приняли сторону революции, независимо от того, как она потом обошлась с ними
Потому что они были полунищими разночинцами, социальными бастардами, которым нечего было терять в разразившемся катаклизме, приобрести же они надеялись все. Еврейские павлины на обивке, Еврейские скисающие сливки, Костыль отца и матери чепец – Все бормотало мне: - Подлец! Подлец! …………………………………. Любовь? Но съеденные вшами косы; Ключица, выпирающая косо; Прыщи; обмазанный селедкой рот Да шеи лошадиной поворот. Родители? Но в сумерках старея, Горбаты, узловаты и дики В меня кидают ржавые евреи Обросшие щетиной кулаки. (Э. Багрицкий, "Происхождение") Согласимся, ради надежды вырваться из этого позорного мещанского ада можно было пожертвовать всеми гуманистическими заповедями. Эдуард Багрицкий и его поколение были молоды, талантливы, голодны, честолюбивы, неврастеничны – идеальный горючий материал для любого социального бунта. Это поколение не просто приняло сторону революции. Оно облагородило ее высокой романтической нотой, ассоциировало с французскими образцами, оно эстетизировало ее жестокую сущность. Отвлечемся на время от непосредственной темы и пригласим в свой обзор Н. Островского и М. Булгакова. Со злой и талантливой руки Булгакова российская пролетарская чернь предстала сегодня в облике дебильного Шарикова из талантливой повести и еще более талантливой экранизации "Собачье сердце". Но ведь, если разобраться, Шариков списан с того же социального типа, что и Павел Корчагин – таковы были антиномические полюса восприятия художниками тех лет одной и той же действительности. Революционный опыт Булгакова был сугубо отрицательным. Революция разрушила его дом, а затем гналась за ним по пятам, рекрутируя то в белую, то в красную, то в национальную украинскую армию. Она глумилась на его нравственными ценностями, топтала его рукописи, унижала и поучала. Островский же стал благодаря революции тем, кем он стал. Революция подарила ему неслыханную полноту жизнеощущения, апокрифировала его биографию и судьбу – спрашивается, кто из них был более прав в своих анафемах и осаннах этому преступно-героическому революционному Молоху? Да оба, оба правы, и стремление заместить в культурной памяти потомков роман Островского "Собачьим сердцем" так же неправомерно, как и попытка противоположного рода. И кстати, не кремлевскими же литкомиссарами роман "Как закалялась сталь" переведен и издан на всех пяти континентах земного шара. Перечисленные "южане" не стали, в отличие от Николая Островского, нерассуждающими солдатами революции с наганом в руке и Лениным в башке Они писали не летопись но скорее импровизацию на тему, романтический вестерн. Буденный назвал "Конармию" "бабизмом Бабеля". В каком-то смысле прославленный комдив был прав. Бабелевская конармия действительно имела мало общего с Первой Конной. Ее польская кампания показана глазами интеллигента Лютова, пытающегося слиться с солдатской массой и ужасающегося ее звериной жестокости. То же и в отношении всей группы "Юго-Запад". (Название поэтического цикла Багрицкого, использованное Бабелем для обозначения писателей-земляков). Почему романтический образ революции возобладал именно на Юге? Потому, что Причерноморье обладало особой витальной энергетикой. Оно, так сказать, было не русских корней. До того, как оно стало российской окраиной, оно являлось окраиной другого, греко-римского мира, затем культурной провинцией Венецианской и Генуэзской республик, а Измаил вплоть до восемнадцатого века служил северным форпостом Оттоманской Порты. История сохранила нам бесценные записки о средневековом Причерноморье венецианцев Иосафата Барбаро и Амброджо Контарини. Из этих записок явствует, что тогдашние причерноморцы вообще не подозревали о существовании на севере какой-то России! Они мыслили и чувстовали средиземноморскими культурными архетипами. Они жили не в городах, а в полисах, которые назывались Херсонесом, Каффой, Солдайей, Таной, Феодоро. Оба венецианца прожили в этих краях полжизни, отнюдь не считая себя чужестранцами. Они описывают их именно, как часть романского мира. Причерноморье становится российским лишь после разгрома Крымского ханства, взятия Суворовым Измаила, заселения Таврии русскими крестьянами и немецкими колонистами. Но его эллинская и романская генетика не исчезла. Учащимся одесских лицеев и гимназий не нужно было слишком напрягать воображение, чтобы представить времена, когда Одесса называлась Одесос. Этими временами дышали названия городских предместий и улиц, древние развалины, бесчисленные амфоры и монеты, которыми была буквально нафарширована одесская земля, а добрую четверть дореволюционного населения продолжали составлять итальянцы и греки. Все это создавало особую антропологическую среду – жизнерадостно-раблезианскую, оптимистичную, проникнутую средиземноморской культурной традицией и интонацией. Это сегодня Одесса разменяла свое уникальное прошлое на опереточные медяки Бубы Касторского, а тогда, на переломе девятнадцатого и двадцатого веков, каждый коренной одессит ощущал себя частицей Pax Romana. Имеется поразительное свидетельство этому. В автобиографическом "Алмазном венце" Валентин Катаев рассказывает, в какое сомнение он пришел, услышав от Багрицкого строки о Дионисе: Утомясь после долгой охоты,
Запылив свой
пурпурный наряд,
Ты ушел в бирюзовые
гроты
Выжимать золотой
виноград
"Откуда он выкопал Диониса, его пурпурный наряд, запылившийся во время охоты. Откуда взялись какие-то бирюзовые гроты и выступ, мало того, что холодный и серый, но еще и "водопадом свергающийся вниз"?" Через много лет Катаеву пришлось побывать в Сицилии. "…Наш гид произнес: - Сеньоры, внимание. Перед нами гротто Дионисо, грот Диониса". И пораженный Катаев увидел перед собой то, что уже было описано однажды его одесским другом. "Но каким образом мог мальчик с Ремесленной улицы, никогда не уезжавший из родного города, проводивший большую часть своего времени на антресолях, где он, изнемогая от приступов астматического кашля, в рубашке и кальсонах, скрестив по-турецки ноги, сидел на засаленной перине…- как он мог с такой точностью вообразить себе грот Диониса? " Действительно, как? Не иначе, как за счет таинственной, "роевой" связи одессита Багрицкого с эллинской, языческой "Одесос" Южнорусская школа воспроизвела не только букву, но и дух средиземноморского искусства. Основой ее художественного мышления является мистерия, игровое начало, карнавал. То, что происходит в "Одесских рассказах" и "Конармии" Бабеля, в "Интервенции" Л. Славина, в "южнорусских" новеллах Паустовского, в ранних стихах Светлова и самого Багрицкого, перенасыщено выдумкой, романтической гиперболой, восклицательными знаками и суффиксами превосходной степени. Все они были, по меткому замечанию Дана Дорфмана, вдохновенными вралями, баронами Мюнхаузенами в противовес унылому писательскому Северу. Можно себе представить, какими мизантропическими ужасами наполнил бы читательскую душу Достоевский, если бы взялся писать роман о бандитской Одессе. А насильники и головорезы Бабеля – весельчаки, артисты, Робин Гуды. О "Двенадцати стульях" и "Золотом теленке" и говорить не приходится. Кто ее герой? Тоже мошенник и авантюрист. Но как авторы любят этого авантюриста и заставляют любить его нас, читателей. Обратите внимание также на то, что действие самой смешной книги всех времен и народов почти не покидает одесского, крымского, кавказского побережья, а если Остап и появляется со своими спутниками в Москве, то советская столица неуловимо ориентализируется, начинает чувствовать и говорить на одесском языке. Потому что в обоих случаях перед нами особенное, "южнорусское" видение мира Это видение Аристофана и Бокаччо, Свифта и Рабле – анекдотическое, праздничное, чувственное, плотское. В известном смысле всю русскую литературу можно распределить в два дискурса: "северный" и "южный". Север – это аристократизм, филологическая культура, строгая иерархия жанров и стилей. Юг – бесцеремонное смешение всего со всем, эстетическая всеядность, импровизация, вдохновенный "сюр". Север – масонский ритуал, касталийская игра в бисер. Юг – балаганная полифония, сорочинская ярмарка. Веселье и скука, языческое "эвоэ!" и католическая "осанна", площадь и храм, барокко и готика, игра и служение – вот оппозиции российской словесности. И одновременно родовые признаки "южнорусской школы". Приглашаем читателя признаться, положив руку на сердце, какую из этих двух оппозиций он бы предпочел, если бы ему пришлось выбирать между ними. В начале этой статьи мы посетовали на то, что "южнорусская школа" не обрела своего летописца и исследователя. Это не совсем так и даже совсем не так. Отсутствие литературоведческих штудий с блеском компенсирует гениальный "Алмазный мой венец" Валентина Катаева, уже в самом своем названии заключающий некую филиппику. Приходится в очередной раз признать поражение высоколобой академической мысли перед убедительностью художественного слова. Когда я пытаюсь объяснить студентам признаки южнорусской школы, я в конце концов начинаю цитировать целые страницы из Катаева. Он не только назвал нозологические знаменатели этого направления, не только воздал должное его носителям, но сам создал блестящие образцы живописи словом. Это именно художественная литература, чего не всегда скажешь о писателях Севера. Его ностальгический, проникновенный, бесконечный, от романа к роману меняющий названия сюжет о друзьях его одесского детства (Петя Бачей, Гаврик, Мотя) завершился циклом "мовистской" прозы ("Святой колодец", "Трава забвенья", "Кладбище в Скулянах", "Кубик", "Алмазный мой венец"), концентрированно выразившей сущность этого "южнорусского" художественного феномена. Можно ли говорить о сохранении "южнорусского" художественного письма в наши дни? Можно, но осторожно. Литературное Причерноморье оказалось сегодня в рассеянии, как, впрочем и вся российская словесность, и выражает себя в основном с помощью Интерента. Благодаря усилиям неистовых бессеребренников Дана Дорфмана, Вадима Ярмолинца, редакции нью-йоркского "Нового Русского Слова" и фирмы "Санвей" возникли из постсоветского литературного небытия имена Павла Лембергского, Игоря Павлова, Якова Шехтера, Петра Межурицкого, Ирины Перонковой, Бориса Херсонского, Анатолия Гланца и многих других, сохранивших верность одесским стогнам, святыням и кумирам. Не все в их творчестве отвечает уровню и планке поколения "отцов". Но во всех их рассказах, повестях, стихах, зарисовках звучит такая пронзительная любовь к своему краю, что, честное слово, прощаешь им скромность таланта, провалы вкуса и стилистические наивности. Этот упрек относится не ко всем, здесь названным, и уж никак не к Вадиму Ярмолинцу, Якову Шехтеру, Игорю Павлову и Ефиму Ярошевскому. Это литературные профессионалы; их скорбный писательский удел – результат культурного беспамятства, поразившего всю постсоветскую Россию. Читая "Провинциальный роман-с" Ефима Ярошевского или "Два рассказа об Эмме и Лизе" Вадима Ярмолинца, исполняешься ностальгии о литературной Одессе шестидесятых годов, где страдали непризнанные гении и разбивались их биографии и сердца. Когда могучий "Титаник" погружался под воду, его музкоманда до последнего дыхания исполняла свой репертуар Пребыть верными своему одесскому "Титанику" – великое мужество, патриотический подвиг. Воздадим же должное наследникам некогда блестящей литературной цивилизации. Они – последние из одесских литературных могикан. Уйдут они – и южнорусская школа окончательно станет историей, библиографическим экспонатом. Ее последняя глава пишется уже не восторженными романтиками, но скорее уставшими скептиками, вольтерьянцами, разуверившимися в романтических идеалах своих отцов. Это – осень "южнорусской школы", ее поздний цвет. "Провинциальный роман-с" Ефима Ярошевского повторяет, в сущности, мемуарный проект Катаева. Перед нами литературная Одесса шестидесятых годов: ее газетные редакции, театральные кулисы, мастерские художников, диссиденствующие тусовки – вся эта богемная суета сует, в которой так много прелести и печали. Увы, второго в "Романсе" намного больше, чем первого. Герои Ярошевского не познали радостей и удач своих знаменитых предшественников. Они – лишенцы, пасынки, "потерянное поколение". В отличие от Катаева Ярошевский беспощаден к своим персонажам. Их жизни – мартиролог поражений, ударов судьбы, нереализованных возможностей. Кто виновен в этом, советская система, они сами? Не будет сказано в обиду, но, прочитав роман до конца, перечитав его дважды и трижды, не находишь причин, по которым можно было бы целиком записать его персонажей в жертвы режима. Они умны, образованы, но неспособны к длительному волевому усилию. Автор населил свой роман десятками биографий – и ни одной удачной, состоявшейся, ставшей триумфом и успехом. К чести персонажей, они самокритичны: "Я не говорю об общем, так сказать, духе времени. Нет. Я имею ввиду другое: наши завихрения. Мучительные самокопания. Хиромантию. Столоверчение. Словоблудие. Нечистую совесть. Онанизм (совместный). Демонизм (в масштабе квартала). Душевный запой. Какой-то пар... вернее - паралич воли. А результат - вот он: загубленный артистизм, голос, севший на мель, слабо тренированные десны, запущенный сад души. Усталость. Тоска. Поседение, дряхлость, запоры, любовные неудачи, дрязги, закат - полный звездец... " Так возникает классическая коллизия "отцов и детей". У Тургенева на смену опустившимся безвольным "отцам" приходили энергичные победительные "дети", здесь – наоборот: яркое поколение катаевских друзей сменяется пораженцами Ярошевского. Но и те и эти – одесситы. Они похожи друг на друга своей психологической зависимостью от этого проклятого и благословенного города, они так же тонко и точно чувствуют его неповторимую органику, южнорусский строй. Приблизительно такое же настроение царит в прозе Вадима Ярмолинца. Хронологически – перед нами Одесса 80-х. Закат империи, советской власти, молодости, самой Одессы, закат всего. Половина персонажей на чемоданах. Каждый второй, подобно чеховским "Сестрам", твердит: "в Америку, в Америку" – типичное настроение одесской интеллигенции восьмидесятых годов. "Отъездная эпидемия восемьдесят седьмого года охватывает город с гибельной скоростью. Едут все или почти все, кого она знает. Те, кто не едет, ждут вызова или случая переправить на Запад свои данные. Совершенно не поддающееся счету количество людей, как одна затосковавшая от затхлой провинциальной жизни девочка, бросает все с трудом нажитое и доставшееся от родителей и двигается туда, где кипит неведомая, но обязательно прекрасная и счастливая, как сон, жизнь." Но даже в этих, готовых навсегда отряхнуть прах отечества с ног своих, живет нечто единое и неповторимое; то, что невозможно выразить в эвклидовом слове и что зовется Одессой. Как мы помним, автор "Алмазного венца" пригласил в свое повествование великого скульптора Брунсвика. Брунсвик долго искал, в чем запечатлеть друзей автора и нашел для них вечный титановый сплав, способный пережить вечность. Мемуар Катаева заканчиватся романтической осанной в честь его великих сверстников. Когда же слышишь бессильную ностальгическую интонацию "Провинциального романс-а" или углубляешься в тотальный нигилизм прозы Ярмолинца, то хочется всплеснуть руками и сказать: "Не может быть, чтобы все в Одессе стало таким безнадежным и безрадостным. Ваши отцы нищенствовали и голодали не меньше вашего, но посмотрите, какой праздничный, улыбающийся, романтически светящийся мир открывается в их произведениях. Воспряньте. Препояшитесь высоким мужеством своих предков и прекратите брюзжание. Царство Божие внутри нас." И на этом патетическом призыве мы и закончим наше размышление о прошлом, настоящем и гипотетическом будущем "южнорусской школы". |
|
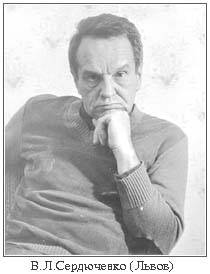 Названная
так с легкой руки
Названная
так с легкой руки