| Charles-Maurice, Duc de Talleyrand-Perigord - Талейран | |
| Мемуары Глава 8. Часть 1 | |
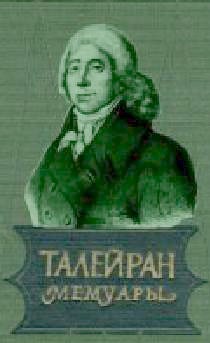 Частные мемуары и жизнеописания знаменитых людей служат источником для
установления исторической правды; при их сравнении с легковерной и даже
суеверной традицией они дают материал для ее опровержения или
подтверждения; вместе они придают истории тот характер достоверности,
который от нее требуется.
Частные мемуары и жизнеописания знаменитых людей служат источником для
установления исторической правды; при их сравнении с легковерной и даже
суеверной традицией они дают материал для ее опровержения или
подтверждения; вместе они придают истории тот характер достоверности,
который от нее требуется. По этой причине времена Генриха III, Генриха IV, Людовика XIII и Людовика XIV хорошо известны, а история этих царствований заслуживает доверия. Последовавшая затем эпоха, более к нам близкая, не обладала такими преимуществами и оставила нам меньше подобных сведений. Можно считать, что общие познания об этом периоде основываются на одной традиции. “Век Людовика XIV”, написанный Вольтером, представляет собой особого рода сочинение. По простоте, естественности тона и по воспоминаниям о некоторых анекдотических событиях оно относится к разряду мемуаров, но часто оно подымается до общих взглядов более высокого характера. Совершенно очевидно, что Вольтер не претендовал на составление истории царствования Людовика XIV и что он хотел ограничиться наброском главнейших событий в основных их чертах. Хорошо написанная история жизни Кольбера или Лувуа дала бы правильное представление о характере правления этого великого короля. Такого же рода работа о министерстве герцога Шуазеля познакомила бы нас с духом, господствовавшим при дворе и в администрации Людовика XV. Я считал, что картина жизни герцога Орлеанского передаст особенности и окраску слабого и кратковременного царствования Людовика XVI, что она покажет проявившуюся при нем распущенность общественных и частных нравов, как и упадок форм управления и административных навыков; я думал, что работа, предпринятая с такими целями, воспроизведет характер важного периода французской истории. На протяжении трех веков французскому правительству угрожали на приблизительно равных промежутках времени беспорядки, отличавшиеся каждый своим особым характером. Первые из них, именно лига (2) и фронда (3), ускорили рост национальной силы и величия; было нечто благородное в отваге Гизов и кардинала Ретца и в их способах действия: в этом заключалась обольстительная особенность эпохи. Последние волнения, относящиеся к нашим дням, были лишь ужасной катастрофой. Герцог Орлеанский, отметивший их своим участием, отдался им только из распущенности, из презрения к приличиям, из пренебрежения к самому себе: в этом заключалась доблесть эпохи, в этом же проявлялись ее склонности и смысл событий. Теперь я приступаю к теме. Я не могу сказать, какую роль припишут герцогу Орлеанскому разные партии, господствовавшие во Франции с начала революции, когда они будут изображать, в целях собственного прославления, ее великие сцены. Лишь бы его не обвинили в ошибках, проистекающих только из одной предельной слабости характера; это будет неточно, хотя и правдоподобно. Вся его жизнь может служить тому доказательством. Обстоятельства, среди которых он действовал, часто менялись, но, превращаясь из ребенка в юношу, из юноши в зрелого человека, он оставался всегда и неизменно одним и тем же. Несмотря на то, что я могу сообщить о жизни и характере герцога Орлеанского много любопытных и малоизвестных подробностей, я похоронил бы их в своей памяти, если бы считал, что они могут только удовлетворить любопытство, но мне казалось, что они послужат полезной цели, и потому я их собрал. В стране, где еще существует обычай давать отличия, следовало бы наделять заметными знаками людей, которые должны быть удалены с государственной арены. Яркий пример такого рода дает герцог Орлеанский. Всякий человек, который в молодости выставляет напоказ глубокое презрение к общественному мнению и который затем так развращается, что перестает уважать самого себя, не может позже, когда он становится старше, поставить других границ своим порокам, кроме бесплодия собственного воображения или воображения тех, кто его окружает. Я мог бы избавить себя от описания преимуществ, которыми имел право гордиться этот первый принц крови из Дома Бурбонов, если бы степень кровного родства, существовавшего между Людовиком XVI и герцогом Орлеанским, не представляла для нас весьма большого интереса. Его характер будет понятнее, когда мы окружим его всеми теми привилегиями, которыми он пользовался, и противопоставим их лежавшим на нем обязанностям. Тогда станет ясно, что он попрал ногами, какие он нарушил узы, какие чувства задушил и какое положение опозорил. Тот, кто считает Генриха IV своим предком, располагает всесильным правом на любовь французов. Франция привыкла почитать в первом принце крови первого из подданных, достаточно могущественного для покровительства и всегда недостаточно сильного для угнетения, более влиятельного, чем всякое другое лицо, но менее властного, чем закон и король, являвшийся отображением закона. Он был одним из наиболее естественных посредников, через которого личные благодеяния монарха могли достигать народа, а народная благодарность — восходить к престолу. Не следует ждать от меня больших подробностей о первых годах жизни герцога Шартрского. Я не стану подражать тем, кто в лепете ребенка мучительно разыскивает гороскоп его пороков и добродетелей. Это я предоставляю лицам, пишущим по определенной системе: у меня ее нет. Когда прошли первые годы детства герцога Шартрского, он приступил к учению, его воспитание было передано мужчинам, но переход от нянь к первым учителям означал только замену женской слабости мужской снисходительностью. Говорили, что “если он плохо воспитан, то по крайней мере он будет добр,— Орлеанским свойственна доброта”. Благодаря уверенности в этой доброте о воспитании его характера заботились не больше, чем об его учении. Так как у него был очень изящный стан, то его пытались усовершенствовать в физических упражнениях. Не многие юноши ездили верхом так хорошо и с такой грацией, как герцог. Он отлично фехтовал, на балах его всегда отмечали. Все, что сохранилось от старинного французского двора, жалеет о рукоплесканиях, которыми его наделяли за исполнение беарнского танца в костюме Генриха IV или благородных па в праздничном наряде, который носили юноши при дворе Людовика XIV. Хотя в мелких делах и в общении с детьми своего возраста он проявлял довольно много рассудительности, он не мог совершенно ничему научиться; он начал изучать несколько наук и несколько языков, но он никогда не постиг даже правил правописания, которые теперь во Франции известны каждой женщине. Однако его учитель математики говорил мне, что он находил у него некоторую склонность к этой науке. Но он был так неусидчив, что можно было только излагать ему разного рода сведения; его внимание легко утомлялось, и он умел его сосредоточивать лишь до того момента, когда он приобретал относительно того, чему его учили, какое-нибудь собственное суждение; тогда он переставал двигаться вперед. Его характер не обещал еще ничего выдающегося, но уже можно было заметить, что он находит особого рода жестокое удовлетворение в том, чтобы приводить в замешательство приближавшихся к нему лиц, в чем отражалась некая веселая, но в то же время сварливая, высокомерная злобность, которую благожелательные люди называют проказливостью. Было также замечено, что в своей ранней молодости он не проявлял благодарности ни к родственникам, ни к учителям и не испытывал никакой привязанности к товарищам своих игр. Хотя в детях это свидетельствует только об отсутствии некоторых положительных качеств, не отражающем никакого определенного предрасположения характера, тем не менее эта черта обещает большую холодность сердца. Из лиц, участвовавших в его воспитании, я решаюсь назвать только графа Пона, Шатобрена и Фонсманя, так как они имеют сами по себе веское право на общественное уважение. Герцог Шартрский с нетерпением ожидал того возраста, который даст ему независимость, и притом не для того, чтобы попробовать свои силы в полезных жизненных делах, как это бывает у хороших юношей, но исключительно чтобы избавиться от докучливых воспитателей и стремительно отдаться своим склонностям. Этот момент, который следовало бы устанавливать для каждого лица отдельно, в зависимости от направления его ума, от склада характера, от того, как были проведены годы его детства и юности,— этот момент, говорю я, у французов плохо рассчитан. Они не оставляют почти никакого промежутка между детством и тем периодом, когда молодой человек вступает без всякого руководства в незнакомый ему свет. Такое внезапное предоставление человека самому себе еще более опасно для принцев. Будучи рабами той заботливости, которой их окружают, они остаются детьми до шестнадцатилетнего возраста и вдруг сразу оказываются больше чем просто взрослыми людьми, они еще неспособны быть свободными, а уже отдают распоряжения. Испытывая изумление перед своими новыми правами, торопясь злоупотребить ими, чтобы удостовериться в их неотъемлемости, они находят вокруг себя лишь обольщения. Их самые верные слуги боятся заслужить недовольство, предостерегая от опасностей, а толпы всевозможных лиц спешат всеми способами быть приятными. Подобное сочетание внешних условий становится очень опасным при тех природных свойствах, какие можно было уже тогда заметить у герцога Шартрского. Будь он вооружен какими-нибудь нравственными правилами, которые оказывали бы сильное влияние на его сердце, можно было бы ожидать, что они дадут о себе знать в минуту успокоения, когда всякий человек заглядывает в глубину своей души. Во всяком случае он ограничил бы свои склонности той уздой приличия, которую накладывает общественное мнение. Если бы у него было живое тяготение к какой-нибудь науке, он пытался бы расширить свои знания и сумел бы управлять своим вниманием. Будь он хотя бы искренне влюблен, то, стремясь нравиться, он не растратил и не развратил бы своего ума в постоянном безделье, его сердце освободилось бы от недостатков, исчезающих перед лицом истинного чувства. Простое счастье, остерегающееся опасностей, которые создаются беспокойным воображением, и самоотверженность, вызывающая великодушные чувства, несомненно развили бы у герцога Шартрского какие-нибудь серьезные достоинства. Но по сухости своего сердца он был лишен иллюзий молодости, в то время как рассеянность ума мешала ему сосредоточиться на серьезных предметах. Так как он был необуздан в своих склонностях и превратил удовольствия в оплот против самой любви, то он начал злоупотреблять всеми радостями и сохранил постоянство только в излишествах. В 1769 году он женился на девице Пентьевр. Она была добра, бела, свежа, кротка и чиста, но она нравилась ему до тех пор, пока как женщина была для него новинкой. По прошествии нескольких дней все сколько-нибудь блестящие парижские куртизанки могли снять вдовьи наряды, в которых им угодно было появиться в опере, когда герцог и герцогиня Шартрские впервые приехали туда вместе. Вступив в свет, герцог Шартрский подружился с Вуайе, главой всех развращенных людей той эпохи. Благодаря своему большому состоянию, репутации искусного в государственных делах человека, умению вести довольно блестящие разговоры на военные темы и большому остроумию Вуайе объединял вокруг себя молодых людей с пылкими страстями, зрелых людей, утративших доброе имя, всякого рода шалопаев и интриганов. Аббат Ивон, получивший известность скорее вследствие продолжительных преследований, которым он подвергался, чем как автор нескольких статей в Энциклопедии, в том числе статьи о душе, которая и навлекла на него гонения, познакомил герцога Шартрского с возвышенной метафизикой, и тот усвоил ее язык даже для самых непринужденных разговоров. У него постоянно повторялись такие выражения, как—душа… пространство... цепь существ... абстракция... материя... состоящая из точек... простая... непротяженная... неделимая, и так далее. Все эти слова, произносимые без определений, с интервалами, жестикуляцией, недомолвками и в мистической форме, подготовляли молодых адептов к вере Вуайе. Тогда их начинали учить, что всякое чувство лишь смешно... что совестливость свидетельствует о слабости... что справедливость — предрассудок... что во всех наших действиях мы должны руководствоваться своими интересами или, вернее, стремиться к удовольствию, и так далее. От доказательств, естественно, воздерживались. Однажды вечером, за товарищеским ужином, Лиль, офицер из полка, находившегося под командой Куаньи, человек умный и привязанный к своим друзьям, несколько обидчивый, может быть, чрезмерно непринужденный, но в общем вполне порядочный малый, недостаточно убежденный в том, что “справедливость представляет собой безусловный предрассудок”, позволил себе сделать некоторые возражения. “Это моя ошибка, дорогой Лиль,— заявил скромно Вуайе,— если у вас еще есть какие-нибудь сомнения; это значит, что я не поднялся достаточно высоко. Я был неправ, мне следовало подойти к самому корню проблемы... Слушайте, ведь это только слово... Все знают, что существование является для нас представлением о постоянстве некоторых сочетаний чувств, которые (слушайте меня внимательно) в одинаковых или приблизительно одинаковых обстоятельствах оказываются неизменными... Понимаете ли вы, Лиль? Если они даже не вполне неизменны, то в изменениях, которым они подвергаются, они подчинены некоторым законам, управляющим вселенной, и так далее. Вы меня внимательно слушаете, не правда ли? Вы видите следствия всего этого; для такого человека, как вы, дорогой Лиль, нет надобности развивать это дальше, и так далее!!!” Как может самолюбивый молодой человек признаться в своей неспособности понять этот таинственный язык? Приходилось делать вид, что убежден сказанным. Лиль был настолько рассудителен, чтобы не понимать, но у него не хватало мужества об этом заявить, лишь когда при помощи таких нелепостей осмелились напасть на развращенность, которая до того считалась для подобных людей во Франции священной, то Лиль рассказал об этом разговоре и некоторых других, которые он запомнил по причудливости применявшихся в них выражений. Среди этого бесформенного метафизического мусора, в этой новой стоической философии можно было найти в законченном виде лишь несколько уродливых изречений и сентенциозных подстрекательств к развращению мысли. Однако основной принцип доктрины Вуайе был прост. Он отрицал существование морали и говорил, что для разумных людей она только пустое слово, что в ней нет ничего реального, что утверждение моральных начал надо искать в своей совести; таким образом, мораль не существует для всех тех, кто по своему уму и характеру может никогда не испытывать укоров совести. Вследствие этого откровенность, искренность, доверчивость, естественная честность и все добрые чувства осуждались и объявлялись нелепыми. Когда источники истинных радостей так иссушаются, то их приходится заменять чудовищными наклонностями. Для лиц, посвятивших себя всевозможным развлечениям, они уже к двадцати годам теряют свою привлекательность. Развращенные органы нуждаются в сильных эмоциях. Их может доставить один разврат. Поэтому он господствовал над всеми этими потерянными молодыми воображениями, а его господство всегда превращается в непреклонную власть. Приносимые ему жертвы не смягчают его; чем больше ему делают уступок, тем больше он требует; первыми ему приносят в жертву чистосердечие, верность и прямоту. Последователи всякого учения просто в него верят, но Вуайе, пользуясь правами главы секты, не верил в проповедуемое им учение. Это доказывается множеством подробностей его жизни и смерти. Он постоянно изрекал слова полнейшего презрения к общественному мнению, но суждения публики составляли его мучение. “Хорошо воспитанное общество,— заявил он однажды,— подвергнется скоро заслуженному им презрению”. Однако он был безутешен, когда обнаружилось, что дома некоторых членов этого общества, которое он так презирал, для него закрыты. Пренебрежение ко всякого рода чувствительности, требуемое взятой им на себя ролью, вынуждало его принимать меры, чтобы скрыть помощь, оказываемую им бедным семьям. В своем поместье “Вязы”, особенно в его отдаленных частях, он делал много добра. О дворе, о раздаваемых там милостях и низких людях, которые их испрашивают, он говорил не иначе, как с насмешкой, но окольными путями он ходатайствовал для себя об ордене Святого духа, который больше других милостей короля отражал его личную благосклонность. Когда он однажды находился в Марли, в месте празднеств и развлечений, Людовик XVI со свойственной его добрым нравам строгостью и с резкостью, которая объяснялась его скромностью и безукоризненной честностью, упрекнул его в присутствии всего двора в развращенности. В первое мгновение изумленный Вуайе не нашел, что ответить. Придя немного в себя, он отправился к Морепа, чтобы рассказать ему о происшедшем и попросить его добиться удовлетворения. Но этим посредничеством он не мог похвалиться, так как он услыхал только следующую фразу: “Мы никогда не научим короля вежливости”. Обидное слово “вежливость”, отказ в ордене и суровые выражения короля глубоко его оскорбили; все близко его знавшие лица, как, например, его жена, не сомневались, что его смерть, наступившая вскоре за этим, была вызвана огорчением. Герцог Шартрский, знавший лишь ту сторону характера Вуайе, которую тот не скрывал, приобрел все пороки, свойственные подобному обществу. Он утратил все естественные чувства, которые могли бы ему помочь раскаяться. С этого момента, от этой второй стадии воспитания, полученного им в том возрасте, когда люди становятся учениками окружающих их условий, надо вести начало действительного развращения герцога Орлеанского. До этого он обнаруживал лишь дурные склонности, но теперь он усвоил в защиту своего поведения гибельные правила и приобрел такие привычки, с которыми он уже никогда не мог расстаться. Для объяснения всей его жизни следует обращаться к этому периоду. Зная яд, которым его пропитали, нельзя удивляться совершенным им роковым ошибкам. Познакомив с доктриной Вуайе, я одновременно изобразил всего герцога Орлеанского, я вскрыл тайну его жизни и силу, двигавшую его поступками. Как бы они ни были различны, в них обнаруживается одно и то же начало. Никогда еще человек не был таким полным рабом своих верований. Сколько опустошений произвела в современном поколении французов эта система, известная среди ее сторонников под именем “борьбы с заблуждениями”! До XVIII века она скрывалась в глубине сердец нескольких порочных людей и ждала этой эпохи, чтобы дерзко прозвучать как открыто высказываемый взгляд, как философская система. Это редкое проявление дерзости заслуживает быть отмеченным. В истории французского народа слишком недостаточно отмечались великие искажения человеческого духа, как будто нет обязательной связи между заблуждениями и преступлениями. Разве мораль не выиграет, если взгляды герцога Орлеанского будут сопоставлены с разными его поступками? Он считал, что правильно только то, что ему удобно; ему было неизвестно, что в своем счастье человек зависит от счастья других людей; он не признавал потребности во взаимных услугах, составляющей мощное основание общего и частного доброжелательства. Все средства нравиться, которые природа отпускает лишь в великодушных целях, он подчинял исключительно личным комбинациям, направленным против доверчивой и неопытной простоты. Призванный к обладанию огромным состоянием, он не считал добро, которое он мог бы делать другим, ручательством того, что оно будет сделано и ему; при своем ограниченном эгоизме он не мог поверить, что в подобном обмене он получит больше, чем даст. Если в своей первой молодости человек рассчитывает чувства, то он рассчитывает их всегда неправильно или, точнее,— он рассчитывает их только потому, что не имеет их. В постоянной смене склонностей, вызываемых капризами и увлекающих душу от горячности к безразличию, а от безразличия к другому капризу, нет места дружбе. Поэтому герцог Орлеанский не любил никого. Несколько покладистых молодых людей, принимавших это безразличие за мягкость, привязались к нему. Он превратил их в участников своих развлечений, в товарищей по разврату, но никогда не испытывал к ним сердечной привязанности. Одним из первых, с кем он сблизился, был принц Ламбаль, но он был слишком слабого телосложения, чтобы долго выдержать тот образ жизни, который вел его шурин. Когда молодые принцы умирают, то никто не верит, что их смерть наступила естественно. Смерть принца Ламбаля доставила герцогу Орлеанскому такое колоссальное богатство и он так плохо его использовал, что в нескольких памфлетах его обвиняли в более непосредственном содействии этой смерти, чем простое вовлечение погибшего в разврат. Но это ничем не доказано, и я должен заверить, что, по достоверным сведениям, ничто не дает основания высказывать такие подозрения. Достаточно уже утверждения, что принц Ламбаль был ближайшим другом герцога Орлеанского, что последний развратил его, что это вызвало его смерть и что герцог Орлеанский не высказал по этому поводу никаких сожалений. Другая, более продолжительная дружеская связь также не оставила сколько-нибудь заметных следов в сердце герцога Орлеанского. Он проявил самое бессердечное равнодушие, когда в 1788 году потерял, после двадцатипятилетней дружбы, одного из своих главных завсегдатаев, маркиза Конфлана, человека, известного сначала своей красотой, благородством, изяществом стана, ловкостью, затем своими недостатками, проявлявшимися, когда он находился в дурном обществе, своими достоинствами, ощущавшимися, когда он был среди военных, верностью своих суждений, когда он говорил о серьезных предметах, и во все периоды своей жизни — искренностью своих чувств, вкусов и антипатий. Заболев той болезнью, от которой он начал чахнуть и впоследствии, после внезапной вспышки, погиб, Конфлан не хотел признать себя больным и продолжал посещать свет, как прежде. В день своей смерти он должен был обедать с герцогом Орлеанским и несколькими другими лицами у Бирона в Монруже. Его ждали, причем герцог Орлеанский был более нетерпелив, чем остальные, так как он собирался затем в театр. Когда в четыре часа все уже съехались, прибежал один из слуг Конфлана сообщить, что он только что умер. Все присутствовавшие в комнате выразили большую или меньшую степень сожаления в зависимости от своей близости с Конфланом. Герцог Орлеанский произнес лишь следующие слова: “Лозен, так как мы больше никого не ждем, то будем обедать, чтобы вовремя приехать в оперу”. Изучение движений человеческого сердца не объясняет, каким образом такая бесплодная душа могла внушать чувства дружбы; поэтому я считаю странностью, что герцога Орлеанского искренне любили. Бирон с детства до смерти питал к нему самые нежные чувства. Честь этого чувства нельзя, конечно, приписывать герцогу Орлеанскому; она принадлежит целиком Бирону. Он был смел, романтичен, великодушен и одухотворен. Соответствие их возрастов и первых живых чувств, некоторое сходство в проявлениях остроумия и почти одинаково блестящее положение сблизили их. Но вскоре оказалось, что требуется мужество, чтобы любить герцога Орлеанского, и великодушие, чтобы его защищать. После того как Бирон проявил эти два качества, герцог Орлеанский стал ему еще дороже, а романтический характер Бирона помог ему создать все те иллюзии, в которых нуждалась его возвышенная душа для поддержания чувств. В те минуты, когда Бирон, к которому всегда обращались за помощью вследствие его щедрости, испытывал неотложную нужду в деньгах, он не верил, что герцог Орлеанский, так колоссально богатый, в состоянии их ему одолжить, потому что тот ему этого никогда не предлагал. Та же последовательность иллюзий заставляла его утверждать, что, когда герцог Орлеанский вступал в политическую жизнь, он не лелеял никаких тайных мыслей и личных стремлений и не принимал никакого участия в революционном движении, так как он сам ему об этом ничего не говорил. Я не буду упоминать о других дружеских связях герцога Орлеанского, как с виконтом Лавалем, с Шельдоном, Лианкуром, Артуром Диллоном, Фитц-Джемсом, Сен-Бланкаром, Монвилем и другими. Все эти отношения в разные периоды его жизни распались. Одни развлечения, на которых они основывались, не образуют такой прочной связи, которой хватило бы на целую жизнь. Говоря обо всех этих мимолетных дружеских отношениях, я должен, вопреки собственному желанию, сказать несколько слов о множестве возлюбленных герцога Орлеанского, заполнивших часть его жизни; однако они внесли в нее так мало событий, что я не считаю нужным воспроизводить здесь их длинный список. Моя задача будет совершенно выполнена, если я укажу, что герцог Орлеанский проявлял все наклонности, все капризы и странности, в которых нуждается вначале повелительная, а затем истощенная чувственность для своего утоления или возбуждения. Я хотел бы сейчас остановиться на более нежных образах и поговорить о женщинах более возвышенного рода, любивших герцога Орлеанского. Временами он снова появлялся в свете, но всегда как во вражеском стане, где он искал жертв. Принцесса Бульон, маркиза Флери, принцесса Ламбаль поочередно считали, что он их любит, и давали ему доказательства своей любви. Их нежность стала для его порочного ума новым источником распутства, но он истощался, как и все остальные. Он вкоре покинул их с такой оглаской, которая, к счастью, привела к обратным результатам, чем ожидал герцог Орлеанский. Общество оказалось к ним снисходительно, их жалели, и они заставили забыть свои заблуждения. Я не мог упомянуть госпожи Силлери среди женщин, которые отметили собой лишь короткий момент в жизни герцога Орлеанского, так как о ней надо говорить особо. Когда человек представляет собой смесь честолюбия и умеренности, непринужденности и сдержанности, нравственных правил и снисходительности, то его внешняя и интимная жизнь должна привести к необычным результатам. Госпожа Жанлис достигла всего, к чему стремилось ее честолюбие, при помощи самых противоположных средств, которые она всегда умела сочетать. Когда она была молода, красива и одинока, она нашла мужа, отважившись на несколько утренних визитов к мужчинам; позднее, среди любовных похождений, она прибегала к ригористическим ходулям; одним и тем же пером она написала “Рыцарей лебедя” и “Уроки морали для детей”; на одном и том же столе она сочинила молитвенник для госпожи Шартрской и речь к якобинцам для герцога Орлеанского. Вся ее жизнь состоит из таких противоположностей. У мадемуазель Сент-Обен — это было ее имя — был изящный, но лишенный благородства стан, выражение ее лица было очень пикантно; в ее разговоре было мало остроты, в ее уме мало обаятельности, но она вполне владела всеми преимуществами, которые дают образование, наблюдательность, сдержанность и светский такт. Когда она с грехом пополам вышла замуж за графа Жанлиса, ей надо было сблизиться с семьей своего мужа, которая, как она знала, была к ней неблагосклонна. Одаренность, притворная робость и время помогли ей достичь цели. Она добилась возможности приехать в Силлери. В несколько дней она сумела понравиться Пюизье, одному из самых скучных людей своего времени, и смягчить колкость госпожи Пюизье. Она хорошо понимала, что это означает для нее истинное вступление в свет; поэтому она использовала все бывшие в ее распоряжении средства; она проявила ласковость, внимательность, веселость, лишенную натянутости, и даже умела придать своей постоянной снисходительности оттенок чувствительности. Этот первый успех был ей очень полезен; перед ней открылись двери некоторых домов, и она сумела приблизиться к герцогине Шартрской, которая своим подчеркнутым покровительством в короткий срок разрушила все сохранившиеся против нее маленькие предубеждения. Герцог Шартрский находил ее очаровательной; он ей об этом говорил, а госпожа Жанлис умела ему внимать; она всегда легко уступала, чтобы избежать огласки, вызываемой кокетством. Благодаря нескольким годам усилий, снисходительности и замкнутой жизни она приобрела такое влияние на герцога Шартрского, что можно было заподозрить ее роль в его поступках, или, вернее, в обстоятельствах, определивших его жизнь. Столь тщательно обдуманное поведение не осталось без вознаграждения: она добилась назначения воспитательницей, или, скорее, воспитателем, его детей. Этот выбор герцога Шартрского доказывает лишь его желание быть оригинальным и проявить презрение к усвоенным приличиям. В первых своих сочинениях госпожа Жанлис показала, что она может руководить той частью воспитания, которая относится к рассудку. Благодаря своим природным качествам старший сын герцога Орлеанского и его дочь — Mademoiselle(4) — стали людьми возвышенных достоинств. После того как они подверглись всяким испытаниям, закалились в них, просветились и облагородились в несчастье, они проявили при возвращении к своему естественному назначению простоту и величие души. Лучшие сочинения госпожи Жанлис, за исключением “Мадемуазель Клермон”, относятся к этому периоду. Если сейчас мы наблюдаем ее упадок и видим, как бесславно она следует в качестве писательницы по странному и мало почтенному пути, то это объясняется тем, что, опьяненная своими первыми успехами, она подчинилась велениям честолюбия и перестала руководствоваться собственным суждением; она обращается с ревнивой к своей независимости публикой так, как некогда обращалась с послушными ей в своей покорности учениками; твердость своих правил она не умеет смягчить снисходительностью для покорения публики, как некогда она делала для порабощения всех тех, кто ее окружал. Нельзя не отметить двух обстоятельств: во-первых, госпоже Жанлис до такой степени необходимо командовать, что, когда у ней не было под рукой принца, чтобы распоряжаться им, она, положившись на волю случая, взяла себе в ученики первого встречного; во-вторых, несмотря на проповедуемый ею ригоризм и исповедуемую ею в ее сочинениях мораль, в ее последних романах постоянно чувствуется нечто близкое первоначальной легкости ее нравов; в них всегда находишь любовь или незаконных детей. Для кого, для чего продолжает она писать? Это может быть объяснено лишь любовью к шуму; смолоду у нее было больше основательности в мыслях. Вся молодость герцога Орлеанского прошла без всяких планов и проектов, без последовательности и без всякой сдержки. Все его поступки носили отпечаток необдуманности, фривольности, развращенности и коварства. Он ездил смотреть с образовательными целями опыты Преваля; поднимался на воздушном шаре; участвовал в фантасмагориях Калиостро и кавалера Люксембургского, посещал скачки в Ньюмаркете и т. д. Для увеличения своего состояния, которое и так было колоссально, он спекулировал участком Пале-Рояля(5), этого жилища Людовика XIII, Анны Австрийской, Людовика XIV и, наконец, “Monsieur”(6), благодаря которому оно вошло в состав удела Орлеанского дома. Позже, испытывая подозрения, он известил за несколько дней вперед казначея Сегуена о намерении посетить его, чтобы лично посмотреть состояние своей кассы, а приехав, приказал арестовать его в своем присутствии, унес ключи и таким путем завладел всеми деньгами, которые предупрежденный об его посещении Сегуен набрал в карманах своих друзей для временного возмещения сумм, растраченных им на собственные дела. Честолюбивые стремления возбудили у герцога желание быть зачисленным в эскадру, которой командовал Орвилье. Он надеялся благодаря этому заслужить назначение на весьма доходную должность великого адмирала, которую занимал его тесть герцог Пентьевр. Этой должности он не получил, а его храбрость подверглась сомнению. Чтобы рассеять ее, он разрешил толпе приветствовать его на каких-то спектаклях и возложить на него венок под окнами мадемуазель Арну. Тогда Париж стал забавляться пикантной, но несправедливой песенкой на его счет. Последующие годы его жизни были заполнены несколькими путешествиями в Англию, поездкой в Италию, которая стала известна лишь своей стремительностью, честью, которую ему доставило избрание великим мастером франкмасонов, “Те deum”, пропетым ложей “Девяти сестер” после довольно тяжелой болезни герцога, и развлечениями, или, вернее, всякого рода распутством, в Муссо. Герцог Орлеанский приближался к тому возрасту, когда первоначальные страсти начинают у большинства людей слабеть и уступают власть над человеком новому деспоту. Однако никакие признаки не свидетельствовали еще о развитии у него честолюбия, несомненно, позднее зарождающегося в сердцах, истощенных распутством и иссушенных всякими личными расчетами. Однако вокруг него начало ощущаться то волнение, которое в конце концов овладело всей Францией. Из всех частей королевства уже раздавались глухие и отдаленные раскаты, предвещавшие вулканические извержения. Французы были призваны самим правительством обсудить состояние государственных финансов и выслушать отчет об их положении. Этот вновь озаривший их свет вызвал небывалые ощущения и произвел глубокое впечатление. Во Франции создалась новая власть, именно — власть общественного мнения. Оно не было тем ясным и твердым общественным мнением, которое составляет привилегию народов, долго и мирно пользовавшихся своей свободой и хорошо знакомых с государственными делами, но это было общественное мнение народа порывистого и неопытного, который становится под его влиянием еще более самонадеян в суждениях и решителен в желаниях. Калонн решил, что ему удастся управлять этим грозным орудием и восполнить им устаревший арсенал государственных средств. Он созвал нотаблей(7) и распределил их между несколькими комиссиями, которые возглавлялись принцами королевского дома или принцами крови. Председательствование в третьей комиссии выпало на долю герцога Орлеанского. Он проявил себя лишь своей беззаботностью и нерадивостью. При усердном посещении заседаний надо было бы пожертвовать на некоторое время своими удовольствиями или привычками, а он был к этому неспособен. Начав с отсутствия на вечерних заседаниях, он кончил пренебрежением и к утренним, на которые он ездил очень поздно, а иногда и не ездил вовсе. Он довел свое легкомыслие до того, что во время одного заседания участвовал в охоте в лесах Ренси. Олень, которого он преследовал, был настигнут во рвах предместья Сент-Антуан на глазах возмущенных парижан. Его малочисленные сторонники думали найти извинение его поведению в том, что он оставался по крайней мере чужд интригам, которые, создав постыдный беспорядок в собрании нотаблей, погубили затем все возбужденные им надежды. Но эта отрицательная похвала была не очень лестной; разве в этих памятных событиях герцогу Орлеанскому не оставалось ничего иного, кроме интриганской роли? Уже больше полутора веков Франция не видала, чтобы ее король призывал к себе такой влиятельный совет. Самые большие вельможи, старшие должностные лица, богатейшие землевладельцы Франции собрались для того, чтобы высказать свое мнение по главнейшим вопросам управления. Надо было противопоставить сопротивлению парламентов воззрения более основательные и более просвещенные, предстояло произвести наступление на громаду духовных привилегий, приспособить сумму народного обложения к потребностям государства путем изменения всей налоговой системы, установить твердые и давно ожидаемые правила относительно застав, барщины, свободной торговли зерном и так далее. Можно понять, что люди и корпорации, которым угрожали эти реформы, привели в действие все, чтобы воспрепятствовать им, что легионы честолюбцев, оспаривавших друг у друга министерства, захватили все поле действия, чтобы давать друг другу сражения. Но как мог принц крови, далекий от подобных интересов, не почувствовать благородного стремления раздавить всех этих мелких интриганов всей силой своей независимости, как мог он с безразличием наблюдать начало беспорядков, как мог он спокойно видеть опасности, угрожавшие королю, слабость которого всеми чувствовалась и злорадно учитывалась,— этого я не понимаю и такой безучастности не постигаю. За нее с горечью попрекал его народ, горячо интересовавшийся происходившими тогда спорами и уже настолько освободившийся от своего старого легкомыслия, что он не мог простить принцу королевской крови так скандально подчеркиваемую им беззаботность. Доходивший до него ропот поставил его в известность о строгости общественного осуждения. Для того чтобы его смягчить советники принца сочли необходимым какое-нибудь громкое выступление с его стороны и добились его согласия, но это выступление должно было быть несложным и не требовать последовательности; необходимо было провести роль в соответствии с силами того, кому она предназначалась. Канцлером, то есть управляющим всеми делами герцога Орлеанского, был маркиз Дюкре, один из тех авантюристов, которые по капризу фортуны возносятся иногда на вершину ее колеса и которые думают, что достигли всего своими собственными заслугами. Этот человек был предприимчив по ветрености и доверчив по неосторожности. Он возвысился до такого положения благодаря влиянию своей сестры, госпожи Жанлис; тяготы этой должности он выносил не столько с ловкостью делового человека, сколько с проворством шарлатана. Считалось, что дела герцога Орлеанского находятся в порядке, что заставляло предполагать некоторые способности у Дюкре. В то время все были заняты разными финансовыми проектами. Дюкре решил составить записку о государственных финансах, в которой он с легкостью доказывал, что до сего времени ими плохо управляли. Он предлагал для их восстановления следовать той системе, которую он проводил на практике, управляя финансами своего господина. Было решено, что герцог Орлеанский должен передать эту записку королю; он гораздо охотнее согласился сделать это, чем обсуждать содержавшиеся в ней принципы. Ему было достаточно того, что выступление его получит огласку и придаст ему при небольшом труде видимость рвения. Вся эта комбинация первоначально имела успех. Король получил записку и не дал никакой огласки ее содержанию, что шло дальше намерений автора. Задетый этим молчанием, он составил вторую записку, в которой не только критиковал действия министерства, но открыто нападал на личности министров и особенно на архиепископа тулузского. Что касается сущности дела, то он не ограничился одним вопросом восстановления финансов, а смотрел прямо в корень зла и стремился вернуть королю сердца французов, которые отвратились от него вследствие ошибок правительства. Он предлагал для одновременного разрешения обеих задач учредить во главе каждой части управления советы и тем ослабить авторитет министров. Но в то же время он требовал, чтобы во главе советов был поставлен верховный начальник и главный руководитель. Он самоотверженно заявлял, что согласится взять на себя эту первую роль при условии предоставления ему неограниченной власти и получения поддержки со стороны общественного мнения для укрепления его положения. В итоге он требовал для себя восстановления звания главного интенданта с причитающимся ему жалованием, то есть должности, на которую никого не назначали с момента известной немилости главного интенданта Фуке в царствование Людовика XIV. При своей снисходительности и покладистости Людовик XVI, которому герцог Орлеанский передал эту вторую записку, наказал бы такую наглость одним лишь презрением. Но случайность, приведшая к ее разглашению, привела к справедливой каре. Экземпляр этой второй записки был найден при личном обыске графа Керсалауна, бретонского дворянина, арестованного по распоряжению губернатора в связи с местными делами; при огласке тайны обнаружился размер скромных дарований канцлера и осторожность его господина. Это открытие превратило их обоих в предмет многочисленных шуток в стихах и прозе, из которых мы приведем лишь следующую эпиграмму, позволяющую познакомиться с настроениями, господствовавшими во Франции в этот период жизни герцога Орлеанского: Par tes projets bien entendus, Modeste Ducrest, a t'entendre, A la reine, au roi tu vas rendre Les coeurs francais qu'ils ont perdus. Sans miracle cela pent etre. Helas! ils n'ont qu'a le vouloir. Mais, en preuve de ton savoir, Fais-nous avant aimer ton maitre. (Своими умелыми проектами,— скромный Дюкре, если поверить тебе,— ты вернешь королеве и королю — потерянные ими сердца французов.— Это может произойти без всякого чуда.— Увы, им нужно лишь захотеть этого.—Но, для доказательства своей ловкости,—заставь нас прежде полюбить своего господина.) Когда эта первая попытка завоевать общественное мнение герцогу Орлеанскому не удалась, облеченные его доверием лица не лишились бодрости и лишь сочли, что им дано предупреждение в будущем лучше подготовлять свои выступления. Случай не замедлил представиться, так как положение дел менялось каждый день и становилось все сложнее. Развитие идей, еще более быстрое, чем событий, необычайно ускорялось. В начале того же самого года всех поразил, как я уже указывал, созыв собрания нотаблей, а с июля следующего года в недрах парижского парламента заговорили не с изумлением, а с восторгом о созыве Генеральных штатов. Парламенты повсеместно отказывались в судебных заседаниях от своих старых притязаний на регистрацию налогов. Они отклоняли занесение в регистры соответствующих указов и заявляли, что законы о чрезвычайных налогах должны быть переданы на свободное утверждение Генеральных штатов. Двор, удивленный поведением парламентов, хотел их запугать. Он перевел парижский парламент в Труа, а парламент города Бордо, вследствие других создаваемых им затруднений,— в Либурн(8). Но эти строгости продолжались недолго. Упорство судебных сановников удалось преодолеть; разные компромиссы и интриги, в которых тогда впервые выстудили, и притом в различных ролях, Семонвиль с женой (тогда еще госпожой Монтолон), привели к временному примирению, но это была лишь передышка; в то время как мероприятия обнаруживали стремление идти вспять, общественное мнение становилось все более угрожающим. Казалось, что слух министров вполне освоился с названием “Генеральные штаты”; при каждом соответствующем случае правительство брало на себя новые обязательства, а усилия министерства ограничивались тем, чтобы отложить их созыв до 1792 года. Но до этого срока надо было как-нибудь дожить, а пока приходилось восполнять недостаточные налоги, оплачивать обязательства, срок которым уже наступил или наступал, и покрывать чрезвычайные расходы; для удовлетворения всех этих потребностей министерство располагало лишь одним источником в виде проекта займа в четыреста миллионов, выпускаемого в течение пяти лет. Для того чтобы смягчить впечатление от такого огромного притязания, с одной стороны, начали говорить о реформах, экономии и разных улучшениях, с другой — к указу о чрезвычайном налоге присовокупили закон, благоприятный для не католиков, так как правительство считало, что он соответствует господствующим взглядам и может создать ему сторонников, в которых оно нуждалось больше, чем когда бы то ни было. Повсюду начинал преобладать критический дух; каждый ставил себе в заслугу присоединение к недовольным, потому что таково было общее настроение; оппозиционность воодушевляла все корпорации и господствовала во всех печатных работах; все соревновались в нападках на министерство, которое никто не смел защищать и самым опасным врагом которого была, в конце концов, его собственная неспособность. Поэтому над ним было нетрудно одерживать победы и, независимо от исхода борьбы, привлекать на свою сторону публику. Друзья герцога Орлеанского убеждали его разделить эти легкие успехи; он мог таким путем достигнуть одновременно нескольких целей. Герцог чувствовал некоторую досаду вследствие отказа, полученного им, когда он просил в последний раз разрешения поехать в Англию, так как принцы крови не могли оставлять пределы Франции без позволения короля. По легко понятным политическим причинам все члены царствующего дома были поставлены во всех важных действиях своей частной жизни в известную зависимость от своего верховного главы. Это было своего рода законной зависимостью, требуемой общественным благом и в сущности весьма легко выносимой, так как она возмещалась столькими утехами. Герцог Орлеанский напрасно делал вид, что ему неизвестны причины обидного для него отказа; они были понятны и самым непроницательным людям. Во Франции передавались весьма скандальные слухи об его поведении во время первых путешествий, и Людовик XVI, сторонник скромных и добрых нравов, хотел избавить его от нового случая проявить распутство и выставить его напоказ перед соседним народом. Не сказался ли в отказе герцогу Орлеанскому страх правительства перед примером свободной страны и перед ее привычками? Но это были бы ребяческие опасения, к тому же оскорбительные для английской свободы; было бы очень хорошо, если бы герцог Орлеанский приобрел склонность к ее принципам и понял их. Ведь там он мог бы постигнуть истинную свободу, и тогда он узнал бы, что каждый человек несет определенные обязанности, что лица, занимающие высокое положение в обществе, должны подавать пример почтения к королю и что преступно жертвовать общественными интересами из-за сохранившейся в душе обиды. Досада герцога Орлеанского была направлена главным образом против королевы и питалась целым рядом светских дрязг. Обе стороны не жалели колких слов, а царедворцы всегда готовы были их передать. Эти жалкие ссоры оказали большое влияние на судьбу несчастной королевы Почему согласилась она спуститься с высоты трона, где с ее величием могла соперничать лишь ее же красота, для участия в спорах, которым она должна была оставаться чужда? Коронованные особы осуждены царствовать без передышки; они никогда не должны забывать значения своих частных поступков, так как им никогда не удастся заставить окружающих забыть их; простая небрежность с их стороны порождает вражду, малейшее предпочтение — зависть, а легчайшая обида—неумолимое раздражение. Герцог Орлеанский видел, что с каждым днем его все больше удаляют от того дружеского придворного общества, которое королева впервые создала при французском дворе и местом обычных встреч которого был малый Трианон. На несколько празднеств в этом восхитительном саду и, между прочим, на тот, который королева давала эрцгерцогу, своему брату(9), герцога Орлеанского совсем не пригласили. Правда, никто из принцев крови не оказался счастливее его. Таким же образом другого рода размолвки отстранили от посещения малого Трианона принца Конде и его семью. Королеве казалось, что у ворот этого волшебного убежища она может снимать цепи своего величия. Она думала быть королевой в Версале и этим воздавать должное своему королевскому рангу; в Трианоне, где она хотела быть частным лицом, она желала оставаться только самой любезной женщиной и познавать одни сладости интимного существования. Так как никто не имел безусловного права на милостивое приглашение к этим маленьким поездкам в Трианон, то к ним еще больше стремились, и они возбуждали особую зависть. Герцог Орлеанский не мог ее скрыть, хотя он внешне казался равнодушным. На одном из празднеств он условился с несколькими придворными дамами, пользовавшимися милостью, смешаться с толпой, допущенной любоваться иллюминацией; проникнув этим путем в сад, он стал мстить за то, что не был приглашен, и предался настолько колким насмешкам и шумному веселью, что это дошло до королевы и глубоко ее оскорбило. Эта мелкая вражда так раздражила герцога Орлеанского, что его нетрудно было увлечь на более серьезные оппозиционные выступления. Для него достаточно было одной власти моды, чтобы принять такое решение; надо было лишь отдаться волне общественного мнения. Чем грозило бы ему поведение, которому безопасно следовал мельчайший округ королевства и сторонники которого высказывали свои взгляды повсюду, вплоть до передних короля? Герцогу Орлеанскому достаточно было показаться, чтобы его объявили главой недовольных в пору, когда все были или делали вид, что недовольны. Лица, умевшие завоевать его доверие, возбуждали его воображение, рекомендуя занять подобную позицию. Оглавление |
|