| Charles-Maurice, Duc de Talleyrand-Perigord - Талейран | |
| Мемуары Глава 6 | |
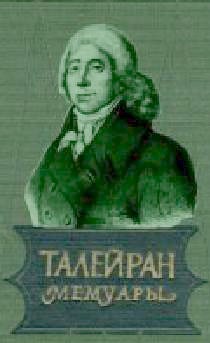 Я прибыл в Вену 23 сентября 1814 года и остановился в доме Кауница,
снятом для французской дипломатической миссии. Когда я входил в него,
швейцар вручил мне несколько писем, адресованных: “Князю Талейрану, дом
Кауница”. Мне казалось, что сочетание этих двух имен предвещает удачу.
Я прибыл в Вену 23 сентября 1814 года и остановился в доме Кауница,
снятом для французской дипломатической миссии. Когда я входил в него,
швейцар вручил мне несколько писем, адресованных: “Князю Талейрану, дом
Кауница”. Мне казалось, что сочетание этих двух имен предвещает удачу.
На другой же день по прибытии я отправился к членам дипломатического корпуса. Их удивляло то, что из сдачи Парижа им удалось извлечь лишь незначительные выгоды. Проехав только что через страны, разоренные многолетней войной, они слышали только слова ненависти и мщения по адресу Франции, обременившей их контрибуцией и нередко обращавшейся с ними, как заносчивый победитель. Мои коллеги уверяли меня, что все упрекали их в слабости, проявленной при подписании Парижского мира. Я нашел их совершенно пресыщенными многочисленными развлечениями и склонными подстрекать друг друга притязаниями, которые они считали нужным заявлять. Все то и дело перечитывали Шомонский договор, скрепивший узы между союзниками не только для продолжения войны: он заложил основы союза, который пережил эту войну и сохранил связь между союзниками на случай, который мог представиться в отдаленном будущем. Кроме того, как могли они решиться допустить в совет европейских держав государство, против которого Европа стояла уже двадцать лет под ружьем? Посланник страны, так недавно замиренной, должен быть счастлив, говорили они, что ему разрешают присоединиться к решениям, которые будут приняты послами других держав. Таким образом, несмотря на то, что мир был заключен, все кабинеты занимали в начале переговоров если не совершенно враждебную, то по меньшей мере весьма двусмысленную позицию в отношении Франции. Они все считали себя в большей или меньшей степени заинтересованными в том, чтобы еще больше ослабить ее. Так как для этого они ничего сделать не могли, то они вели переговоры с целью ослабления хотя бы ее влияния. По этому вопросу они были единодушны. Я мог только надеяться на то, что между державами возникнут разногласия, когда дело дойдет до распределения обширных территорий, поступивших вследствие войны в их распоряжение: каждая из них желала либо получить для себя, либо дать зависящим от нее государствам значительную часть завоеванных земель. В то же время все желали исключить из участия в разделе те государства, чрезмерная независимость которых внушала опасения. Эта борьба не давала мне, однако, повода проникнуть к делам, потому что державы заключили предварительные соглашения, предопределявшие судьбу самых важных областей. Для того чтобы добиться изменения этих соглашений или же заставить державы совершенно от них отказаться, в зависимости от того, как бы это диктовалось справедливостью, нужно было не только уничтожить предубеждения, не только отвергнуть притязания и подавить честолюбие; нужно было заставить аннулировать то, что было решено помимо Франции. Дело в том, что если нас и согласились допустить к участию в мероприятиях конгресса, то это была только форма, принятая для того, чтобы лишить нас способа оспаривать затем их законность; указывалось, что Франция не может протестовать против уже принятых решений, которые считались совершившимся фактом. Прежде, чем пытаться дать здесь верную картину Венского конгресса, ...я считаю нужным окинуть беглым взглядом общий ход переговоров в этом великом собрании, чтобы облегчить понимание отдельных обсуждавшихся на нем вопросов. Открытие конгресса было назначено на 1 октября, и 23 сентября я уже находился в Вене, но на несколько дней раньше меня туда прибыли посланники стран, которые сначала руководили войной и, сожалея о заключенном ими мире, хотели затем извлечь пользу из конгресса. Я скоро узнал, что они образовали уже комитет и имели совещания, по которым ими был составлен протокол. Они намеревались сами решить то, что должно было подвергнуться обсуждению конгресса, притом решить без участия Франции, Испании и второстепенных держав, которым они сообщили бы затем в форме предложения, а фактически как окончательное решение, уже принятые пункты. Я не возражал, продолжал с ними встречаться, не говоря о делах, и ограничивался тем, что высказывал все свое недовольство посланникам второстепенных держав, имевшим общие со мной интересы. Находя в исконной политике своих стран старинную традицию дружбы с Францией, они скоро начали смотреть на меня, как на свою опору, а убедившись в том, что они одобрят все мои шаги, я стал официально торопить с открытием конгресса. Во время первых своих выступлений я держал себя так, как будто не имел никакого представления о происходивших совещаниях. Открытие конгресса было назначено на определенный день, но он прошел, и я просил, чтобы назначили другой, близкий день. Я дал понять, что мне не следует быть слишком долго вдали от Франции. Уклончивые ответы заставили меня возобновить свои настояния; я немного посетовал; наконец, мне пришлось воспользоваться личным влиянием на главных участников конгресса, к счастью, приобретенным мною во время предшествовавших переговоров. Князь Меттерних и граф Нессельроде не хотели быть нелюбезны и пригласили меня на совещание, которое должно было происходить в министерстве иностранных дел; испанский посланник Лабрадор, с которым я имел честь выступать сообща на конгрессе, тоже получил такое приглашение. В указанный час я отправился в государственную канцелярию, где встретил лорда Кэстльри, князя Гарденберга, Гумбольдта, Нессельроде, Лабрадора, Меттерниха и Генца, человека выдающегося ума; он исполнял обязанности секретаря. Протокол предыдущих заседаний лежал на столе. Я подробно описываю первое заседание, потому что оно определило положение Франции на конгрессе. Меттерних открыл его, сказав несколько фраз о лежавшем на конгрессе долге, заключавшемся в том, чтобы укрепить только что восстановленный в Европе мир. Князь Гарденберг добавил, что для прочности мира нужно свято соблюдать обязательства, возложенные войной, и что таково намерение союзных держав. Я сидел рядом с Гарденбергом и, естественно, должен был говорить после него. Сказав несколько слов о выпавшем на долю Франции счастье находиться в дружеских и тесных отношениях со всеми кабинетами Европы, я отметил, что у князя Меттерниха и князя Гарденберга вырвалось выражение, которое, по моему мнению, устарело; оба они говорили о намерениях союзных держав. Я заявил, что союзные державы и конгресс с участием держав несоюзных мало способны, с моей точки зрения, к лояльной совместной работе. Я несколько раз повторил с некоторым удивлением и даже с горячностью слова “союзные державы”... “Союзные...—говорил я,—и против кого же направлен этот союз? Уже не против Наполеона: он на острове Эльбе... уже не против Франции: мир заключен... конечно, не против французского короля: он служит порукой прочности этого мира. Господа, будем откровенны: если еще имеются союзные державы, то я здесь лишний”. Мне было ясно, что я произвел некоторое впечатление, в особенности на Генца. Я продолжал далее: “А между тем, если бы меня здесь не было, вам бы недоставало меня. Господа, я, может быть, единственный из всех присутствующих, который ничего не требует. Подлинное уважение — это все, что я желаю для Франции. Она достаточно могущественна благодаря своему богатству, своему протяжению, численности и духу своего населения, расположению своей территории, единству своей администрации, защите, которую природа и искусство дали ее границам. Повторяю, я ничего не желаю для нее и бесконечно много могу дать вам. Присутствие здесь министра Людовика XVIII освящает начала, на которых покоится весь социальный порядок. Основная потребность Европы — это изгнание навсегда мысли о возможности приобретения прав одним завоеванием и восстановление священного принципа легитимности, из которого проистекают порядок и устойчивость. Показав теперь, что Франция мешает вашим совещаниям, вы этим самым сказали бы, что вы не руководствуетесь больше одними истинными принципами и что, вы отвергаете справедливость; эта мысль далека от меня, так как мы все одинаково понимаем, что простой и прямой путь один достоин той благородной миссии, которую нам предстоит выполнить. Парижский договор гласит: “Все державы, участвовавшие на той и другой стороне в настоящей войне, отправят в Вену полномочных представителей для того, чтобы принять на общем конгрессе постановления, которые должны дополнить предписания Парижского договора". Когда откроется общий конгресс? Когда начнутся его заседания? Эти вопросы ставят все те, которых привели сюда их интересы. Если бы некоторые державы, находящиеся в привилегированном положении, захотели, как об этом уже распространяются слухи, осуществить на конгрессе диктаторскую власть, то я должен сказать следующее: опираясь на условия Парижского договора, я не мог бы согласиться на признание над этим собранием какой-либо высшей власти в вопросах, входящих в компетенцию конгресса, и я не стал бы входить в рассмотрение предложений, исходящих от нее”. После нескольких минут молчания Лабрадор сделал свойственным ему смелым и колким языком заявление, почти сходное с моим; на всех лицах изобразилось замешательство. Все стали одновременно отрицать и объяснять то, что происходило до этого заседания. Я воспользовался этим моментом, чтобы сделать некоторую уступку самолюбиям, которые, как я видел, страдали. Я сказал, что в столь многочисленном совещании, как этот конгресс, которому предстояло рассмотреть такие разнообразные проблемы, вынести решения по вопросам первостепенной важности и разрешить целый ряд второстепенных задач, трудно, даже невозможно достигнуть удовлетворительных результатов, обсуждая все эти вопросы на пленарных собраниях; затем я указал, что можно установить такой способ распределения и разграничения дел, чтобы интересы и достоинство ни одной из держав не пострадали. Это выступление, хотя еще неопределенное, открывало возможность передать вопросы общего значения для особого рассмотрения и позволило собравшимся уполномоченным отказаться от того, что было ими уже сделано, признав это недействительным; Генц уничтожил протоколы предыдущих заседаний и составил протокол этого дня. Он превратился в официальную запись первого заседания, и для памяти я его подписал. С тех пор великие державы больше не устраивали совещаний без участия Франции. В следующие дни мы собрались для распределения работы. Все члены конгресса разбились на комиссии, которые должны были рассматривать вносимые в них предложения. В каждую из этих комиссий входили представители государств, более непосредственно заинтересованных в вопросах, которые в них разрешались. Наиболее важные проблемы и вопросы, имевшие общее значение, были поручены комиссии из представителей восьми главных европейских держав, а чтобы иметь в этом отношении твердый критерий, было решено, что такими признаются государства, подписавшие договор 30 мая 1814 года. Это решение было не только полезно тем, что оно ускоряло и значительно облегчало работу, но оно было, по-видимому, и совершенно справедливо, так как все участники конгресса на него согласились и оно не вызвало никаких возражений. Таким образом, в конце октября 1814 года я мог написать в Париж, что династия Бурбонов, вернувшаяся во Францию за пять месяцев до того, что Франция, лишь пять месяцев тому назад покоренная, уже восстановили свое прежнее положение в Европе и приобрели надлежащее влияние на важнейшие заседания конгресса. А через три месяца эти самые державы, которые не сделали ничего для спасения несчастного Людовика XVI, были приглашены мною, чтобы отдать запоздалую, но торжественную дань его памяти. Эта дань была также способом связать нить времен и вновь подтвердить законные права династии Бурбонов. Я должен отметить, что австрийские император и императрица оказали мне большую поддержку при устройстве прекрасной религиозной церемонии, совершенной в Вене 21 января 1815 года, на которой присутствовали все монархи и все выдающиеся лица, находившиеся тогда в столице Австрийской империи(1). Комиссия восьми держав занялась прежде всего судьбой саксонского короля и его королевства, а затем судьбой Варшавского герцогства. Пруссия уже давно стремилась подчинить себе Саксонское королевство. Приобретя его, она не только присоединила бы к своим владениям прекрасную и богатую страну, но и сильно укрепила бы свою старую территорию. Во время войны, завершившейся Парижским миром, союзники Пруссии обещали ей, что будущие соглашения обеспечат за ней обладание Саксонией. Потому Пруссия рассчитывала с полной уверенностью на это важное приобретение и уже считала себя владычицей прекрасного саксонского государства, занятого ее войсками, между тем как она заточила саксонского короля в качестве пленника в одной из прусских крепостей. Но, когда в комиссию восьми держав было внесено предложение присоединить к ней это государство, я заявил, что не могу подписаться под ним. Я признавал, что Пруссия, от которой Наполеон отторгнул многие обширные владения, из коих она не все могла вернуть обратно, имела право на получение возмещения. Но разве это причина, чтобы Пруссия в свой черед ограбила саксонского короля? Разве это не значило бы заменить право, основанное на справедливости, правом сильного, которого Пруссия чуть не сделалась жертвой? Воспользовавшись этим правом, разве Пруссия не отказалась бы фактически от права на сочувствие, которое ее положение должно было внушать? Наконец, разве территории, которыми конгрессу предстояло распорядиться, не позволяли иным способом щедро вознаградить ее? Франция готова была пойти на все соглашения, которые могли бы удовлетворить прусского короля, лишь бы только они не нарушали признанного права; я повторял, что она не может ни участвовать в таких решениях, которые представляли бы собой узурпацию, ни согласиться на них. Не говоря о сочувствии к личности саксонского короля и уважении к нему, усугублявшимися его несчастьями и добродетелями, отметившими его царствование, я лишь взывал в его интересах к священному принципу законности. Пруссия считала, что все требования этого принципа были бы достаточно удовлетворены, если бы саксонскому королю было дано известное, возмещение в странах, которыми конгресс мог распорядиться; она полагала, что, независимо от согласия этого государя с таким решением, ее обладание Саксонией было бы достаточно узаконено признанием этого факта союзными монархами. На это я возразил князю Гарденбергу, что такого рода признание со стороны тех, кто не имеет никакого права на известный объект, не может дать права собственности на него тому, кто его не имеет. Это плачевное забвение всех принципов следует приписать беспорядку и возбуждению, в каком Европа находилась в течение двадцати пяти лет; у стольких монархов были отторгнуты их владения, в стольких странах переменились государи, что публичное право, подвергнувшееся разложению, перестало, если можно так выразиться, отвергать узурпацию. Европейские монархи были вынуждены властью непреодолимых обстоятельств признавать узурпаторов, подписывать с ними договоры, заключать союзы. Постепенно они пришли таким образом к тому, что их щекотливость отступила перед вопросом безопасности; для удовлетворения же своего властолюбия они были готовы сами сделаться узурпаторами, когда для этого наступил благоприятный момент. Уважение к законным правам настолько ослабело у них, что после своей первой победы над Наполеоном монархи не выступили защитниками прав династии Бурбонов; у них появились даже другие планы в отношении Франции. Если она вернула своих королей, то это ей удалось потому, что как только она смогла обнаружить свои желания, она сама бросилась в объятия этой царственной династии, которая дала ей разумные свободы вместе со славными историческими воспоминаниями. Для держав, которые,— я это повторяю,— содействовали реставрации, но не произвели ее, она являлась в первый момент вопросом факта гораздо больше, чем вопросом права. Когда французские уполномоченные открыто выступили на конгрессе защитниками принципа легитимности, державы обнаружили готовность принять его следствия, поскольку они не противоречили бы их намерениям, перед которыми принцип отступал на второй план. Поэтому, чтобы доставить ему победу, я должен был преодолеть все препятствия, какие только могут быть созданы властолюбием, встретившим помехи в тот самый момент, когда оно уже надеется на удовлетворение. Пруссия ревностно и упорно защищала свои притязания на Саксонию, а Россия поддерживала их, сколько было в ее власти, благодаря ли преданности своего монарха прусскому королю, потому ли, что в награду за эту уступку император Александр должен был получить Варшавское герцогство. Его представители высказывались в этом смысле без малейшего стеснения. “В политических делах все является сделкой,—говорил мне один из них, — вы заинтересованы главным образом в Неаполе; уступите в отношении Саксонии, и Россия поддержит вас касательно Неаполя”.—“Вы предлагаете мне торг,— отвечал я ему,— но я не могу в нем участвовать. Я, к счастью, чувствую себя не столь непринужденно, как вы: если вы руководствуетесь своими желаниями и своими интересами, то я вынужден следовать принципам, а принципы не могут быть предметом сделки”. Содействуя видам Пруссии и России в отношении Саксонии, Англия преследовала, по-видимому, задачу укрепления второй линией защиты, идущей по Эльбе, линии Одера, бывшей уже в распоряжении Пруссии и служившей для ее обороны; она стремилась к тому, чтобы эта держава была в состоянии противопоставить более прочную преграду замыслам, которые Россия могла составить в дальнейшем против Германии. Но мысль эта была даже в стратегическом отношении чистейшей иллюзией. Австрия не имела иных побудительных причин поддерживать притязания Пруссии, кроме желания сохранить соглашения, поспешно и легкомысленно задуманные в лагерной суматохе. Ее не удерживала тогда даже опасность, вытекавшая для нее из укрепления Пруссии на склонах Богемских гор,— опасность, которую она заметила лишь, когда Франция ее о ней предупредила. Я нашел прямой путь для внушения императору Францу, помимо его министерства, той мысли, что он весьма заинтересован в сохранении Саксонии. Доводы, приводившиеся мною посреднику, к которому я прибег, произвели на него впечатление. Англия тоже скоро поняла, что было бы неосторожно бросить новые семена вражды и раздора между обеими державами, защищавшими границы Германии от России. Кроме того, Саксония долго была бы для Пруссии владением непокорным и непрочным, готовым воспользоваться всяким случаем, чтобы отложиться и вернуть свою независимость. Такое приобретение могло бы скорее ослабить Пруссию, чем укрепить ее. Вопрос о судьбе Саксонии очистился для Англии от частных соображений, обусловивших ее первое решение, а перед Австрией он предстал в правильном с точки зрения ее интересов освещении; таким образом, обе эти державы были, наконец, готовы выслушать без предубеждения хорошо обоснованные доводы Франции в пользу соблюдения принципов. Когда эти державы убедились, что их собственные интересы согласуются с принципом легитимности, они охотно признали его преимущества перед выгодами других держав. Вследствие этого они сделались его защитницами, и вскоре между Францией, Австрией и Англией образовался тайный союз против России и Пруссии(2). Таким образом, при помощи одних доводов разума и одной силы принципов Франция разрушила союз, направленный исключительно против нее. (Это была бы большая удача, если бы роковая катастрофа 20 марта не восстановила расторгнутые узы!) Итак, между союзниками царило несогласие, в то время как мы создали новый союз, в котором главная роль принадлежала Франции. Державы хотели сохранить старую коалицию, направленную против Наполеона, после исполнения задачи, ради которой она была заключена, но она могла быть для союзников только средством удовлетворения их властолюбивых притязаний и частных интересов, между тем как целью нового союза была поддержка охранительных начал и принципов порядка и мира. Благодаря этому Франция, едва переставшая быть пугалом для Европы, становилась в некотором роде арбитром и примирительницей. Раз Англия и Австрия приняли известное решение, Пруссии приходилось уступать; поэтому она в конце концов согласилась на то, чтобы Саксония продолжала существовать, и удовлетворилась получением части ее в виде добровольной уступки со стороны государя этой страны. Когда это важное решение было достигнуто, нужно еще было убедить саксонского короля принести указанную жертву. Мне поручили вместе с герцогом Веллингтоном и князем Меттернихом отправиться к нему и попытаться склонить его на это. В Вене только что распространилось известие о возвращении Наполеона во Францию. На конгрессе царило крайнее возбуждение. Нам предоставили для исполнения нашей тягостной миссии только двадцать четыре часа. Я немедленно отправился в Пресбург, где саксонскому королю позволили, наконец, поселиться. В этом городе жила графиня Брион, удалившаяся туда после пребывания в эмиграции... Госпожа Брион!!. Госпожа Брион, питавшая ко мне в течение стольких лет чувства, которые испытывают только к собственным детям, и считавшая меня виновным перед ней... Нет! политика подождет! Прибыв в Пресбург, я поспешил к ней, чтобы броситься к ее ногам. Она долго не просила меня подняться, и я ощутил счастье, почувствовав на своем лице ее слезы. “Вот вы, наконец!— сказала она.— Я всегда верила, что опять увижусь с вами. Я могла быть вами недовольна, но я ни на минуту не переставала вас любить. Всюду я мысленно сопровождала вас...” Я не мог произнести ни слова, я плакал. По доброте своей она пыталась несколько успокоить меня, задавая мне вопросы. “Вы занимаете прекрасное положение”,— говорила она.—“О да, по моему мнению, оно превосходно”. Меня душили слезы. Испытанное мною впечатление было столь сильно, что мне пришлось на несколько минут покинуть ее; я чувствовал, что близок к обмороку, и пошел подышать воздухом на берега Дуная. Придя несколько в себя, я вернулся к госпоже Брион, которая возобновила свои вопросы; я мог более связно отвечать ей. Она потолковала со мной немного о короле, больше о его брате, упомянула саксонского короля, так как она знала, что я защищал его права, и сама интересовалась им. Через несколько дней после описанного свидания смерть лишила меня этого друга, которого я был так счастлив вновь обрести. Вечером я отправился во дворец и исполнил возложенное на меня поручение. Саксонский король, оказывавший мне некоторое доверие, назначил мне аудиенцию с глазу на глаз. На этом совещании, на котором он без всякого стеснения говорил мне о своей благодарности, я доказал ему необходимость принести некоторые жертвы и старался убедить его, что при создавшемся положении это — единственный способ обеспечить независимость его страны. Король удерживал меня у себя около двух часов; он не взял еще на себя никаких обязательств и только сказал мне, что удалится со своей семьей в частную жизнь. Через несколько часов после этого я получил с князем Меттернихом и герцогом Веллингтоном приглашение во дворец. Князь Меттерних, которому мы поручили выступить от нашего имени, весьма осторожно изложил королю желание держав. Король говорил в очень благородных и трогательных выражениях о любви к своему народу и тем не менее дал нам понять, что он не будет чинить препятствий решениям, которые, согласуясь с честью его короны, могли бы содействовать умиротворению Европы; он сохранил за собой право послать на конгресс представителя, облеченного всеми полномочиями, чтобы разрешить там вопросы, задевающие его интересы. Мы вернулись в Вену, не получив определенного согласия короля, но тем не менее убежденные, что он принял решение и что его согласие будет передано конгрессу через его полномочного представителя Эйнзиделя. После нескольких совещаний, на которые был допущен Эйнзидель, вопросы, задевавшие интересы Саксонии и Пруссии, были урегулированы не к исключительной выгоде той или другой из них, а по взаимному согласию. Таким образом, в этом важном деле принцип легитимности не пострадал. Из упомянутых соглашений вытекала необходимость для России, претендовавшей на полное обладание Варшавским герцогством, отказаться от своих требований. Пруссия вернула себе значительную его часть, а Австрия, не перестававшая владеть частью Галиции, получила обратно некоторые из округов, уступленных ею в 1809 году. Постановление это, которое могло казаться на первый взгляд важным только для этих двух держав, имело общее значение. Польша, почти целиком находившаяся в руках России, была для Европы предметом постоянных тревог. Для ее безопасности было важно, чтобы две державы, а не одна, подвергались риску потерять свои владения и склонялись благодаря чувству общей опасности к объединению против властолюбивых замыслов России. Общий интерес создавал между ними крепкие узы, и именно поэтому Франция поддержала в данном случае притязания Пруссии и Австрии. Русский уполномоченный пытался возражать мне моими собственными доводами. Он утверждал, что если принцип легитимности требует сохранения Саксонского королевства, то он требует также восстановления Польши. Он добавил, что император Александр хотел получить все Варшавское герцогство для превращения его в королевство и что поэтому я не мог, оставаясь последовательным, возражать против передачи его России. Я с горячностью отвечал, что, конечно, вполне возможно рассматривать как принципиальный вопрос восстановление независимого правительства и национального единства многочисленного народа; я напомнил, что он был некогда могуществен, занимал обширную объединенную территорию, и если позволил разрушить узы своего единства, то остался тем не менее однороден по своим нравам, языку и упованиям; если бы державы пожелали, Франция не только первая дала бы согласие на восстановление Польши, но с пылом настаивала бы на нем, при условии, чтобы Польша была восстановлена в своем прежнем виде, такой, какой Европа хочет ее видеть. Но, добавлял я, нет ничего общего между принципом легитимности и большим или меньшим протяжением государства, которое Россия хочет образовать из незначительной части Польши; при этом она даже не обнаруживает намерения воссоединить с ним прекрасные провинции, присоединенные к этой обширной империи во время последних разделов. Русские уполномоченные поняли после нескольких совещаний, что им не удастся прикрыть принципом легитимности своекорыстные виды, которые им было поручено защищать; они ограничились переговорами с целью получения части территории, составлявшей в течение нескольких лет великое герцогство Варшавское. Дань, отданная принципу легитимности в постановлении, принятом по поводу Саксонского королевства, решила в сущности и судьбу Неаполитанского королевства. Приняв однажды принцип, нельзя было отвергнуть его следствия. Итак, Франция отклонила притязания, основанные на праве победителя, и потребовала гарантий, что Фердинанд IV будет признан неаполитанским королем. Нужно было преодолеть искреннее замешательство некоторых кабинетов, находившихся в дружбе с Мюратом, и особенно Австрии, заключившей с ним договор. Я был далек от того, чтобы отвергать всякое решение, которое привело бы к той же цели, согласуясь вместе с тем с достоинством держав. Мюрат помог мне: он находился в постоянном возбуждении, писал одно письмо за другим, делал заявления, отправлял свои войска в походы, приказывал им совершать контрмарши и давал мне тысячу случаев обнаружить его вероломство. Передвижение его армии в направлении Ломбардии было признано враждебным выступлением и ознаменовало начало его гибели. Австрийцы выступили против него, нанесли ему поражение, преследовали его войска, и через несколько дней, покинутый своей армией, он бежал из Неаполитанского королевства, тотчас вернувшегося под скипетр своего законного короля. Возвращение Неаполитанского королевства Фердинанду IV снова показало на серьезном примере значение принципа легитимности и было помимо того выгодно для Франции, потому что благодаря ему она получила союзника в лице самого сильного государя Италии (* Если бы долг перед семьей не заставил меня упомянуть здесь о лестном для меня повелении короля Фердинанда IV, пожаловавшего мне герцогство Дино, то меня побудило бы сделать это чувство благодарности. ПримечаниеТалейрана.) Соглашения, касавшиеся нескольких других частей Италии, преследовали задачу создания на этом полуострове сильного противовеса влиянию Австрии на случай, если бы ее честолюбивые планы направились в эту сторону. Так Сардинское королевство приобрело всю Генуэзскую республику. Правившая тогда в Турине ветвь Савойской династии была близка к угасанию, и Австрия могла вследствие своих династических связей заявить притязания на это богатое наследство; опасность эта была предотвращена признанием прав Кариньянской династии, за которой обеспечили наследование указанной короны. Швейцария, являющаяся центральной страной Европы, с которой граничат три больших государства — Франция, Германия и Италия, была торжественно и навсегда объявлена нейтральной. Указанное постановление усилило для каждой из этих трех стран способы обороны, ослабив их средства нападения. Такое решение особенно благоприятно для Франции, окруженной крепостями на всех своих прочих границах и лишенной их на границе с Швейцарией. Поэтому нейтралитет этой страны дает ей в том единственном пункте, где она слаба и беззащитна непреодолимый оплот. Чтобы предохранить Гельветический союз от внутренних разногласий, которые нарушили бы его спокойствие и могли бы поставить под угрозу сохранение его нейтралитета, мы силились примирить требования разных кантонов и разрешить споры, издавна ведшиеся между ними. Союз, находившийся под угрозой столкновения старых прав и требований, возникших из новой организации, созданной при посредничестве Наполеона, был укреплен актом, объединявшим все постановления, наиболее способные примирить различные интересы. Создание нового Нидерландского королевства, решенное еще до заключения мира, было, несомненно, враждебным против Франции мероприятием; оно было задумано с целью создания вблизи нее неприязненного к ней государства, которое потребность в защите делала естественным союзником Англии и Пруссии. Следствия этого замысла казались мне, однако, менее опасными для Франции, чем это предполагалось, так как молодому королевству предстояла большая работа по своему укреплению(3). В самом деле, составившись из двух стран, разделенных старинной враждой, противоположных по стремлениям и интересам, оно на долгие годы обречено быть слабым и неустойчивым. Покровительственная дружба, которую Англия надеется установить в своих отношениях с этим новым государством, еще долго останется, как я полагаю, в сфере политических мечтаний. Королевство, образовавшееся из двух стран — торговой и промышленной, — должно стать соперником Англии или быть подавлено ею и, следовательно, преисполниться раздражения против нее. Германская конфедерация должна была стать одним из важнейших элементов европейского равновесия. Нельзя сказать, удалось ли конгрессу заложить прочные основы этой организации, которые могли бы превратить ее в опору указанного равновесия. Роковые события 1815 года, заставившие конгресс ускорить свои совещания, послужили причиной того, что конфедерация получила зачаточный, бесформенный вид, что она до сих пор не приобрела устойчивости и что над ее развитием приходится еще работать. Я предоставляю другим судить о роли Франции в этих достопамятных обстоятельствах. Несмотря на неблагоприятное положение, какое она занимала во время первых заседаний конгресса, ей удалось приобрести такое влияние на прения, что самые важные вопросы разрешались отчасти в согласии с ее намерениями и с принципами, которые она установила и защищала. Последние находились в полном противоречии с намерениями держав, которым военное счастье позволило беспрепятственно диктовать Европе законы. Хотя в разгар заседаний конгресса дух бунта и узурпации чуть еще раз не покорил себе Европу, король, переселившийся в Гент, оказывал на Вену такое же влияние, как и из Тюильрийского дворца. По моему предложению и — я должен это сказать к чести государей — без всяких настояний с моей стороны, Европа издала грозную декларацию против узурпатора. Я так называю его, потому что по возвращении его с острова Эльбы роль Наполеона была именно такова. До того он был победителем, и только братья его являлись узурпаторами. В этот период я получил награду за свою верность принципам. Я ссылался на них во имя короля для сохранения прав других, а они превратились в гарантию его собственных прав. Увидя себя снова под угрозой оживающей во Франции революции, державы начали наспех вооружаться. Все стали торопить с окончанием венских переговоров, чтобы немедленно посвятить себя более срочным делам; заключительный акт конгресса, в некоторых своих частях только намеченный, был подписан уполномоченными, которые затем разъехались. Когда дела были таким образом закончены и король, а следовательно, и Франция были приняты в союз, заключенный против Наполеона и его приверженцев, я покинул Вену, в которой ничто меня более не удерживало, и отправился в Гент, очень далекий от мысли, что по прибытии в Брюссель я узнаю об исходе сражения при Ватерлоо. Обо всех его подробностях мне любезно сообщил принц Конде. Он говорил мне с благоволением, которого я никогда не забуду, об успехах Франции на Венском конгрессе. Примечания: (1) 21 января 1793 г. был казнен Людовик XVI; 21 января 1814 г. в Вене была устроена в память этого события религиозная церемония с участием всего конгресса. (2) Речь идет о секретном договоре, заключенном 3 января 1815 г. Францией, Австрией и Англией против России и Пруссии. По возвращении Наполеона с о-ва Эльбы он был им обнаружен и сообщен Александру I. (3) Именно Талейрану было суждено содействовать в 1830—1831 гг. в Лондоне дипломатическому признанию Бельгийского королевства, революционным путем отделившегося от Голландии. Оглавление |
|