| Charles-Maurice, Duc de Talleyrand-Perigord - Талейран | |
| Мемуары Глава 3. Часть 1 | |
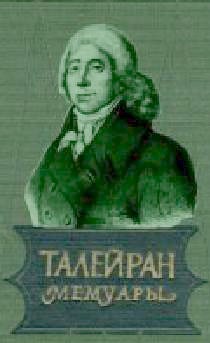 Вернувшись к себе, я нашел записку княгини Турн-и-Таксис, извещавшей
меня о своем прибытии. Я немедленно к ней отправился и получил от
встречи с ней большое удовольствие, так как это прекрасный человек. Она
сообщила мне, что прибыла в Эрфурт для того, чтобы просить императора
Александра воздействовать на нескольких германских владетельных князей,
с которыми ее муж, начальник почт в Германии, вел тщетно переговоры в
течение многих лет. Я пробыл у нее не более четверти часа, когда
доложили о прибытии императора Александра; он был очень любезен и прост,
попросил у княгини чаю и сказал, что она должна ежедневно после театра
устраивать нам чаепития, так как это позволяет вести непринужденные
беседы и приятно заканчивать день. На этом и условились, но этот первый
вечер не был отмечен ничем интересным.
Вернувшись к себе, я нашел записку княгини Турн-и-Таксис, извещавшей
меня о своем прибытии. Я немедленно к ней отправился и получил от
встречи с ней большое удовольствие, так как это прекрасный человек. Она
сообщила мне, что прибыла в Эрфурт для того, чтобы просить императора
Александра воздействовать на нескольких германских владетельных князей,
с которыми ее муж, начальник почт в Германии, вел тщетно переговоры в
течение многих лет. Я пробыл у нее не более четверти часа, когда
доложили о прибытии императора Александра; он был очень любезен и прост,
попросил у княгини чаю и сказал, что она должна ежедневно после театра
устраивать нам чаепития, так как это позволяет вести непринужденные
беседы и приятно заканчивать день. На этом и условились, но этот первый
вечер не был отмечен ничем интересным. Свидание в Эрфурте, на которое Австрия не была приглашена и о котором ее официально даже не известили, вызвало тревогу у императора Франца. Он по собственной инициативе отправил в Эрфурт барона Винцента с письмом к Наполеону и, если не ошибаюсь, к Александру. Винцент был лотарингским дворянином, вступившим задолго до французской революции на австрийскую службу вследствие своих семейных связей с лотарингской династией. Я его хорошо знал и имел с ним в течение десяти лет частые сношения. Могу добавить, что они послужили ему на пользу, так как за восемнадцать месяцев перед тем я обеспечил блестящий успех его миссии в Варшаве. Я обещал ему, что применю все средства, которыми располагал, а они были тогда огромны, для подавления в зародыше всех попыток к восстанию, подготовлявшемуся в разных местах Галиции. Винцент показал мне копию привезенного им письма; оно было преисполнено благородства и не обнаруживало никакого беспокойства и у его государя. Винцент получил распоряжение быть со мной откровенным; я ему сказал, что его миссия меня очень радует, так как у меня были некоторые опасения в отношении намерений обоих императоров. Из приведенных выше слов самого Наполеона было видно, что он считал меня, и притом основательно, за сторонника союза Франции с Австрией, Я думал тогда и думаю теперь, что, защищая эти взгляды, я мог оказать Франции услугу. Я уверял Винцента, что я делал и буду делать все то, что, по моему мнению, может препятствовать принятию в Эрфурте таких решений, которые могли бы повредить интересам его правительства. Наполеон, верный усвоенной им в этом случае системе промедления, распределил свои первые дни таким образом, чтобы не оставалось ни минуты для деловых разговоров. Его завтраки были продолжительны; он в это время принимал и охотно беседовал. Затем следовало несколько посещений местных общественных учреждений и поездки за город на маневры, на которых император Александр и великий князь, его брат, никогда не упускали случая присутствовать. Они были так продолжительны, что оставалось лишь время lля переодевания к обеду; после него остаток дня посвящался театру. Не раз при мне завтраки длились более двух часов. В это время Наполеон давал аудиенции видным и заслуженным лицам, приехавшим в Эрфурт, чтобы его увидеть. Каждое утро он с удовлетворением читал список новоприбывших. Прочтя в нем имя Гете, он послал за ним. “Господин Гете, я восхищен тем, что вижу вас”.—“Ваше величество, я замечаю, что когда вы путешествуете, вы не пренебрегаете бросить взгляд на самые ничтожные предметы”.—“Мне известно, что вы первый трагический поэт Германии”.—“Ваше величество, вы обижаете нашу страну, мы считаем, что и у нас есть свои великие люди. Шиллер, Лессинг и Виланд, вероятно, известны вашему величеству”.—“Признаюсь, что совершенно их не знаю; однако я читал “Тридцатилетнюю войну”(5), но должен просить извинения: она, как мне кажется, может удовлетворить своим трагическим сюжетом лишь наши бульвары”.—“Ваше величество, мне незнакомы ваши бульвары, но я предполагаю, что на них ставят спектакли для народа; мне досадно, что вы так строго судите одно из лучших проявлений духа современной эпохи”.—“Вы живете обычно в Веймаре; там собираются известные германские литераторы?”—“Ваше величество, они находят там сильное покровительство, но в настоящий момент из известных всей Европе лиц в Веймаре находится лишь Виланд, так как Мюллер живет в Берлине”.—“Я был бы рад видеть Виланда!”— “Если ваше величество позволит мне ему об этом сообщить, то я уверен, что он немедленно сюда приедет”.—“Говорит ли он по-французски?”—“Он знает этот язык и даже сам исправлял некоторые французские переводы своих работ”.—“Пока вы здесь, вам следует ежедневно посещать наши спектакли. Для вас было бы небесполезно посмотреть представление хороших французских трагедий”.— “Ваше величество, я их очень охотно посмотрю, и должен признаться, что я уже раньше предполагал это сделать; я перевел несколько французских пьес или, скорее, им подражал”.—“Каким из них?”—“Магомету” и “Танкреду”(6).— “Я спрошу у Ремюза, есть ли у нас здесь такие актеры, которые могли бы их сыграть. Я был бы очень рад, если бы вы увидели их представленными на французском языке. Вы не так строги, как мы, в отношении законов драмы”.—“Ваше величество, единства не играют у нас существенной роли”.—“Каково, по вашему мнению, наше пребывание здесь?”—“Ваше величество, оно весьма блестяще, и я надеюсь, что оно будет полезно нашей стране”.— “Счастлив ли ваш народ?”—“Он надеется на многое”.— “Господин Гете, вы должны были бы оставаться здесь в течение всего моего пребывания и написать о впечатлении, произведенном на вас тем пышным зрелищем, которое мы вам доставляем”.—“Увы, ваше величество, для такой работы требуется перо какого-нибудь писателя древности”.—“Принадлежите ли вы к числу тех, которые любят Тацита?”—“Да, ваше величество, очень”.—“А я нет, но об этом мы поговорим в другой раз. Напишите Виланду, чтобы он сюда приехал; я отвечу ему визитом в Веймаре, куда меня пригласил герцог. Я буду очень рад увидеть герцогиню; это женщина больших достоинств. Герцог(7) в течение некоторого времени довольно дурно вел себя, но теперь он наказан”.—“Ваше величество, если он и вел себя плохо, то наказание все же немного сурово, но я не судья в подобных вещах; он покровительствует литературе и наукам, и мы можем лишь восхвалять его”.—“Господин Гете, приходите сегодня вечером на “Ифигению”, это хорошая пьеса; она, правда, не принадлежит к числу моих самых любимых, но французы ее очень ценят. В партере вы увидите немалое число государей. Знаете ли вы принца-примаса?”—“Да, ваше величество, я с ним почти дружески связан; у этого принца много ума, большие знания и много великодушия”.—“Прекрасно, вы увидите сегодня вечером, как он спит на плече вюртембергского короля. Видали ли вы уже русского императора?”—“Нет, ваше величество, никогда, но я надеюсь быть ему представленным”.— “Он хорошо говорит на вашем языке: если вы напишете что-нибудь о свидании в Эрфурте, то это надо ему посвятить”.—“Ваше величество, это не в моем обычае; когда я начал писать, я поставил себе за правило никогда не делать посвящений, чтобы потом не раскаиваться”.—“Великие писатели эпохи Людовика XIV были не таковы”.—“Это правда, ваше величество, но вы не можете гарантировать, что они никогда в этом не раскаивались”.—“Что сталось с этим мошенником Коцебу?”—“Ваше величество, говорят, что он в Сибири и что ваше величество будет просить императора Александра его помиловать”.—“Но знаете ли вы, что этот человек не в моем духе?”—“Ваше величество, он очень несчастен и у него большое дарование”.—“До свидания, господин Гете”. Я проводил Гете и пригласил его к обеду. Вернувшись, я записал этот первый разговор, а во время обеда я убедился из его ответов на мои вопросы, что моя запись совершенно точна. По окончании обеда Гете пошел в театр; я хотел, чтоб он сидел близко к сцене, но это было довольно трудно, потому что в первых рядах кресел сидели коронованные особы; наследные принцы, теснясь на стульях, занимали вторые места, а сзади них все скамьи были заняты министрами и медиатизированными князьями. Я поручил Гете Дазенкуру, который, не нарушая приличий, сумел его хорошо усадить. Пьесы для спектаклей в Эрфурте выбирались с большой тщательностью и искусством. Их сюжет относился к героическим эпохам или к важным историческим событиям. Побуждая к изображению на сцене героических эпох, Наполеон думал вырвать всю эту древнюю германскую аристократию, среди которой он находился, из обычной для нее обстановки и заставить ее перенестись силой собственного воображения в другие страны; перед ее взором проходили люди, великие по своим личным качествам, ставшие легендарными по своим поступкам, создавшие целые народы и ведущие свое происхождение от богов. В тех пьесах исторического содержания, которые он приказал играть в Эрфурте, политическая роль некоторых главных персонажей напоминала обстоятельства, ежедневно наблюдаемые с того самого момента, как он появился на мировой сцене, а это подавало повод для множества лестных сравнений. Ненависть Митридата к римлянам напоминала вражду Наполеона к Англии. Ne vous tigurez pas que de cette contree, Par d'eternels remparts, Rome soit separee; Je sais tous les chemins par ou je dois passer, Et si la rnort bientot ne vient me traverser, etc . ( “Митридат”, действие III, явление 1: Не воображайте, что от этой страны Рим — отделен вечным оплотом;— мне известны все пути, которыми я должен пройти,— и если меня вскоре не настигнет смерть, и т. д.) Когда произносились эти стихи, вокруг него шептали: “Да, ему известны все пути, которыми он должен пройти; надо остерегаться, он все их знает”. Мысли о бессмертии, славе, доблести и роке, постоянно встречаемые в “Ифигении” в виде то главной, то привходящей идеи, способствовали его основной целя, которая сводилась к тому, чтобы беспрерывно удивлять всех, кто к нему приближается. Тальма получил распоряжение медленно произносить следующую великолепную тираду: L'honneur parle, il suffit, ce sonfc la nos oracles. Les dieux sont de nos jours les maitres souverains, Mais, seigneur, notre gloire est dans nos propres mains, Pourquoi nous tourmenter de leurs ordres supremes? Ne essongeons qu'anous rendre immorteis comme eux-memes, Et laissant faire au sort, courons ou la valeur Nous promet un destin aussi grand que le leur, etc. (“Ифигения”, действие II, явление 1: Говорит честь, этого достаточно, она вещает. — В наши дни боги — верховные владыки,— но, господин, ведь наша слава в наших собственных руках,— зачем страдать от их верховных распоряжений?— Будем помышлять лишь о том, чтобы стать бессмертным, как они сами, и, предоставив судьбе делать свое дело, обратимся туда, где доблесть — обещает нам такую же великую участь как у них.) Но любимой его пьесой, лучше всего объясняющей причины и источник его могущества, был “Магомет”, так как ему казалось, что в ней он заполняет собой всю сцену. Уже с первого действия, со слов: Les inortels sont egaux, ce n'est point la naissance, С'est la seule vertu qui fait la difference. II est de ces esprits favorises des cieux Qui sont tout par eux-memes et rien par leurs aleux. Tel est 1'homme, en un mot, que j'ai choisi pour maitre; Lui seui dans 1'univers a merite de 1'etre; Tout inortel a ses lois doit un jour obeir, etc. (“Магомет”, действие I, явление 4: Смертные равны, не рождение,— а одна лишь добродетель создает среди них различие.—Существуют души, отмеченные небом,—которые свое значение создают сами и ничем не обязаны своим предкам.—Таков, одним словом, человек, которого я выбрал себе господином;—, он один во вселенной заслужил им быть;— всякий смертный должен будет некогда подчиниться его законам,— и т. д.) взоры всего зрительного зала устремлялись на него; слушали актеров, но смотрели на Наполеона. Каждый немецкий принц, естественно, должен был применять к себе следующие стихи, которые Лафон произносил мрачным голосом: Vois I'empire- remain tombant de toules parts, Ce grand corps dechire dont les membres epars Languissenfc disperses sans honneur et sans vie; Sur ces ebris du monde elevens 1'Arabie. II faut un nouveau culte, il faut de nouveaux 1'ers, II faut un nouveau Dieu pour 1'aveugle univers. (Ibid., действие II, явление 5: Посмотри на Римскую империю, повсюду рушащуюся,—на это великое и растерзанное тело, рассеянные члены которого—"чахнут, разбросанные, лишенные чести и жизни;— на этих развалинах мира мы воздвигаем Аравию.— Нужна новая религия, нужны новые узы,—нужен новый бог для слепой вселенной.) Аплодисменты сдерживались лишь почтением, но они готовы были разразиться еще громче при стихах: Qui I'a fait roi? Qui 1'a couronne? La victoire. (“Магомет”, действие I, явление 4: Кто сделал его царем? Кто короновал его? Победа.) Когда Омар прибавлял: Au nom de conqnerani et, de trioniphateur II vent joindre le nom de pacificateur , ( Ibid., действие I, явление 4: К имени победителя и триумфатора — он хочет прибавить имя миротворителя.) то присутствующие разыгрывали умиление. При этих словах Наполеон умело изображал волнение, показывая, что именно этим местом он хотел объяснить всю свою жизнь. Когда Сен-При в “Смерти Цезаря” очень выразительно произносил, говоря о Сулле: II en etail 1'effroi, j'en serai les delices, etc., (“Смерть Цезаря”, действие I, явление 4: Он олицетворял ужас, я олицетворяю радость,— и т. д.) то в зале спешили выразить шумом одобрение. Не буду приводить дальнейших примеров таких же уподоблений или сравнений, которые я наблюдал каждый день, я отметил лишь самое необходимое для того, чтобы ознакомить с настроением описываемого собрания. Я встречал императора Александра после каждого спектакля у княгини Турн-и-Таксис, а Винцента принимал иногда у себя. Они оба находились под совершенно различным впечатлением. Император Александр был все время в восхищении, а Винцент испытывал непрерывный страх. Несмотря на все мои убеждения, ему было трудно поверить, что Наполеон ничего не предпринимает. Но тем не менее первые дни прошли без всяких деловых разговоров. Первая беседа, коснувшаяся деловых вопросов, была очень продолжительна. Оба императора подробно обсудили все, о чем их кабинеты вели переговоры в течение последнего года. Разговор окончился сообщением Александру проекта соглашения, который Наполеон составил, по его словам, в их общих интересах. Он передал его императору Александру, взяв с него обещание, что он его не покажет никому, в том числе ни одному из своих министров. Наполеон добавил, что это дело должно обсуждаться ими самими. Для доказательства значения, которое он придавал секретности вопроса, он отметил, что часть статей написана им самим для того, чтобы никто не мог о них узнать. Повторенное им слово “никто” явно относилось к графу Румянцеву и ко мне. Император Александр был так любезен, что понял это иначе. Попросив княгиню Турн-и-Таксис никого не принимать, он вынул из кармана этот договор. Наполеон потрудился тщательно переписать почти весь составленный мною проект. Но он изменил одну или две статьи и прибавил, что под предлогом отношений, существующих у петербургского кабинета с Оттоманской Портой, один русский корпус будет расположен недалеко от австрийской границы. Император Александр, указав Наполеону, что основания этого договора отличаются от того, что было почти окончательно установлено в Петербурге, оставил за собой право представить те письменные замечания, которые он найдет нужным сделать. Русские секреты, вероятно, плохо берегутся, так как на следующий день утром ко мне пришел Винцент и сказал, что, как ему известно, переговоры начались и уже имеется готовый проект соглашения. Я предложил ему сохранять спокойствие, предпринимать лишь необходимые шаги и в особенности не проявлять никакой тревоги. Я добавил, не говоря ничего больше, что мое положение позволяет мне оказать некоторое влияние на принимаемые решения и что ему известно, как решительно я возражаю против всего, что может повредить безопасности и авторитету Австрии. Прошло два или три дня, в течение которых оба императора встречались лишь на парадах и маневрах, в обеденные часы или на спектаклях. Я продолжал каждый вечер посещать княгиню Турн-и-Таксис, император Александр так же регулярно навещал ее; у него был озабоченный вид, что побуждало меня вести как можно более легкий разговор. Однако однажды я воспользовался “Митридатом”, которого тогда играли, чтобы отметить все то, что могло быть в нем понято как намек; обращаясь к княгине Турн-и-Таксис, я привел несколько стихов из этой пьесы, но разговор не был поддержан. Император сказал, что у него слегка болит голова, и удалился, но его последним словом было: “до завтра”. Каждое утро я встречался с Коленкуром. Я спросил его, не находит ли он, что император Александр сильно остывает к Наполеону. Он был другого мнения и полагал, что Александр испытывает замешательство, но сохраняет прежнее восхищение перед Наполеоном и что замешательство его скоро рассеется. В эти дни политической сдержанности император Наполеон продолжал ежедневно после завтрака принимать тех немцев, одобрения которых он искал и ценил. Поручение, данное им Гете, было точно выполнено, и Виланд приехал. Он пригласил их обоих к завтраку. Я помню, что в этот день на нем присутствовал принц-примас и было много других лиц. Император тщательно подготовлял свои торжественные беседы и стремился проявить в них все свои дарования, поэтому он приходил вполне подготовленный к какой-нибудь теме, совершенно неожиданной для того лица, к которому он обращал свою речь. Слишком решительные возражения никогда не ставили его в затруднительное положение, так как он легко находил под рукой довод, чтобы перебить собеседника. Я имел несколько раз случай заметить, что за пределами Франции ему нравилось касаться в разговорах возвышенных вопросов, вообще довольно чуждых военным людям, что тотчас же выделяло его из окружающей среды. В этом отношении его уверенность в себе не была бы поколеблена даже присутствием Монтескье или Вольтера, что может быть объяснено блеском его судьбы, особенностями характера и иллюзиями, которые ему создало его тщеславие. Было три или четыре вопроса, которых он особенно охотно касался. Беседуя в предшествовавшем году в Берлине с знаменитым Иоганном Мюллером, он попытался установить основные этапы развития человеческого сознания. Я до сих пор вижу изумление, изобразившееся на лице Мюллера, когда император говорил, что быстрое распространение и развитие христианства вызвало чудесное противодействие греческого духа римскому, и когда он с одобрением отмечал искусство, с которым Греция, побежденная физической силой, занялась покорением интеллектуального мира. Он добавил, что это покорение было совершено при помощи тех благотворных начал, которые оказали такое влияние на все человечество. Всю эту фразу он заучил наизусть, и я слышал, как он ее точно таким же образом повторил Фонтану и Сюарду. Мюллер ничего не ответил; он был изумлен, чем император поспешил воспользоваться, предложив ему написать историю его, Наполеона, империи. Я не знаю, чего он хотел достичь у Виланда, но он сказал ему множество любезностей. “Г. Виланд, мы очень любим во Франции ваши работы; ведь вы автор “Агафона” и “Оберона”. Мы называем вас немецким Вольтером”.—“Ваше величество, это сравнение мне очень лестно, но оно совершенно неправдоподобно; такая похвала со стороны расположенных ко мне лиц слишком преувеличена”.— “Скажите мне, господин Виланд, почему ваш “Диоген”, “Агафон” и “Перегрин” написаны в том двусмысленном стиле, который превращает вымысел в историю, а историю в вымысел? У такого выдающегося, как вы, человека стили должны быть обособлены и раздельны. Все, что их смешивает, легко приводит к путанице. Поэтому-то во Франции не любят драмы. Я боюсь быть слишком смелым, так как я имею дело с сильным противником, тем более, что сказанное мной относится к Гете в такой же степени, как к вам”.—“Ваше величество позволит нам заметить, что французский театр знает очень мало трагедий, не представляющих смеси вымысла и истории. Но здесь я вступаю в область господина Гете, он ответит сам и, конечно, сделает это хорошо. Что касается меня, то я хотел дать несколько полезных людям поучений, и для этого мне нужен был авторитет истории. Я желал, чтобы заимствованным в ней примерам было легко и приятно подражать, а это потребовало прибавления идеалов и романтики. Мысли людей иногда ценнее их поступков, и хороший литературный вымысел ценнее истории людского рода. Сравните, ваше величество, “Век Людовика XIV”(8) с “Телемаком”(9), и вы увидите, который из них дает лучшие уроки государям и народам. Мой Диоген чист на дне своей бочки”.—“Но знаете ли вы,—сказал император,—что случается с людьми, которые показывают добродетель лишь в литературном вымысле: они заставляют думать, что добродетель—только пустая мечта. На историю часто клеветали сами историки”. Этот разговор, в котором, конечно, был бы затронут и Тацит, был прерван Нансути, сообщившим императору, что курьер из Парижа привез ему письма. Принц-примас удалился вместе с Виландом и Гете и попросил меня быть с ними у него к обеду. Виланд, не уверенный по своей простоте, хорошо или плохо он отвечал императору, вернулся к себе, чтобы записать этот разговор. Запись о нем он принес к принцу-примасу в том виде, в каком он только что приведен. На этом обеде присутствовали все блестящие люди из Веймара и его окрестностей. Я заметил одну даму из Эйзенаха, сидевшую близ примаса. При обращении к ней ее называли не иначе, как именем какой-нибудь музы и притом без всякой аффектации. “Клио, передать ли вам то-то”,—спрашивал ее примас, на что она просто отвечала да или нет. На земле она звалась баронессой Бехтольсгейм. После обеда все отправились в театр, и по обыкновению после спектакля я проводил императора, а затем направился к княгине Турн-и-Таксис. Император Александр уже находился у нее; его лицо имело необычное выражение. Было очевидно, что его колебания еще не рассеялись и что замечания к проекту договора не готовы. “Говорил ли с вами император в последние дни?”—спросил он прежде всего. “Нет, ваше величество”. Я рискнул добавить, что “если бы я не видал Винцента, то я думал бы, что эрфуртское свидание предназначалось только для развлечения”. “Что говорит Винцент?”—“Ваше величество, весьма благоразумные вещи; он надеется, что ваше величество не позволит императору Наполеону толкнуть вас на мероприятия, угрожающие Австрии или хотя бы оскорбительные для нее; позвольте мне, ваше величество, сказать, что я питаю такие же желания”. “Я тоже этого хочу, но это очень трудно, так как мне кажется, что император Наполеон очень раздражен”.—“Но, ваше величество, вы будете делать свои замечания; не могли бы вы указать, что те статьи, в которых говорится об Австрии, бесполезны, так как они в сущности предусмотрены договором в Тильзите? Мне кажется, следовало бы добавить, что доверие должно быть взаимным; ваше величество, по предложенному вам проекту вы оставляете императора Наполеона до известной степени судьей в вопросе об условиях, при которых вступают в силу некоторые статьи договора; со своей стороны, вы имеете право требовать, чтобы он предоставил на ваше усмотрение вопрос о том, когда наступает случай, при котором Австрия становится реальным препятствием к осуществлению проекта, принятого обоими императорами. Если это будет установлено, то все, что касается Австрии, должно быть удалено из договора. Может быть, ваше величество, вы подумаете о том, какой испуг должно было вызвать в Вене эрфуртское свидание, подготовленное без ведома императора Франца, и напишете ему, чтобы успокоить его относительно всех тех вопросов, которые его лично интересуют”. Я видел, что мои слова приятны императору Александру; он делал карандашом заметки о том, что я ему говорил, но его надо было убедить, а это еще не было сделано. Это удалось Коленкуру благодаря личному доверию, которым он пользовался. На следующий день император Александр показал мне замечания, сделанные им к проекту договора, и любезно сказал: “В некоторых местах вы найдете свои собственные мысли; я прибавил многое, заимствованное из прежних своих разговоров с императором Наполеоном”. Его замечания были довольно удачны. Он решил передать их на следующий день утром. Это меня порадовало, так как он казался мне не слишком решительным, и я хотел, чтобы первый шаг был уже сделан. Мои опасения не оправдались, и при обсуждении, которое длилось более трех часов, он не сделал никаких уступок. Когда императоры расстались, Наполеон послал за мной и сказал: “Я ничего не достиг с императором Александром; я обрабатывал его со всех сторон, но он близорук, и я не подвинулся ни на шаг вперед”.— “Ваше величество, мне кажется, что за ваше пребывание здесь вы уже многого достигли, так как император Александр совершенно поддался вашему обаянию”.—“Он это только изображает, и вы им одурачены. Если он меня так любит, то почему же он не дает своей подписи?”—“Ваше величество, в нем есть нечто рыцарственное, и чрезмерные предосторожности его оскорбляют; он считает, что его слово и его чувства к вам обязывают его больше, чем договоры. Это доказывают его письма, которые, ваше величество, вы мне показали”.—“Какой все это вздор”. Он ходил взад и вперед по комнате и через несколько минут прервал молчание словами: “В разговоре с ним я больше к этому вопросу не вернусь, чтобы не показать, что я придаю ему такое серьезное значение; в сущности само наше свидание с окружающей его таинственностью должно внушить Австрии уважение; она будет думать, что подписано секретное соглашение а я не стану ее разубеждать. Если бы по крайней мере Россия побудила своим примером императора Франца признать Иосифа королем Испании, то это было бы уже кое-что, но я на это не рассчитываю; то, что я достиг в восемь дней с императором Александром, потребовало бы в Вене годы. Я не понимаю вашей склонности к Австрии, ведь это политика старой Франции”.—“Ваше величество, я считаю, что такова должна быть политика и новой Франции и, смею добавить, также ваша, потому что вы, ваше величество, являетесь именно тем государем, на которого более всего рассчитывают для защиты цивилизации. Появление России при заключении мира в Тешене было большим бедствием для Европы, а Франция совершила серьезную ошибку, не сделав ничего, чтобы этому помешать”.—“Сейчас, мой дорогой, дело идет не об этом, надо исходить из существующего положения. Что касается прошлого, то начинайте, если вам угодно, с Вержена. Теперь совершенно не интересуются цивилизацией”.—“Теперь думают, вероятно, только о делах?”— “Вы не отгадали; знаете ли вы, почему никто не действует со мной честно? Да потому, что у меня нет потомства, и все считают, что французская корона лишь пожизненно на моей голове, В этом тайна всего, что вы здесь видите: меня боятся, и каждый выпутывается, как умеет; такое положение вещей плохо для всех, и когда-нибудь,—добавил он торжественно,—его придется исправить. Продолжайте встречаться с императором Александром; я, может быть, обошелся с ним несколько резко вовремя нашего совещания, но я хочу расстаться с ним в добрых отношениях; в моем распоряжении еще есть несколько дней; мы едем завтра в Веймар, и мне будет нетрудно быть любезным в Иене, где в мою честь будет устроено празднество. Вы прибудете в Веймар до меня; герцогиня слишком великосветская дама и не поедет в Иену, но скажите ей, что я желаю видеть там всех ученых людей, собирающихся вокруг нее, и что я прошу их об этом предупредить. Было бы досадно, если бы подробности этого путешествия скоро забылись”. Император отправил в Веймар всю труппу Французской комедии. День начался охотой под Иеной, затем последовал парадный обед за столом в виде подковы, за которым были размещены лишь царствующие особы. Я отмечаю это слово, так как оно дало повод оказать Наполеону еще один знак уважения, посадив за этим столом князя Невшательского и меня(10). По выходе из-за стола все отправились в театр, где перед государями и принцами, приехавшими из Эрфурта в Веймар, играли “Смерть Цезаря”. После спектакля перешли в бальный зал. Это было прекрасное помещение, большое, высокое, квадратной формы, с верхним светом и с рядом колонн. Впечатление, произведенное “Смертью Цезаря”, быстро рассеялось благодаря присутствию множества молодых и красивых дам, приехавших на бал. Наполеон любил обсуждать серьезные вопросы в гостиных, на охоте, на балу, иногда за карточным столом. Ему казалось, что этим он подчеркивает свою недоступность тем влияниям, которые на обыкновенных людей оказывает такого рода времяпровождение. Обойдя залу и побеседовав с несколькими молодыми дамами, имена которых он спросил у камергера герцога, Фридриха Мюллера, получившего распоряжение сопровождать его, он покинул большую залу и попросил Мюллера привести к нему Гете и Виланда. Мюллер не состоял в родстве с знаменитым историком Иоганном Мюллером, но он принадлежал к веймарскому литературному обществу и, мне кажется, состоял его секретарем. Он направился за указанными лицами, которые наблюдали вместе с некоторыми другими членами этого общества прекрасное и редкое зрелище, открывавшееся перед ними. Гете, подойдя к императору, попросил позволения их назвать. Я не перечисляю этих имен, так как их не оказалось в той очень подробной записке, которую мне передал на следующий день Мюллер. Я просил его записывать все, что он будет наблюдать во время этой поездки, чтобы сравнить это с тем, что я записывал сам. “Я надеюсь, вы довольны нашими спектаклями,— сказал император Гете.—Присутствовали ли на них эти господа?”—“Они были на сегодняшнем представлении, ваше величество, но не в Эрфурте”.—“Это меня огорчает; хорошая трагедия представляет самую лучшую школу для выдающихся людей. С известной точки зрения она превосходит самую историю. Наилучший исторический труд производит лишь небольшое впечатление. Когда человек находится в одиночестве, то он испытывает лишь слабые волнения, но впечатление, производимое на целое собрание людей, оказывается более сильным и длительным. Уверяю вас, что историк, которого постоянно цитируют, то есть Тацит, не научил меня ничему. Знаете ли вы более великого и более несправедливого хулителя человечества, чем подчас бывает он? В самых обыденных поступках он обнаруживает преступные мотивы; он превращает всех императоров в отчаянных негодяев для того, чтобы заставить восхищаться своим гением, который их постиг. Правильно говорят, что его “Анналы” представляют собой не историю империи, а выписку из римских канцелярий. У него все полно обвинениями, обвиняемыми и людьми, вскрывающими себе вены в ванне. Говоря все время о доносительстве, он в сущности самый большой доносчик. А какой стиль! Как беспросветная ночь! Я не большой латинист, но туманность Тацита видна из тех десяти или двенадцати итальянских и французских переводов, которые я читал; из этого я вывожу, что она вытекает из того, что называется его гением, как и из его стиля. Она неотделима от его способа выражения, потому что заключается в самом характере его восприятия. Я слышал хвалы ему за тот страх, который он внушает тиранам, но он вызывает у них страх перед народом, а это большое бедствие для самих народов. Разве я не прав, господин Виланд? Но я мешаю вам, мы присутствуем здесь не для того, чтобы говорить о Таците. Посмотрите, как хорошо танцует император Александр”. “Я не знаю, зачем мы здесь присутствуем, ваше величество,— ответил Виланд,—но я знаю, что в эту минуту ваше величество делает меня самым счастливым человеком на земле”.— “Ну, так ответьте мне”.—“Ваше величество, после сказанного вами я забываю, что вы владеете двумя престолами. Я вижу в вас лишь представителя литературы и знаю, что ваше величество не пренебрегает этим званием; ведь я помню, что, отбывая в Египет, вы подписывали письма: Бонапарт, член Французского института и главнокомандующий. Поэтому я попытаюсь, ваше величество, отвечать вам, как представителю литературы. В Эрфурте, когда я подвергался вашей критике, я почувствовал, что слабо защищаюсь, но мне кажется, что Тацита я могу защитить лучше. Я согласен, что его главная цель сводится к наказанию тиранов, но он указывает на них не рабам, которые способны взбунтоваться только для того, чтобы переменить тирана; он обращается к вековой справедливости и к человечности. Ведь существование людского рода будет, вероятно, так продолжительно и сопровождаться таким количеством бедствий, что разум сумеет в конце концов приобрести ту силу, которой до сих пор обладали одни лишь страсти”.—“Это говорят все наши философы. Я ищу эту силу разума, но нигде ее не нахожу”.—“Ваше величество, лишь с недавних пор число читателей Тацита сильно выросло, а это заметный успех человеческого разума; ведь в продолжение веков академии интересовались им не больше, чем царские дворы. Рабы чужого вкуса, как и слуги деспотизма, боялись его. Лишь когда Расин назвал его самым великим живописцем древности, ваши и наши университеты решили, что это, может быть, правда. Ваше величество говорит, что, читая Тацита, вы видите доносителей, убийц и разбойников, но ведь такова-то именно была Римская империя под управлением тех чудовищ, которых описывает Тацит. Гений Тита Ливия обозревал вселенную, следуя за римскими легионами; гений Тацита почти всегда сосредоточивался в римских канцеляриях, так как в них можно найти всю историю империи. Да вообще,—заявил Виланд воодушевленным голосом,—только канцелярии позволяют ознакомиться у всех народов с теми несчастными временами, когда государи и народы, враждебные друг другу в своих принципах и взглядах, жили в постоянном взаимном страхе. Тогда все превращается в уголовное дело, и кажется, что центурионы и палачи приносят смерть чаще, чем время и сама природа. Ваше величество, Светоний и Дион Кассий сообщают о гораздо большем количестве злодеяний, чем Тацит, но их стиль лишен выразительности, в то время как ничто не может быть ужаснее кисти Тацита. Тем не менее его гений неумолим лишь в той мере, как сама справедливость. Как только появляется что-нибудь отрадное, хотя бы в чудовищное царствование Тиберия, его взор тотчас же это отыскивает, он это схватывает и выдвигает с тем блеском, который он придает всему. Он находит основания для похвалы даже такому глупцу, как Клавдий, слабоумие которого в сущности сводится к особенностям его характера и к его распущенности. Это беспристрастие, представляющее самое высокое свойство справедливости, Тацит проявляет в отношении самых противоположных явлений, в отношении как республики, так и империи, как граждан, так и государей. По характеру его гения следовало бы думать, что он может любить только республику; это мнение как будто подкрепляется его словами о Бруте, Кассии и Кодре, так глубоко врезавшимися в память всей нашей молодежи. Но когда он говорит об императорах, столь счастливо примиривших то, что считалось непримиримым, именно— империю со свободой, то чувствуешь, что искусство править кажется ему самым прекрасным открытием на земле”. Принц-примас, приблизившийся к разговаривающим, и вся маленькая веймарская академия, окружившая Виланда, не могли скрыть своего восхищения. “Ваше величество,—продолжал он,—правильно сказать о Таците, что тираны бывают наказаны, когда он их изображает, но еще вернее,—что добрые государи бывают вознаграждены, когда он рисует их образ и доставляет им славу”.—“Я имею дело с слишком сильным противником, господин Виланд, и вы не пренебрегаете ни одним из своих преимуществ. Мне кажется, что вы знали о моей нелюбви к Тациту. Переписываетесь ли вы с Мюллером, которого я видел в Берлине?”—“Да, ваше величество”.—“Сознайтесь, что он написал вам о содержании нашей беседы”.—“Действительно, ваше величество, от него я узнал, что ваше величество охотно беседовали о Таците, но не любите его”. —“Я еще не считаю себя совершенно разбитым, господин Виланд, с этим я могу согласиться с трудом. Завтра я возвращаюсь в Эрфурт, и там мы возобновим наш спор. В моем арсенале имеется хороший запас оружия для доказательства, что Тацит недостаточно проник в сущность причин и внутренних двигательных сил событий; он недостаточно обнаружил тайну тех поступков, о которых он рассказывает, и их взаимную связь, чтобы подготовить суждение потомства, которое должно судить о людях и правительствах, исходя из их эпохи и окружавших их условий”. Император окончил этот разговор, сказав Виланду с любезным видом, что удовольствие, доставляемое беседой с ним, заставляет его вести себя скандально в отношении танцующих, и с этим он удалился с принцем-примасом. Остановившись на несколько минут, чтобы посмотреть прекрасную кадриль и поговорить с герцогиней Саксен-Веймарской об изяществе и красоте этого блестящего празднества, он покинул бал и отправился в приготовленное для него великолепное помещение. Молодые академики, опасаясь, чтобы память не изменила им, успели уже уйти, для того чтобы записать все слышанное ими. На следующий день, назначенный для нашего отъезда, Мюллер явился ко мне в семь часов утра, чтобы проверить, точно ли записаны нападки императора на Тацита. Я изменил несколько слов, и это дало мне право получить полную копию труда указанных господ, “предназначенного для литературных архивов Веймара. Утром мы покинули это прекрасное место. Короли Саксонии, Вюртемберга и Баварии отбыли в свои государства. По возвращении в Эрфурт император Наполеон стал более чем когда бы то ни было предупредителен, дружественен и откровенен с императором Александром. Соглашение, сделавшееся таким бессодержательным, было заключено почти без всяких возражений; казалось, что Наполеон испытывает истинное желание делать лишь то, что может быть угодно его августейшему союзнику. “Беспокойная жизнь меня утомляет,—говорил он императору Александру,—я нуждаюсь в покое и стремлюсь лишь дожить до того момента, когда можно будет безмятежно отдаться прелестям семейной жизни, к которой меня влекут все мои вкусы. Но это счастье,—добавил он с проникновенным видом,— создано не для меня. Без детей не может быть семьи, а разве я могу их иметь! Моя жена старше меня на десять лет. Я прошу простить меня: все, что я говорю, может быть, смешно, но я следую движению своего сердца, которое радо излиться вам”. Затем он стал распространяться на тему о длительной разлуке, больших расстояниях, трудности встреч и так далее. “Но до обеда остается лишь несколько минут,—сказал он,—а мне надо восстановить всю свою сухость к прощальной аудиенции, которую я должен дать Винценту”. Император Александр находился даже вечером под обаянием этого интимного разговора. Я встретился с ним поздно, так как Наполеон, довольный проведенным днем, надолго задержал меня после вечерней аудиенции. В его волнении было что-то странное; он задавал мне вопросы, не дожидаясь ответов, он обращался ко мне и пытался высказать что-то скрывавшееся между слов. Наконец он произнес веское слово “развод”. “Его предписывает мне,—сказал он,—судьба, и этого требует спокойствие Франции. У меня нет наследника. Иосиф ничего собой не представляет, и у него только дочери. Я должен основать династию, но я могу это сделать, лишь вступив в брак с принцессой из одной из царствующих в Европе старых династий. У императора Александра есть сестры, и возраст одной из них мне подходит. Поговорите об этом с Румянцевым. Скажите ему, что после окончания испанского дела я готов на его планы раздела Турции, остальные же доводы вы найдете сами, так как я знаю, что вы сторонник развода; могу вам сказать, что такого мнения держится и сама императрица Жозефина”.—“Если ваше величество разрешит, то я ничего не скажу Румянцеву. Хоть он и герой из романа Жанлис “Рыцари лебедя”(11), но я не считаю его достаточно проницательным. И затем, после того как я наставлю Румянцева на правильный путь, ему придется повторить императору все сказанное мною, но сумеет ли он это хорошо сделать? Я не могу быть в этом уверен. Гораздо естественнее и, могу сказать, гораздо легче серьезно поговорить по этому важному делу с самим императором Александром. Если ваше величество разделяет такую точку зрения, то я возьму на себя начало этих переговоров”.—“В добрый час,—ответил император,—но только запомните, что не надо говорить с ним от моего имени; вы должны обратиться к нему как француз, чтобы он добился у меня решения, которое обеспечит устойчивость Франции, так как после моей смерти ее судьба может оказаться ненадежной. Выступая в качестве француза, вы можете говорить все, что вам угодно. Иосиф, Люсьен и вся моя семья дают вам хорошие доводы для доказательств; вы можете говорить о них все, что вам заблагорассудится, так как для Франции они не представляют ничего. Даже моему сыну,—но на это бесполезно указывать,—пришлось бы часто напоминать, чей он сын, чтобы он мог спокойно править”. Было уже поздно, но тем не менее я рискнул отправиться к княгине Турн-и-Таксис, прием у которой еще не окончился. Император Александр оставался у нее позже обычного; он передал княгине с удивительным доверием всю грустную сцену, происшедшую утром. “Никто не имеет,—говорил он,—правильного представления о характере этого человека. Все его действия, которые тревожат другие страны, вызываются вопреки его воле его положением. Никто не знает, насколько он добр. Вы верите в это, не правда ли, вы ведь так хорошо его знаете?”— “Ваше величество, у меня есть много личных оснований верить в это, и я всегда охотно их привожу. Осмелюсь ли я просить ваше величество дать мне завтра утром аудиенцию?”—“Охотно, но я не знаю, до свидания с Винцентом или после него. Я должен еще написать письмо императору Францу”.—“Ваше величество, если вы позволите, то лучше после; мне было бы очень досадно задержать такое доброе дело; императора Франца необходимо успокоить, и я не сомневаюсь, что ваше письмо достигнет этой цели”.—“Во всяком случае таково мое намерение”. Император с удивлением заметил, что было уже около двух часов. На следующий день, прежде чем отправиться на назначенную ему аудиенцию, Винцент зашел ко мне. Я был вправе ему сказать, что он должен быть в высшей степени удовлетворен всеми вообще и императором Александром в частности. Его лицо просияло. Прощаясь со мной, он дружески и с признательностью пожал мне руку. Он уехал в Вену тотчас же после аудиенции, а я в это время мысленно перебирал все средства, которые следовало применить, чтобы с успехом выполнить, наперекор общим желаниям и собственным взглядам, порученное мне дело. Сознаюсь, что новые узы между Францией и Россией казались мне опасными для Европы. По моему мнению, следовало достичь лишь такого признания идеи этого брачного союза, чтобы удовлетворить Наполеона, но в то же время внести такие оговорки, которые затруднили бы его осуществление. Все искусство, которое я считал нужным применить, оказалось с императором Александром излишним. Он понял меня с первого же слова и понял точно так, как я хотел. “Если бы дело касалось только меня,— заявил он,—то я охотно дал бы свое согласие, но этого недостаточно: моя мать сохранила над своими дочерьми власть, которую я не вправе оспаривать. Я могу попытаться на нее воздействовать; возможно, что она согласится, но я все же не решаюсь за это отвечать. Так как мною руководит истинная дружба к императору Наполеону, то это должно его удовлетворить. Скажите ему, что через несколько минут я буду у него”.— “Ваше величество, не забудьте, что разговор должен носить сердечный и торжественный характер. Вы будете говорить, ваше величество, об интересах Европы и Франции. Европе необходимо, чтобы французский престол был защищен от всяких бурь, и средство, предложенное вашим величеством, должно привести к этой цели”.—“Да, это составит тему моего разговора, она очень плодотворна. Сегодня вечером мы увидимся у княгини Турн-и-Таксис”. Я пошел предупредить императора Наполеона, который был восхищен тем, что ему предстоит отвечать, но отнюдь не просить. У меня едва хватило времени добавить еще несколько слов, как император Александр уже сходил во дворе с лошади. Оба императора оставались вдвоем несколько часов; с этого момента всему двору приходилось изумляться тем дружеским выражениям, с которыми они обращались друг к другу; в последние дни даже строгость этикета была ослаблена. Всюду чувствовался дух согласия и полное удовлетворение императоров. Важное дело о разводе было начато так, что император Наполеон мог давать удовлетворительные ответы всем лицам, связанным с императрицей Жозефиной, которые считали ее возвышение гарантией своего личного положения. Наполеону уже казалось, что он закладывает основания настоящей империи. Со своей стороны, русский император думал, что лично связал его с собой; он лелеял мысль, что одним своим влиянием он дал русской системе поддержку того, кого восхвалял весь мир и гений которого разрушал все затруднения. В театре он встал в присутствии всего Эрфурта и взял руку Наполеона в момент, когда произносились стихи из “Эдипа”: L'amitie d'un gnand homme est un present des dieux! (“Эдит” Вольтера, действие I, явление 1: Дружба великого человека является даром богов.) Они оба считали, что необходимы друг другу для их общего будущего. Когда закончились дни, отведенные для свидания, то каждый из них роздал награды свите своего союзника, и они расстались с выражениями живейшего сожаления и полнейшего доверия. Последнее утро в Эрфурте Наполеон посвятил обществу. Зрелище, которое представлял в этот последний день его дворец, никогда не исчезнет из моей памяти. Он был окружен владетельными князьями, у которых он уничтожил армии, отторгнул владения или которых он просто принизил. Среди них не нашлось никого, кто бы решился обратиться к нему с какой-либо просьбой; каждый желал только, чтобы Наполеон его заметил и притом заметил последним, чтобы сохраниться в его памяти. Вся эта откровенная низость осталась без вознаграждения. Он отличил лишь веймарских академиков и говорил только с ними; он захотел в этот последний момент произвести на них особое впечатление и спросил у них, много ли в Германии отвлеченных мыслителей. “Да, ваше величество,—ответил один,—их довольно много”.—“Я жалею вас. Они имеются у меня в Париже, это мечтатели и опасные мечтатели: они все скрытые и даже не слишком скрытые материалисты. Господа,—заговорил он, возвышая голос,—философы мучаются над созданием систем; они тщетно пытаются создать систему лучшую, чем христианство, которое, примиряя человека с самим собой, в то же время обеспечивает общественный порядок и спокойствие государств. Ваши теоретики разрушают все иллюзии, а эпоха иллюзий составляет для народов, как и для отдельных лиц, счастливый возраст. Покидая вас, я уношу с собой одну из таких иллюзий, которая мне драгоценна: надежду, что вы сохраните обо мне добрую память”. Спустя несколько минут он был уже в экипаже и уезжал, чтобы завершить, как он полагал, покорение Германии. Я прилагаю здесь договор, подписанный в Эрфурте. Можно найти некоторую разницу в расположении статей в проекте, который император просил меня составить, и в этом договоре. Статья, относящаяся к Валахии и Молдавии, с первого взгляда кажется измененной, однако, формально признавая присоединение обеих этих провинций к Российской империи, император Наполеон требует сохранения своего согласия на такое присоединение в глубочайшем секрете (точное выражение), так что эта статья приобретала, по его мнению, в проекте и в самом договоре почти одинаковый смысл. Надо отметить, что последняя редакция договора не содержала двух статей, внесенных Наполеоном в проект, именно статьи, по которой он становился судьей в вопросе об обязательности для России объявления войны Австрии, и другой, относящейся к продвижению одного русского корпуса к австрийской границе под предлогом отношении, создавшихся между петербургским кабинетом и Оттоманской Портой. Эрфуртская конвенция, подписанная 12 октября 1808 года. Ратифицирована 13 октября 1808 года “Его величество император французов, король италийский, протектор Рейнского союза и так далее. И его величество император всероссийский и так далее. Желая придать соединяющему их союзу все более тесный и навеки нерушимый характер и оставляя за собой возможность впоследствии, в случае надобности, прийти к соглашению о том, какие принять новые решения и какие направить новые средства борьбы против Англии, общего их врага и врага континента, решили установить в особой конвенции начала, которым они постановили неизменно следовать во всех своих выступлениях с целью восстановления мира. Для сего они назначили: его величество император французов и так далее—его сиятельство Жан-Баптиста Нонпер де Шампаньи, имперского графа и так далее и министра внешних сношений. Его величество император всероссийский и так далее— его сиятельство графа Николая Румянцева, действительного тайного советника, члена Государственного совета, министра иностранных дел и так далее, которые пришли к следующему соглашению: Статья I. Его величество император французов и так далее и его величество император всероссийский и так далее подтверждают и, поскольку это требуется, возобновляют союз, заключенный ими в Тильзите, обязуясь не только не заключать с общим врагом никакого сепаратного мира, но и не вступать с ним ни в какие переговоры и не принимать от него никаких предложений иначе, как с общего согласия. Статья II. Решив оставаться в нерасторжимом союзе на случай мира и войны, высокие договаривающиеся стороны постановляют назначить уполномоченных для мирных переговоров с Англией и отправить их для этого в тот континентальный город, который будет ею указан. Статья III. В течение всего хода переговоров, если они будут иметь место, уполномоченные обеих высоких договаривающихся сторон будут постоянно действовать в самом полном согласии; ни одному из них не будет дозволено не только поддерживать, но даже принимать или одобрять, наперекор интересам другой договаривающейся стороны, какое бы то ни было предложение или просьбу английских уполномоченных, которое, будучи само по себе благоприятно английским интересам, могло бы также представить некоторые выгоды для одной из договаривающихся сторон. Статья IV. Основанием договора с Англией будет служить принцип uti possidetis(12). Статья V. Высокие договаривающиеся стороны обязываются считать непременным условием мира с Англией признание ею вхождения Финляндии, Валахии и Молдавии в состав Российской империи. Статья VI. Они обязываются равным образом считать непременным условием мира признание Англией нового порядка вещей, установленного Францией в Испании. Статья VII. Обе высокие договаривающиеся стороны обязываются не принимать в течение переговоров никакого представления, предложения или сообщения, не известив о нем немедленно подлежащие дворы; если же указанные предложения будут сделаны на конгрессе, собравшемся для заключения мира, то уполномоченные обеих сторон обязаны их друг другу сообщить. Статья VIII. Так как вследствие революций и преобразований, потрясающих Оттоманскую Порту и не представляющих ей никакой возможности дать, а следовательно—никакой надежды получить от нее достаточные гарантии личности и имуществ жителей Валахии и Молдавии, его величество император всероссийский довел уже с этой стороны границы своей империи до Дуная и присоединил к ней Валахию и Молдавию, признавая лишь под этим условием неприкосновенность Оттоманской империи, то его величество император Наполеон признает указанное присоединение и перенесение границ Российской империи до Дуная. Статья IX. Его величество император всероссийский обязывается сохранить предшествующую статью в глубочайшем секрете и вступить либо в Константинополе, либо в любом ином месте в переговоры с целью достичь, если возможно, мирным путем уступки этих двух провинций, Франция отказывается от посредничества. Уполномоченные или представители обоих народов предварительно придут к соглашению относительно своих выступлений с целью не создавать угрозу дружбе существующей между Францией и Портой, а также безопасности французов, проживающих в факториях Леванта, а также с целью воспрепятствовать Порте броситься в объятия Англии. Статья X. Если, вследствие отказа Оттоманской Порты уступить обе эти провинции, разгорится война, то император Наполеон не примет в ней никакого участия и ограничится оказанием своих услуг перед Оттоманской Портой. Но если бы Австрия или какая-нибудь другая держава присоединилась в указанной войне к Оттоманской империи, то его величество император Наполеон немедленно присоединится к России, так как в этом случае вступает в силу общий союз, соединяющий обе империи. В случае, если бы Австрия начала войну с Францией, то император всероссийский обязывается выступить против Австрии и присоединиться к Франции, так как этот случай также считается одним из тех, при котором вступает в силу союз, соединяющий обе империи. Статья XI. Высокие договаривающиеся стороны обязываются, однако, сохранять целость остальных владений Оттоманской империи. Они сами не намерены ничего предпринимать и не потерпят никаких выступлений против какой бы то ни было части этой империи без предварительного соглашения с ними. Статья XII. Если меры, принятые обеими высокими договаривающимися сторонами для восстановления мира, окажутся бесплодными, вследствие того ли, что Англия отвергнет сделанное ей предложение, или вследствие того, что переговоры будут прерваны, то их августейшие величества снова встретятся на протяжении года для соглашения о совместных военных операциях и способах их ведения с привлечением всех средств обеих империй. Статья XIII. Обе высокие договаривающиеся стороны, желая вознаградить верность и твердость, с которыми король датский поддерживал общее дело, обязываются предоставить ему вознаграждение за его жертвы и признать приобретения, которые он сумеет сделать в настоящей войне. Статья XIV. Настоящая конвенция будет считаться секретной не меньше чем в продолжении десяти лет. Эрфурт, 12 октября 1808 года”. Примечания: (1) Французским послом был тогда Коленкур. (2) Речь идет о письме Наполеона Александру I, написанном в феврале 1808 г. Оно опубликовано в “Correspondance de Napoleon I”, t. 16, р. 498. (3) “Аталия” — трагедия Расина. (4) “Циина”, “Гораций”, “Родогуна” и “Сид” — трагедии Корнеля; “Андромаха”, “Британник”, “Митридат”, “Ифигения в Авлиде”, “Федра” и “Баязет” — Расина; “Заира”, “Смерть Цезаря”, “Магомет” — Вольтера; “Радамист” — трагедия французского драматурга Кребильона (1674— 1762); “Эдип” — одноименные трагедии Корнеля и Вольтера; здесь предполагается, очевидно, трагедия Вольтера. “Манлий”, по полному названию “Манлий Капитолийский”, — трагедия французского драматурга Лафосса (1653—1708). (5) Очевидно, Талейран путает “Лагерь Валленштейна” и “Смерть Валленштейна” — драмы Шиллера с исторической работой того же автора “История Тридцатилетней войны”. (6) “Танкред” — трагедия Вольтера. (7) Речь идет о Саксен-Веймарском герцоге (см. указатель). (8) “Век Людовика XIV” — исторический труд Вольтера. (9) “Приключения Телемака” — эпический роман французского писателя Фенелона (1651—1715), написанный им для внука Людовика XIV и содержащий много намеков на царствование последнего. (10) Талейран получил от Наполеона в дар и в потомственное владение самостоятельное княжество Беневентское, находившееся в Италии и входившее ранее в состав папских владений; в 1814 г. оно было возвращено папе. (11) “Рыцари лебедя”, или “Двор Карла Великого”, — исторический роман Жанлис, в котором автор изображает под покровом вымысла некоторые эпизоды французской революции и деятелей своей эпохи, в том числе, как предполагалось, и гр. Румянцева. (12) Ut possidetis представляют формулу дипломатических отношений, означающую взаимное признание обеими сторонами права владеть фактически занимаемыми ими территориями. Буквально в переводе с латинского языка значит “как вы владеете”. Оглавление |
|