| Charles-Maurice, Duc de Talleyrand-Perigord - Талейран | |
| Мемуары глава 1,часть 2 | |
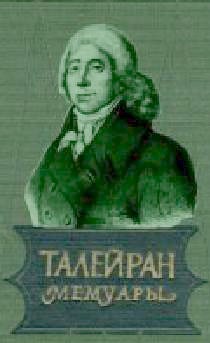 Король, имевший слабость, покривив совестью, покинуть своего министра,
держался крепче, чем когда бы то ни было, за те проекты, которые он разрешил
представить собранию нотаблей. Он начал искать такого преемника Калонну,
который был бы склонен по собственным убеждениям следовать предложенным
проектам.
Король, имевший слабость, покривив совестью, покинуть своего министра,
держался крепче, чем когда бы то ни было, за те проекты, которые он разрешил
представить собранию нотаблей. Он начал искать такого преемника Калонну,
который был бы склонен по собственным убеждениям следовать предложенным
проектам. Казалось, что Фурке подходит больше всех. Королю нравилась его большая простота, его взгляды, отсутствие всякой склонности к интриге и хорошая репутация. Но надо было склонить его самого. Калонн, предпочитавший его всякому другому и опасавшийся, чтобы выбор не пал на архиепископа тулузского, написал ему. Он поручил Дюпону, который издавна через Тюрго, Гурне и Трюденя имел связи с Фурке, передать ему это письмо. Мне запомнилась эта маленькая подробность только потому, что она повела к довольно забавной сцене. Пока Калонн собирал все бумаги, которые, как он предвидел, могли ему понадобиться в случае нападок на его ведомство, личные его друзья ожидали его в большой приемной генерального контроля, где они собрались, вероятно, в последний раз. Они были там уже давно... Никто не разговаривал... Было одиннадцать часов вечера... Дверь отворяется... Входит поспешно Дюпон и с горячностью восклицает: “Победа, победа, сударыни!” Все встают, его окружают. Он повторяет: “Победа! Фурке принимает назначение и будет следовать всем планам Калонна”. Изумление, вызванное такого рода победою у госпожи Шабан, Лаваль, Робек, д'Арвелей, сильно возмутило Дюпона, который любил Калонна из-за провинциальных собраний и не знал, что эти дамы любили провинциальные собрания из-за Калонна. Весмеранж, ждавший вместе с другими и совершенно не интересовавшийся ни провинциальными собраниями, ни Калонном, но любивший всем сердцем генеральный контроль, немедленно отправился в Париж для того, чтобы устроить раньше других разные спекуляции, которые могли бы оказаться выгодными вследствие назначения Фурке. Это новое министерство было кратковременно. Фурке быстро лишился бодрости духа, и королева добилась, наконец, назначения архиепископа тулузского, который по уму и характеру совершенно не соответствовал обстоятельствам, испытываемым Францией. С самого начала своего управления он начал приносить жертвы общему мнению, которое, встречаясь лишь со слабостью, становилось со дня на день все требовательнее. От собрания нотаблей нельзя было добиться ничего, кроме жалоб и совета созвать Генеральные штаты, и, действительно, я не вижу, каким способом нотабли могли бы сделать что-нибудь сверх того, что они делали. Ни одна уступка с их стороны не могла иметь никакого значения, потому что реально у них не было на это власти; не приведя ни к чему, они стали бы только ненавистны. Их созыв представлял поэтому огромную ошибку, коль скоро не было уверенности в том, что удастся руководить их совещаниями. Так как компетенция парламентов была поставлена под вопрос или, скорее, их некомпетентность считалась установленной самым фактом созыва нотаблей, то они не могли уже ничего сделать. Поэтому они отказались сделать то, что от них требовали, говоря, что они не имеют на это права. За это они были наказаны изгнанием, что сделало их популярными; вскоре их снова созвали, что дало им еще больше почувствовать свое значение и побуждало их воздерживаться от всего того, что могло бы их скомпрометировать. После того как все эти попытки послужили лишь к обнаружению пределов королевской власти, не принеся ей никакой пользы, оставалось на выбор, либо обходиться собственными средствами, не требуя ни от кого жертв, что было невозможно вследствие дефицита, либо же созвать Генеральные штаты. Борьба архиепископа тулузского с парламентами настолько занимательна, что я счел нужным познакомить со всеми ее подробностями в следующей главе этих воспоминаний, специально ей посвященной(26). Герцог Орлеанский, политическая деятельность которого особенно тесно связана с борьбой парламентов той эпохи, естественно играет в ней главную роль. Ни одно из мероприятий архиепископа тулузского не удавалось. Влияние, оказанное им при свержении Калонна, было совершенно личным. Несмотря на то, что он лишил Калонна всякого значения, а сам получил кардинальскую шапку, архиепископство Санское и аббатство Корбийское, несмотря на то, что он сделал своего брата военным министром, все же ни страх перед ним, ни его благосклонность не дали ему ни одного сторонника. Внутренняя оппозиция усиливалась, прежняя внешняя политика Франции упразднялась. Голландия, которую можно было так легко защитить, была покинута(27). Королевская казна была пуста; трон был изолирован, и все страстно стремились к ослаблению королевской власти. Всем казалось, что власть слишком много управляет; возможно, что никогда в нашей истории не управляли меньше и никогда отдельные лица и учреждения не выходили так далеко за положенные им пределы. Политическое существование нации зависит главным образом от точного исполнения каждым лицом возложенных на него обязанностей. Если все эти обязанности вдруг перестают исполняться, то общественный порядок нарушается. В таком положении находилась Франция к концу министерства архиепископа санского. Протестанты волновались и оказывали доверие Неккеру, что вызывало тревогу. Все классы обратились с энтузиазмом к новым идеям. Применение того, чему учились или что читали в любом колледже или академии, уже наперед считалось победой человеческого разума. Все сословия стремились к возрождению. Духовенство, которое должно было оставаться неподвижным как догма, стремилось навстречу важным нововведениям. Оно просило у короля созыва Генеральных штатов. Провинции, имевшие собственные штаты, видели в условиях своих договоров о присоединении к Франции лишь средство противодействия всем общим мероприятиям, которые предлагало правительство. Парламенты мятежно отказывались от власти, которую они осуществляли в течение веков, и призывали со всех сторон представителей народа. Даже самая администрация, которая до того считала за честь быть призванной королем для представления его власти, начала находить свое послушание унизительным и захотела стать самостоятельной. Таким образом все государственные корпорации отклонялись от своего первоначального назначения, все нарушали положенные им пределы и, став на откос, неизбежно должны были, не имея ни опыта, ни путеводного огня, ни опоры, скатиться в пропасть. Словом, начиная с этого времени все теряет свою устойчивость. В таком положении вещей король счел себя вынужденным, несмотря на свое личное нерасположение, призвать Неккера, который умел при помощи произведений, потворствовавших господствовавшим идеям и опубликованных в умело выбранные сроки, привлекать к себе внимание публики. Возможно, что в обычное время он мог бы быть полезен. Я этого не знаю и лично в это не верю. Но я уверен, что в 1788 году король не мог сделать худшего выбора. В период чисто внутреннего кризиса поставить во главе всех дел иностранца, обывателя маленькой республики, не принадлежащего к вероисповеданию большинства народа, с посредственными способностями, преисполненного самомнения, окруженного льстецами, лишенного личной устойчивости и вследствие этого нуждающегося в одобрении публики,— значило обращаться к человеку, который не мог сделать ничего иного, как созвать Генеральные штаты и притом плохо созвать. Правительство всячески показывало, что страшится их, но оно не знало той единственной причины, которая делала их грозными. Оно ошибалось в отношении характера опасности и ничего не предприняло для ее предупреждения, а наоборот, сделало ее неизбежной. Генеральные штаты составлялись из представителей трех сословий, так что сделаться их участником и войти в них можно было лишь путем избрания. Вследствие этого все надежды и опасения зависели от результатов выборов, а сами эти результаты — от способа их проведения. Было очевидно, что единение трех сословий против трона морально немыслимо, что он не может подвергнуться нападению ни со стороны первого, ни со стороны второго сословия, ни вообще до тех пор, пока оба эти сословия существуют. Ясно было, что это нападение возможно только со стороны третьего сословия после его победы над двумя другими и что первые удары должны быть направлены именно против них. Так же точно было понятно, что первое и второе сословия ничего не могут захватить у третьего, не заинтересованы в нападении на него и не имеют к этому охоты, в то время как третье сословие находится в совершенно другом положении по отношению к двум другим, и поэтому следует остерегаться его одного и заранее себя от него предохранить. При таком положении вещей надо было стремиться к сохранению законных прав; было ясно, что эту цель нельзя достичь иначе, как приноравливая силу сопротивления двух первых сословий к агрессивности третьего, и что необходимо по возможности первую увеличить, а вторую сократить. Для этого существовали два способа. Можно было для каждого сословия установить такое число депутатов, чтобы оно могло быть заполнено его наиболее видными по положению и состоянию представителями, Затем надо было ограничить либо право выбирать, либо же право быть выбранным, таким образом, чтобы избрание обязательно пало на этих лиц. Этим способом можно было добиться того, чтобы среди депутатов двух первых сословий корпоративный дух не был ослаблен никакой оппозицией, чтобы они были заинтересованы в защите друг друга, как самих себя, чтобы в случае нападения нападающий не имел тайных связей в их рядах и не нашел там сторонников и чтобы у депутатов третьего сословия страх неудачи уравновешивал жажду приобретений, давая преобладание охранительным стремлениям над агрессивными. Можно было также (и это было бы наилучшее средство) заменить оба первых сословия палатою пэров, составленной из епископов и глав аристократических семейств, сочетающих наибольшую древность и богатство с блеском, а выборы ограничить третьим сословием, которое образовало бы отдельную палату. После того как произошла революция, многие размышляли над тем, как возможно было ее предупредить, и изобретали разные способы, соответствующие предполагаемым ими причинам ее возникновения. Но в период, предшествовавший революции, ее можно было предупредить лишь одним из двух указанных мною способов. Неккер не принял ни одного из них. Он установил число депутатов от каждого из двух первых сословий в триста человек, что было слишком много и принуждало избирать представителей их из низших слоев, которые следовало отстранить. С другой стороны, право выбирать и быть выбранным почти не было ограничено, так что среди депутатов своих сословий высшее духовенство и дворянство оказались в меньшинстве, а третье сословие было представлено лишь одними адвокатами, то есть людьми с опасными умственными навыками, неизбежно вытекающими из их профессии. Но из всех сделанных ошибок самая большая заключалась все же в предоставлении третьему сословию права избрать одному столько же депутатов, сколько выбирали два других вместе. Так как эта уступка могла ему быть полезной лишь в случае слияния всех трех сословий в одно собрание, то она была бы бесцельна, если бы возможность такого слияния не была заранее предусмотрена и на нее не было заранее дано согласие. Таким образом узаконивались попытки третьего сословия добиться этой уступки; его шансы на успех повышались, а в случае этого успеха ему обеспечивалось безусловное преобладание в собрании, в котором сливались все три сословия. Некоторые свойства Неккера мешали ему предвидеть последствия его собственных мероприятий и остеречься их. Он считал, что его влияние на Генеральные штаты будет всемогущим, что представители третьего сословия в особенности будут слушать его как пророка, будут смотреть на все лишь его глазами, не сделают ничего без его согласия и отнюдь не воспользуются наперекор ему оружием, которое он вкладывал им в руки. Иллюзия эта была недолговечна. Сверженный с той высоты, на которую его вознесло лишь одно тщеславие и с которой он надеялся управлять событиями, он ушел в изгнание оплакивать бедствия, которых он не хотел вызывать, и преступления, которых он по своей честности ужасался, но которые он, вероятно, мог бы отстранить от Франции и всего мира, если бы оказался более умелым и менее самонадеянным. Благодаря своей самонадеянности он был неспособен заметить, что происходившее тогда во Франции движение вызвано той страстью, или, скорее, заблуждениями той страсти, которая свойственна всем людям, именно тщеславием. Почти у всех народов она находится в подчиненном состоянии и составляет лишь оттенок в национальном характере, постоянно обращаясь лишь на какой-нибудь один предмет, но у французов, подобно тому как прежде у галлов, их предков, она примешивается ко всему и господствует повсюду, упорно проявляясь в действиях отдельных лиц и групп, благодаря чему она может доходить до самых крайних чрезмерностей. Во французской революции эта страсть действовала не в одиночестве; она разбудила и призвала к себе на помощь другие, но они остались у нее в подчинении, приняли ее окраску и характер, действовали в ее духе и в ее целях. Так как она создала множество импульсов и направляла все движение, то можно сказать, что французская революция родилась из тщеславия. Если страсть, о которой я говорю, направлена к определенной цели и остается в известных пределах, то она привязывает подданных к государству, одушевляет его и оживотворяет. В этом случае она получает и заслуживает название патриотизма, соревнования и любви к славе. Сама по себе и независимо от поставленной ей определенной цели она представляет лишь жажду преобладания. Можно желать преобладания своей стране, корпорации, к которой принадлежишь, можно желать его для себя, и в таком случае можно желать его в одном каком-нибудь отношении или в нескольких, в сфере, в которой действуешь, или вне ее. Можно, наконец, — но это уже признак некоторого безумия — желать его во всем и над всем. Если у большинства лиц, входящих в какое-нибудь государство, это желание обращено на общественные отличия, то они неизбежно обнаружат стремление к таким отличиям, на которые может рассчитывать каждый, а не к таким, которые по самому своему характеру могут сделаться достоянием лишь очень немногих; таким образом из стремления к превосходству рождается дух политического равенства. Это-то и случилось во Франции в период, предшествовавший революции. По революционному определению аббата Сиеса в его работах о привилегиях, это было естественное и неизбежное следствие того положения, в котором находилась Франция. Государство, номинально разделенное на три сословия, фактически делилось лишь на два класса — класс благородных и класс плебеев; часть духовенства принадлежала к первому, а часть—ко второму из них. Всякое преобладание в социальной системе основывается на одном из следующих условий: власть, рождение, богатство и личные заслуги. После министерства кардинала Ришелье и при Людовике XIV вся политическая власть была сосредоточена в руках монарха, а сословное представительство ее совершенно утратило. Промышленность и торговля создали плебейскому классу богатства, которые положили начало всякого рода заслугам. Осталось, таким образом, лишь одно самостоятельное основание превосходства — рождение. Но так как дворянство давно уже стало приобретаться путем покупки должностей, то и рождение могло быть заменено деньгами, что низводило его до уровня богатства. Сама аристократия снижала еще больше его значение, беря себе в жены дочерей разбогатевших выскочек, а не бедных девушек благородной крови. Дворянство, беднея, принижается в своем значении, между тем большинство дворянских семейств было относительно или безусловно бедно. Униженное бедностью, оно еще больше принижалось богатством, когда оно как бы приносилось в жертву богатству при неравных браках. В церкви и в епископате наиболее доходные должности стали почти исключительно достоянием благородного сословия. Принципы, которым в этом отношении постоянно следовал Людовик XIV, были оставлены. Плебейская часть духовенства, то есть несравненно более многочисленная, была таким образом заинтересована в том, чтобы в его сословии заслуги не только всегда преобладали над рождением, но даже чтобы последнее не ставилось ни во что. В благородном сословии не было никакой определенной иерархии: титулы, которые должны были определять ранги, не имели твердого значения. Вместо единого дворянства их существовало семь или восемь: военное, судейское, придворное, провинциальное, древнее и новое, высокое и мелкое. Одно считало себя выше другого, которое, со своей стороны, считало себя равным ему. Наряду с этими притязаниями плебей предъявлял свои собственные, почти равные притязаниям простого дворянина, вследствие легкости, с которой можно было им сделаться. Превосходя его часто по богатству и способностям, он отнюдь не считал себя ниже тех, которым этот простой дворянин считал себя равным. Аристократия уже не жила в своих феодальных укреплениях. Война уже не составляла ее единственного занятия. Она уже не жила окруженная только дворянами или своими ратниками и челядью. Новый род жизни создал у нее иные вкусы, а эти вкусы вызвали новые потребности. Для этой часто праздной аристократии, единственным занятием которой были развлечения, стало потребностью все то, что устраняло скуку, что давало наслаждения. Богатый, просвещенный, совершенно от нее независимый плебей, который мог обойтись без нее, но без которого она обойтись не могла, относился к ней — о чем я уже говорил — как к равной. Когда я говорил о высшем французском обществе эпохи революции, я стремился познакомить со всеми теми разнородными элементами, из которых оно тогда составлялось, и изобразить результаты, к которым должна была привести такая их разнохарактерность. Я подошел к моменту, когда любовь к равенству могла проявиться беспрепятственно и с поднятым забралом. В просвещенные эпохи литературой, науками и искусствами занимаются люди, большинство которых принадлежит по своим личным достоинствам к наиболее высокому кругу, но связано по рождению и состоянию с самыми низкими слоями гражданского общества. Тайный инстинкт побуждает их стремиться к расширению принадлежащих им преимуществ до уровня тех прав, которых они лишены, если не выше. Кроме того, их цель заключается в достижении известности. Для этого надо прежде всего понравиться и заинтересовать, что достигается всего вернее лестью господствующим вкусам и преобладающим взглядам, которые укрепляются таким потворством. Нравы и взгляды устремлялись тогда к равенству, и эти люди стали его апостолами. В те времена, когда не существовало другого богатства, кроме земельного, а оно находилось в руках дворянства, промышленным же трудом и торговлей занимались люди низшего происхождения, дворяне их презирали; а так как, презирая их когда-то, они считали своим правом и даже обязанностью презирать их постоянно (даже вступая с ними в родство, что представляло оскорбительную непоследовательность), то тем самым они раздражали самолюбие людей низкого происхождения, которые понимали, что нельзя презирать их занятия, не презирая их самих. Среди обломков своих старинных прав дворянство сохранило некоторые привилегии, представлявшие в основе лишь вознаграждение за обязанности, которые оно когда-то несло, но от которых освободилось. Так как основ этих привилегий больше не существовало, то они казались несправедливыми, но не это делало их ненавистными. Прежде всего по своей форме, а не по распределению, налоги устанавливали такие различия, в которых плебейский класс видел не столько изъятие в пользу благородных, сколько оскорбление для себя. Эти чувства низшего сословия проистекали из сознания равенства и укрепляли его. Тот, кто не желает, чтобы с ним обращались как с низшим, претендует быть равным или во всяком случае стремится к этому. Я должен еще сказать, что та часть армии, которая была так неосторожно послана на помощь английским колониям, боровшимся со своей метрополией, прониклась в Новом Свете доктринами равенства. Она вернулась, преисполненная восхищения ими и, возможно, желания осуществить их во Франции. Роковым образом маршал Сегюр решил как раз в этот момент предоставить все офицерские места в армии одному дворянству. Множество памфлетов высказалось против распоряжения, закрывавшего всем не дворянам карьеру, которую Фабер, Шевер, Катина и другие подобные им плебеи прошли со славой, Так как бедному дворянству было запрещено занимать доходные должности, то считали нужным дать ему это удовлетворение. Лишь одна эта сторона вопроса привлекла к себе внимание. Но вся мера, явно заменявшая личные достоинства рождением как раз в той области, в которой личные качества играют наибольшую роль, оскорбляла как разум, так и общественное мнение. Для вознаграждения дворян за потерю преимуществ, существование которых плебейский класс считал уже пережитком, ему причиняли несправедливость и наносили обиду. Солдат, уже восстановленных против существующей системы, окончательно отталкивали введением иностранной дисциплины, подвергавшей их такому обращению, которое во Франции всегда(28) считалось за тяжелое оскорбление. Могло казаться, что затаенная цель сводилась к тому, чтобы в момент величайшей опасности наших храбрых солдат не оказалось на посту, что действительно и произошло. Таким образом, все было во вред благородным: то, что у них отняли, то, что им оставили и что хотели им дать, бедность одной их части, богатство другой, пороки и даже самые добродетели. Но все это, о чем я ясно сказал, говоря о втором министерстве Неккера, являлось в такой же степени результатом действий правительства, как и общего хода событий. Это отнюдь не было делом низших классов, которые лишь извлекали из них выгоду. Можно сказать, что равенство шло им навстречу. Для противодействия ему требовалось, чтобы масса людей обладала такой умеренностью и таким даром предусмотрительности, к которым едва способны лишь некоторые особо одаренные лица. Равенство обоих классов, уже введенное новыми нравами и общественными воззрениями, неизбежно должно было быть установлено законами, как только представился бы к этому случай. Тотчас после открытия Генеральных штатов представители третьего сословия начали нападение на два других. Его главными вождями были люди, которые, не принадлежа к третьему сословию, были брошены в его ряды обидами оскорбленного честолюбия или желанием открыть себе при помощи популярности дорогу к богатству. Возможно, что их не трудно было бы подчинить должному руководству, но потребность в этом ощутили лишь тогда, когда это не могло уже ни к чему повести. Всякий призванный войти в какую-либо корпорацию должен подвергнуть проверке права, в силу которых он сделался ее членом, и основания, по которым он в нее вошел. Но перед лицом кого должен он доказывать свои права? Очевидно, перед теми, кто заинтересован исключительно в том, чтобы никто не проник в это собрание на основании вымышленных или недостаточных прав, то есть только перед самой корпорацией, если она уже образована, а если нет, то перед большинством тех, кто призван в нее войти. Так требует разум, и политика всех народов во все время следовала этому правилу. Между тем представители третьего сословия считали, что члены других сословий должны узаконить свои полномочия перед тремя сословиями и должны вследствие этого собраться в одном помещении, иначе говоря, что проверка полномочий должна происходить совместно. Как только такое притязание было бы допущено, представители третьего сословия сказали бы представителям двух других: признав следствие, вы неизбежно признали и самый принцип; подобная проверка полномочий предполагает, что представители всех трех сословий образуют одно собрание; единое собрание допускает лишь общее обсуждение и индивидуальное голосование; так как представители всех трех сословий образуют одно собрание, то сословий больше нет, ибо сословия могут существовать лишь в виде отдельных и разделенных корпораций; там, где не существует сословий, должны прекратиться права и привилегии, образующие их. Этого хотели достичь представители третьего сословия, но, не дерзая идти к этому открыто, они избрали окольный путь. Они продолжают настаивать на своих притязаниях, не предвидя всех их последствий и не отвергая их. В то время как продолжаются споры и обсуждение вопроса, представители третьего сословия объявляют себя Национальным собранием, придавая тем самым представителям двух других сословий характер как бы простых сборищ и предавая их народной ненависти, как чуждых нации и враждебных ей. Я входил в состав представителей духовного сословия. Мое мнение сводились к тому, что Генеральные штаты следует распустить и, исходя из существующего положения, созвать их заново, следуя одному из тех способов, которые я раньше указал. Я дал этот совет графу д'Артуа, который был тогда ко мне расположен и, если бы я смел воспользоваться употребленным им выражением, чувствовал ко мне дружбу. Мой совет был найден слишком рискованным. Это означало бы действовать силой, а вокруг короля не было никого, кто мог бы ее применить. Я имел ночью в Марли несколько свиданий, которые были все бесполезны и показали мне, что я не в состоянии ничего сделать и потому должен, не будучи безумным, позаботиться о самом себе. Так как состав Генеральных штатов явно сводил первые два сословия к нулю, то оставалось лишь одно разумное решение: уступать до того, как к этому принудят силой, и пока еще можно было поставить себе это в заслугу. Таким путем можно было воспрепятствовать крайностям и сразу принудить третье сословие к осторожности, сохранить влияние на общие прения и выиграть время, что часто означает выигрыш всего. Если еще оставался шанс восстановить свои позиции, то только таким путем. Поэтому я, не колеблясь, присоединился к числу тех, которые стояли за него. Борьба продолжается, король вмешивается в нее в качестве посредника и терпит неудачу. Он отдает приказания представителям третьего сословия, но его не слушают; для того чтобы они не могли собираться, запирают залу заседаний. Они переходят в здание для игры в мяч и клянутся не расходиться, не создав конституции, иначе говоря, не разрушив конституции королевства. Тогда начинают помышлять насильственно остановить движение, которое не умели предвидеть, но сила выпадает из рук желающих ее применить. В один день вся Франция— города, села, деревушки — оказывается под ружьем. На Бастилию производится нападение, она взята или сдана в течение двух часов, а ее комендант убит. Народной ярости приносятся еще и другие жертвы. Тогда все сдается, Генеральные штаты больше не существуют, они уступают место единому и всемогущему собранию, и принцип равенства освящается. Все, кто советовал применить силу, кто привел ее в движение, кто возглавлял ее, помышляют лишь о своей безопасности. Часть принцев покидает королевство, и начинается эмиграция. Граф д'Артуа первый подал к ней сигнал. Его отъезд причинил мне чрезвычайное огорчение, так как я любил его. Мне потребовались все силы разума, чтобы не последовать за ним и противостоять госпоже Кариньян, которая настаивала от его имени, чтобы я отправился вслед за ним в Турин. Было бы ошибочно выводить из моего отказа, что я осуждал эмигрантов. Почти всеми ими руководило благородное чувство и большое самоотвержение, но эмиграция основывалась на ошибочных предположениях. Лежали ли в ее основании страх перед опасностью, оскорбленное самолюбие, желание вернуть силой оружия потерянное или представление о долге, который должен быть выполнен,— со всех этих точек зрения мне представлялось, что она основывается на неправильном расчете. Необходимость эмигрировать могла возникнуть лишь в том случае, если бы Франция не давала вообще убежища от личной опасности или убежища достаточно верного, то есть в случае общей опасности для дворянства. Но такой опасности тогда не существовало; ее можно было предупредить, в то время как эмиграция прежде всего ее создала. Ни все дворянство в целом, ни его большинство не могло покинуть королевство. Возраст, пол, болезни, недостаток денег и другие не менее важные причины создавали для многих непреодолимое препятствие. Поэтому выехать могла лишь часть, и эта отсутствующая часть сословия неизбежно должна была скомпрометировать остальных. Подвергаясь подозрениям, а вскоре и ненависти, оставшиеся, которые не могли бежать, должны были из страха присоединиться к господствующему движению или сделаться его жертвой. Дух равенства грозил тогда дворянству лишь одной потерей, именно титулов и привилегий. Эмиграция не предохранила от этой потери, но, напротив, эмигрировавшие французские дворяне подвергались опасности потерпеть еще более значительную утрату, именно имущества. Как бы ни была тяжела для дворянства потеря титулов и привилегий, все же она была несравненно легче, чем положение, в которое его ставил простой секвестр доходов. Сама по себе горечь от потери титулов могла быть смягчена уверенностью, что это поправимо, и даже надеждой на их восстановление. В великой и древней монархии дух равенства во всей его непреклонности представляет неизбежно временную болезнь, тем менее бурную и тем более короткую, чем слабее оказываемое ему сопротивление. Но имущества уже потерянные не так легко восстановить, как титулы; они могут быть отчуждены, переходить столько раз из рук в руки, что становится невозможным вернуть их и даже опасно пытаться это сделать. Тогда потеря их превращается в непоправимую беду не только для дворянства, но и для всего государства, которое не в состоянии полностью восстановить свою естественную организацию, когда один из его основных элементов уже не существует. Но дворянство, представляя основной элемент монархии, отнюдь не является простым ее элементом, так как одно рождение без состояния или состояние без рождения ни в коем случае не создают, с политической точки зрения, полного дворянства. Нельзя было питать на этот счет иллюзии и верить, что все то что благородное сословие в целом при всей сохранившейся еще у него силе и влиянии не могло защитить и удержать, может быть возвращено одними лишь силами той части сословия, которая покинула отечество. Таким образом вся его надежда сводилась к помощи иностранцев. Но разве эта помощь не представляла никакой опасности? Можно ли было ее принять без недоверия, если бы она была предложена, или взывать к ней без колебания? Размер полученного оскорбления не мог оправдать тех, кто призывал в свою страну иностранные силы. Для оправдания таких действий требовалось бы сочетание многих обстоятельств; они должны были бы вызываться большой и очевидной пользой для страны, невозможностью действовать каким-либо другим способом, уверенностью в успехе и в том, что как существование страны, так и ее целостность и будущая независимость не потерпят никакого ущерба. Но какая же могла быть уверенность в том, что сделают иностранцы, оказавшись победителями? Какая могла быть уверенность, что они ими будут? Была ли уверенность в получении от них настоящей помощи, и следовало ли полагаться на простые надежды? Зачем забегать вперед в расчете на помощь, которая, может быть, не придет, в то время как даже при уверенности в ней разум требовал, чтобы все оставались спокойны и ждали ее? Если бы того требовала общественная польза, то, спокойно ожидая эту помощь, можно было достигнуть лучших результатов путем совместного действия с иностранцами; это увеличило бы шансы на успех и не скомпрометировало бы ничего; вместо этого, призывая их, компрометировали все — родных, друзей, богатство и вместе с тем трон, и даже не только трон, но и жизнь государя и его семьи, которая, очутившись на краю пропасти или уже в пропасти, могла бы воскликнуть, поняв причину своих бедствий: “Вот куда нас привела эмиграция!”. (*Я могу указать, что в прочтенных мною Воспоминаниях Клермон-Галлеранда имеется по этому поводу определенное мнение Людовика XVI. Они написаны рукой Клермона и находятся сейчас у маркиза Фонтенель. Клермон сообщает о возложенной на него королем миссии отправиться в Кобленц. Ему было поручено описать братьям короля личную опасность, которой подвергалась его жизнь благодаря эмиграции. Примечание Талейрана.) Таким образом, эмиграция, которая далеко не может рассматриваться как исполнение долга, нуждается в оправдании, а его могла дать лишь огромная личная опасность, которой нельзя было бы избегнуть иным путем. Если когда-либо установится другой порядок вещей, то эти взгляды получат, как я надеюсь, распространение среди тех, которым, может быть, еще придется бороться с революционным потоком. Итак, я решил не покидать Франции, пока меня к этому не принуждала личная опасность, не делать ничего, чтобы ее вызвать, не бороться с потоком, которому надо было дать пройти, но поставить себя в такое положение, чтобы иметь возможность спасать то, что еще можно было спасти, не мешать счастливому случаю и сохранить себя для него. Еще прежде чем представители третьего сословия одержали победу над двумя другими, они занялись составлением декларации прав в подражание составленной английскими колониями, когда они провозгласили свою независимость. Ею продолжали заниматься и после слияния сословий. Эта декларация была не чем иным, как теорией равенства, сводившейся к следующему: “Между людьми не существует никакого действительного различия и не должно быть никаких постоянных разделений, кроме тех, которые вызываются личными достоинствами. Различия, проистекающие из должностей, должны быть случайными и временными, чтобы право каждого претендовать на них не было иллюзорным. Народ является источником всякой политической власти, и он же ставит ей предел. Ему одному принадлежит суверенитет. То, что он желает, является законом, и ничто не может быть законом кроме того, что он желает. Если он не может сам осуществлять суверенитет, что бывает, когда он слишком многочислен для объединения в одном собрании, то он предоставляет его осуществление выбранным им представителям, которые могут делать все то, что мог бы делать он сам, и власть которых, вследствие этого, неограничена”. Несовместимость наследственной монархии с подобной теорией была очевидна. Тем не менее Национальное собрание добросовестно желало сохранить монархию и применить к ней республиканскую теорию, которая овладела всеми умами. Оно даже не подозревало о трудности их примирения, настолько невежество самонадеянно и страсти слепы. Путем самой дерзкой и самой наглой узурпации Национальное собрание присваивает себе право осуществления того суверенитета, который оно признает за народом; оно объявляет себя Учредительным собранием, то есть наделяет себя правом разрушать все то, что существует, и заменять его всем, чем ему будет угодно. Тогда же сложилась печальная уверенность, что если бы его захотели распустить, то оно бы не подчинилось, и что нет способов принудить его к послушанию. Спор с ним не привел бы ни к чему. Ограничиваясь оспариванием у него права, которое оно себе приписывало, нельзя было воспрепятствовать его действиям; протест против них был преисполнен опасностей, которые ничему не помешали бы. Но король мог ему сказать: “Вы возводите в принцип, что суверенитет принадлежит народу. Вы утверждаете, что он передал вам полноту его осуществления. У меня есть на этот счет сомнения, чтобы не сказать больше. Необходимо до перехода к дальнейшему разрешить этот вопрос. Я не притязаю на то, чтобы стать его судьей, вы также не можете им быть, но народ является судьей, которого вы не вправе отвергнуть: я его опрошу, и его ответ будет для нас законом”. Более чем вероятно, что при проявлении хотя бы небольшого умения в период, когда революционные идеи еще не заразили массу и когда то, что позже было названо революционными интересами, еще не существовало, народ отрекся бы от доктрин собрания и осудил его притязания. Тогда было бы очень легко его распустить. После такого осуждения этих доктрин и притязаний с ними было бы раз навсегда покончено, но если бы народ, напротив, одобрил их своим голосованием, то он должен был бы подвергнуться их последствиям и подвергнуться по справедливости, так как у него была возможность предохранить себя от них, но он этого не пожелал; на монарха не легла бы тогда никакая ответственность. Из обращения к народу вытекала, правда, необходимость признать его за верховного владыку, если бы он объявил себя таковым; может быть, скажут, что этого следовало избежать любой ценой. Но в тот период обращение к народу не вызвало бы такой необходимости; напротив, оно представляло тогда единственный шанс ее избегнуть, превратив ее из уже наличной и безусловной в условную и просто возможную. Собрание присваивало себе власть, в основание которой оно клало суверенитет народа и которая не могла иметь другого оправдания. Признание этой власти вело, таким образом, тотчас же к признанию суверенитета народа и к абсолютной необходимости такого признания. Избегнуть этого можно было, лишь побудив собрание к отказу от своих притязаний, распустив его (два одинаково неисполнимых условия) или же призвав народ к голосованию против него, для чего надо было взять его в судьи. Тогда он либо осуществил бы, как мне кажется, возложенные на него надежды, либо же обманул бы их. В первом случае он пресек бы зло в момент его возникновения и обрек бы революцию на неудачу, во втором он сделал бы неизбежным то, что могло быть избегнуто только при его помощи, а это не увеличило бы зла, но лишь обнаружило бы его размеры. Отсутствие иллюзий относительно природы этого зла было бы даже полезно; была бы оставлена мысль победить мерами, способными лишь вызвать бедствие. Все почувствовали бы, что прежде, чем движение не пройдет всех стадий своего развития, нельзя рассчитывать ни на какие внутренние лекарства; поняли бы, насколько оно заразительно, и Европа не почила бы, как это случилось в действительности, в ложном и гибельном сознании своей безопасности. Таким образом, даже в самом худшем случае обращение к народу было бы весьма полезным шагом, не представляющим никаких неудобств. Почему же его не сделали? Может быть, вследствие предубеждений или страстей, так как предубеждения и страсти владели не только одною из борющихся сторон; может быть, потому, что такая мысль не явилась никому из лиц, входивших тогда в королевский совет. После нескольких попыток применения силы их оставили почти тотчас же, как они были задуманы. Начали действовать исключительно интригой и стали пытаться разрушить власть, которой позволили приобрести такую силу, что ее уже нельзя было сдерживать или даже направлять столь слабым орудием. Национальное собрание было таким образом предоставлено более или менее самому себе. Среди волновавших его страстей оно быстро потеряло из виду все принципы, лежащие в основе общества. Оно забыло, что гражданское общество не может существовать без определенной организации. Зачарованное химерическими идеями равенства и суверенитета народа, собрание совершило тысячи ошибок. Короля наделили званием первого представителя и уполномоченного народа и главы исполнительной власти, то есть такими полномочиями, которые ему не принадлежали и из которых ни одно не определяло функций, присущих ему в качестве монарха. Право созывать, отсрочивать и распускать Законодательное собрание было у него отнято. Это собрание, ставшее уже властью, было сделано постоянным и должно было в определенные сроки выбираться заново. Оно должно было состоять лишь из одной палаты. Каждый совершеннолетний француз, не служащий по найму и не приговоренный к уголовным или к позорящим наказаниям, имел право быть выбранным или выбирать, если он уплачивал пятьдесят франков или три франка прямых налогов. Выборы должны были происходить при полном смешении всех профессий. Избрание епископов, судей и администрации было передано избирательным собраниям. Король мог лишь временно отстранять представителей администрации. Право отрешения от должностей было передано тем же собраниям. Судьи назначались лишь на срок, Королю оставалась лишь инициатива мира или войны, но право формально объявлять войну или утверждать мир было предоставлено законодательной власти. В армии ввели такую систему прохождения чинов, которая лишала короля двух третей его права назначения. Король мог отвергать предложения Законодательного собрания, но с тем ограничением, что проекты, последовательно принятые тремя Законодательными собраниями, превращались в закон, несмотря на отказ короля в их утверждении. Таков был основной закон, навязанный собранием политическому и гражданскому обществу во Франции; он сохранил лишь пустой призрак монархии. Те, кто горячее других стремились к разрушению монархии, заметили, наконец, сами, что зашли слишком далеко, и попытались повернуть назад, но при этом они только утратили свою популярность. Поток, созданный невежеством и страстями, был так бурен, что его было невозможно остановить. Кто лучше предчувствовал связанные с ним опустошения, был вынужден ограничиться пассивной ролью, поскольку это допускалось осторожностью. Я усвоил в общих чертах именно такое поведение. Тем не менее я счел нужным выступить по нескольким вопросам, относящимся к государственным финансам. Я возражал против выпуска ассигнаций и против понижения процентов по государственному долгу. Я установил довольно хорошо разработанные принципы, на которых, по моему мнению, должен был быть построен государственный банк. Я предложил декретировать единообразие мер и весов и взял на себя доклад о народном образовании от имени комитета по выработке конституции. Для выполнения этой большой работы я обращался за указаниями к самым образованным лицам и самым видным ученым той эпохи, в которую жили Лагранж, Лавуазье, Лаплас, Монж, Кондорсе, Вик д'Азир, Лагарп, и они все помогли мне. Я должен упомянуть о них, так как эта работа приобрела некоторую известность. Возникло одно обстоятельство, при котором я счел нужным выступить, несмотря на всю свою неохоту. Меня побудили к этому следующие доводы. Учредительное собрание претендовало на то, чтобы регулировать самостоятельно одними лишь гражданскими законами все то, что до того регулировалось совместно духовными и светскими властями при помощи как канонических, так и гражданских законов. Оно составило для духовенства особую конституцию(29) и потребовало от всех исправляющих свою должность церковнослужителей принесения ей присяги под угрозой объявления неподчинившихся отрешенными от должностей. Почти все епископы отказались присягнуть; их кафедры были объявлены вакантными, и избирательные собрания назначили им заместителей. Новоизбранные были склонны отказаться от утверждения их римским престолом, но им невозможно было обойтись без посвящения на епископство, которое могло быть совершено лишь теми, кто носил этот сан. Если бы не нашлось никого для посвящения в епископский сан, то следовало бы сильно опасаться даже не упразднения культа, как это случилось несколько лет спустя, а иного. Меня сильнее пугала эта другая опасность, потому что она могла стать более длительной. Учредительное собрание могло при помощи своих доктрин толкнуть страну к пресвитерианству, которое более соответствовало господствовавшим тогда взглядам, и Франция могла отпасть от католичества, иерархия и формы которого гармонируют с монархической системой. Поэтому я воспользовался своим саном для посвящения одного из вновь избранных епископов, который в свою очередь посвятил других. Исполнив это, я отказался от епископства Отенского и помышлял лишь об удалении от первого пройденного мною жизненного поприща. Я отдал себя во власть событий и мирился со всем, лишь бы только оставаться французом. Революция предвещала народу новые судьбы; я следовал за ее ходом и за ее превратностями. Я отдал ей в дар все свои способности, решив служить своей стране ради нее самой, и возложил все свои надежды на конституционные принципы, которые казались так близки к осуществлению. Этим объясняется, почему и как я несколько раз брал на себя государственные дела, оставлял их и снова возвращался к ним, а также роль, которую я в них играл. Примечания: (1) Эпохой регентства (1715—1723) называется период со смерти Людовика XIV до смерти регента, племянника покойного короля, герцога Филиппа Орлеанского. Парламент, стремясь к усилению своего влияния, нарушил завещание Людовика XIV, устанавливавшее при регенте совет, и позволил ему править единолично. Эпоха регентства ознаменовалась огромным финансовым крахом. Опустошение государственной казны побудило правительство пойти навстречу предложению шотландского финансиста Джона Лоу и дать ему в 1716 г. разрешение на учреждение банка с правом выпуска билетов. Быстрый рост выпусков, сопровождавшийся спекуляцией фондами, завершился банкротством. Быт эпохи регентства ярко освещен в мемуарах Сен-Симона. (2) Конституционная хартия —основной закон, “октроированный” Людовиком XVIII 4 июня 1814 г., по которому законодательная власть делилась между пэрами, назначаемыми королем и передающими свое достоинство по наследству, и выборными депутатами, для которых устанавливался имущественный ценз. (3) Колледж Гаркура был основан в 1280г. Раулем Гаркуром, каноником одной из парижских церквей. Впоследствии служил для подготовки богословов. Во время революции превращен в тюрьму, а после реставрации восстановлен в качестве лицея св. Людовика. (4) Коадьютором архиепископа называется во Франции прелат, помогающий архиепископу в исполнении его обязанностей. В описываемое время коадъютором архиепископа реймского был Александр Талейран-Перигор (см. указатель). (5) Конгрегация св. Сульпиция ставила себе задачей устройство семинарий для духовенства. Парижская ее семинария была ликвидирована в 1906 г. с уничтожением во Франции всех духовных конгрегаций. (6) Талейран ничего не пишет о своем рукоположении в священство. Его друг Шуазель-Гуфье, посетивший его накануне того дня, сообщает, что нашел его в отчаянии. На попытки Шуазеля убедить его отказаться от церемонии, он воскликнул: “Слишком поздно, теперь нельзя отступать”. (7) Церемония коронования Людовика XVI происходила 11 июня 1775 г. (8) Собрания духовенства во Франции при старом порядке ведут свое начало с XVI века. Они делились на частные, т. е. собрания духовенства одного епископства, провинциальные — одной провинции, и общие — для всего королевства. На этих собраниях обсуждались вопросы административно-хозяйственные и финансовые, а также вопросы взаимоотношения церкви и короны. Последнее общее собрание духовенства 1788 г. обмануло надежды правительства, высказавшись за созыв Генеральных штатов. (9) Архиепископ нарбонский, о котором здесь идет речь,—Артур Диллон (см. указатель). (10) Счетная палата—судебная палата, решавшая в последней инстанции все дела, связанные с финансовыми вопросами и расчетами. (11) Генеральными штатами назывались политические собрания представителей трех сословий, или штатов, при старом порядке, именно духовенства, дворянства и третьего сословия. Их называли генеральными, так как они объединяли депутатов со всего королевства. Наряду с ними существовали еще провинциальные штаты. Первое собрание Генеральных штатов относится к 1302 г., когда король Филипп Красивый созвал их впервые, ища у них поддержки в своей борьбе с папой. С 1614 г. до последнего созыва в 1789 г. Генеральные штаты не собирались ни разу. (12) Провинциальные собрания были созданы при Людовике XVI в качестве органов местного управления. Одна из их основных функций заключалась в раскладке податей. Они составлялись из представителей трех сословий и собирались на один месяц каждые два года. Половина их членов назначалась королем и избирала остальных. Провинциальные собрания не следует смешивать с провинциальными штатами, существовавшими со средних веков в некоторых, но далеко не во всех провинциях. (13) Промотор—духовное лицо при церковных учреждениях, например собраниях духовенства и епархиальных учреждениях, наблюдавшее за соблюдением привилегий духовенства и за сохранением формального порядка. (14) Генеральные агенты духовенства, которых было два, представляли при правительстве интересы духовенства и наблюдали за соблюдением церковных привилегий. Они избирались на пять лет собранием духовенства. (15) Сорбонна—сначала богословская школа и приют для бедных студентов, затем богословский факультет парижского университета. Основана в 1253 г. Робертом Сорбоном, духовником Людовика Святого. Как богословская школа упразднена в 1790 г. В 1808 г. ее здания переданы декретом Наполеона в распоряжение парижского университета. (16) Талейран был в молодости известен под именем аббата Перигора. (17) 26 сентября 1786 г. был подписан невыгодный для французской промышленной буржуазии торговый договор между Францией и Англией, утверждавший принцип свободного торгового обмена между обеими странами и составленный под сильным влиянием учения физиократов. За этим договором последовали до 1787 г торговые договоры с Северо-Американскими Соединенными Штатами, Швецией, Испанией и Россией. (18) Под миром 1763 г. Талейран подразумевает Парижский договор, завершивший Семилетнюю войну, которая окончилась для Франции потерей Канады и некоторых владений в Индии. (19) Утрехтский договор 1713 г. закончил войну “за испанское наследство”, начавшуюся в 1701 г., когда после смерти последнего испанского Габсбурга, Карла II, Людовик XIV заявил притязание на Испанию от имени своего внука. Против Франции объединились Англия, Голландия, большая часть мелких государств Германской империи, Австрия, Савойя и Португалия. По Утрехтскому миру внук Людовика XIV был признан королем Испании под именем Филиппа V, с условием отказа от права наследования французской короны. Вскоре затем к нему перешел и Неаполь, и он положил начало династии испанских и неаполитанских Бурбонов. Для компенсирования этих уступок, сделанных Франции, Англия получила крепость Гибралтар и владения в Северной Америке по обе стороны принадлежавшей Франции Канады, что положило начало преобладанию Англии в Средиземном море и ее господству в Северной Америке. (20) Договор Метуена — союзный и торговый договор между Англией и Португалией, заключенный в 1703 г., по которому Англии предоставлялось монопольное право ввоза в Португалию. Договор называется по имени заключившего его английского посла лорда Метуена. (21) Фронда — противоправительственная смута, продолжавшаяся с 1648 по 1653 г., после смерти Людовика XIII, в малолетство Людовика XIV. Она была поднята феодальной знатью, желавшей ограничить королевскую власть в интересах олигархии, и судебной аристократией в лице старинных судебных учреждений — парламентов. Последние требовали, чтобы подати налагались лишь с их согласия и чтобы никто не удерживался под арестом более суток, не будучи допрошен и передан законному судье. В этом требовании сказалось влияние английской революции. Правительство разбило недовольных поодиночке, сломило сеньоров, во главе которых стоял принц Конде, и открыло путь неограниченной монархии. Движение получило название от детской игры в пращу, именовавшейся фрондой, так как первоначально правительство не придавало ему серьезного значения. (22) Декларация о независимости Северо-Американских Соединенных Штатов относится к 4 июля 1776г. Французское правительство признало новую республику и подписало с ней союзный договор в феврале 1778 г. Разрыв с Англией произошел 17 июня того же года. (23) Собрания нотаблей, т. е. именитых граждан, — чрезвычайные собрания представителей дворянства, духовенства и крупной буржуазии, созываемые именными приглашениями короля при старом порядке во Франции. Они позволили королю обходиться без Генеральных штатов, в то же время формально не нарушая традиции совещания с представителями трех сословий. Наиболее известно предреволюционное собрание нотаблей 1787 г., созванное для разрешения финансовых затруднений, и собрание 1788 г., подготовившее созыв Генеральных штатов. (24) Парламенты — высшие судебные учреждения в дореволюционной Франции, обладавшие важными политическими правами. Старейший из них, парижский, создался из королевской курии, в состав которой входили личные вассалы короля, высшие придворные чины и ближайшие королевские советники. В XV и XVI веках он начал играть политическую роль, в XVII веке пытался сохранить свое положение путем борьбы с Мазарини и участием во Фронде. Тогда оппозиция парижского парламента была сломлена. Но на протяжении всего XVIII века продолжалась его борьба с королевской властью. В 1788 г. парижский парламент потребовал созыва Генеральных штатов. Провинциальные парламенты, в числе тринадцати, создавались с начала XIV века до третьей четверти XVIII века, по мере роста французской территории. Все они были уничтожены 7 сентября 1791 г. (25) Monsieur — титул старшего из братьев французского короля. Здесь он относится к графу Прованскому, будущему Людовику XVIII. (26) Указанная глава о герцоге Орлеанском перенесена в настоящем издании по основаниям, приводимым в примечании 1 к главе VIII, в самый конец “Мемуаров”. (27) В 1785 г. в Голландии разразилась буржуазная революция, ограничившая власть штатгальтера (правителя), принца Вильгельма Оранского. Ему оказали помощь Англия и Пруссия. Франция, к которой обратились за содействием Штаты, не решилась вмешаться, голландцы были раздавлены пруссаками, полнота власти штатгальтера была восстановлена, Голландия была вынуждена заключить союзные договоры с Англией и Пруссией и обязаться соблюдать прежнюю конституцию, что наносило удар интересам Франции. (28) Генерал-лейтенант граф де Сен-Жермен, назначенный в 1776 г. военным министром, пытался ввести во французских войсках телесные наказания для солдат, но встретил сильное противодействие. (29) Гражданское устройство духовенства, декретированное Учредительным собранием в 1790 г., сводилось в основном к перепланированию епархий, с тем чтобы они соответствовали общему административному делению Франции, и к избранию священников и епископов самими верующими. Оно было осложнено требованием, чтобы духовенство присягнуло нации, что разбило его на два лагеря: с одной стороны, давших присягу и подчинившихся, и с другой — не давших ее и не признавших нового порядка. При заключении Наполеоном конкордата с папой гражданское устройство духовенства, введенное Учредительным собранием, было уничтожено. Оглавление |
|