В.Ф.
Асмус
ИЗБРАННЫЕ
ФИЛОСОФСКИЕ
ТРУДЫ
том I
ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
1969
ПРЕДИСЛОВИЕ
Выпуская
в
издательстве
Московского
университета
два тома
своих
избранных
работ, считаю
необходимым
сказать
несколько слов
об их составе
и о принципе
их отбора.
Моя первая
печатная
работа вышла
в 1924 году в
Киеве, где
началась моя
философская
профессорская
и
литературная
деятельность.
Еще в
студенческие
годы мой
научный интерес
привлекли
вопросы
истории
философии,
логики и
эстетики. С
тех пор и до
настоящего
времени я
продолжал
работать по вопросам
этих наук и
как
профессор и
как философский
писатель. В
области
истории философии
я занимался
вопросами
истории античной
философии
(досократики,
атомистический
материализм,
Платон,
Аристотель,
римский эпикуреизм),
вопросами
истории
материализма
и идеализма
XVIIXVIII веков (Фр.
Бэкон,
Декарт, Спиноза,
немецкий
классический
идеализм),
вопросами
истории
русской
философии (П.
Я. Чаадаев, М. Ю.
Лермонтов, Л.
Н. Толстой, Н. Г.
Чернышевский,
философы
русского символизма),
вопросами
теории и
истории эстетики
зарубежной и
русской
(Платон,
Аристотель,
Винкельман,
Лессинг,
Дидро, 'Кант,
Шиллер; А. С.
Пушкин, А. С.
Грибоедов, Л.
Н. Толстой,
символисты,
С. К.
Станиславский,
А. Н. Скрябин).
Принципиальные
вопросы
теории
эстетики
освещались
мною не
только в этих
историко-эстетических
работах, но и
в специальных
теоретических
статьях.
Назову из них
Предисловие
к тому статей
А. А. Адамяна об
искусстве,
статьи «В
защиту
вымысла», «Чтение
как труд и
творчество» и
др. Параллельно
я написал ряд
работ для
энциклопедических
изданий
(статьи в
«Большой
советской энциклопедии»,
«Философской
энциклопедии»,
в «Литературной
энциклопедии»
и др.).
3
Яри
большом
объеме
написанного
и изданного
(более 250 работ)
предоставленный
мне объем двухтомника
избранных
сочинений
мог вместить
сравнительно
небольшую
часть того, что
могло быть
предложено
читателю в
виде собрания
избранных
работ.
Необходимо
было произвести
жесткий
отбор.
Обдумывая
принцип
этого отбора,
я пришел к
заключению,
что было бы нецелесообразно
включить в
двухтомник мои
книги,
вышедшие в
свет в
течение
последнего
десятилетия
(1956 1966). Книги эти
«Декарт» (1956), «Немецкая
эстетика XVIII
века» (1963),
«Проблема
интуиции в
(философии и
математике» (1963
и 2-е издание 1965),
«История
античной
философии» (1965).
Насколько я
могу судить в
этом вопросе,
по своему
теоретическому
уровню
работы эти
могли
рассматриваться
как
достойные
включения в
«Избранное».
Однако объем
их так велик,
что поглотил
бы большую
часть всего
издания. С
другой
стороны, я
полагал, что
все поздние
мои книги,
несмотря на
то, что они
распроданы,
все же
относительно
доступны
читателю, так
как могут
быть легко
найдены в
библиотеках
специальных
и даже общих.
Другое дело
работы,
вышедшие в
конце 20-х
годов и в 3050-х
годах.
«Очерки
истории
диалектики в
новой
философии»,
«Маркс и
буржуазный
историзм» и
др. Все они
давно стали
библиографической
редкостью (и
не всегда
имеются в
библиотеках).
А между тем
из общения со
студентами, читателями,
научными
работниками
мне было
известно, что
книги эти
читаются, что
ими
пользуются
читатели
различных
категорий.
Поэтому я
решил, что в
предлагаемый
двухтомник
должны быть
включены
только книги,
вышедшие до
года
появления
«Декарта» (1956). Но и
из ранних
работ
некоторые
должны были
оказаться за
пределами
«Избранного».
(Среди моих
сочинений
имеются две
книги и несколько
статей,
посвященных
различным
сторонам и
аспектам
философии
Канта. Книги
эти «Диалектика
Канта» (М., 1929 и 2-е
издание. М., 1930),
«Философия
Иммануила
Канта» (М., 1955).
Статьи
«Проблема
целесообразности
в учении
Канта об
органической
природе и в
эстетике»
(Сочинения
Канта, т. 5. М., 1966),
«Этика Канта»
(Сочинения
Канта, т. 4, ч. I. M., 1965) и
др. Все они
могли бы быть
включены в
двухтомник.
Но так как
мне стало
известно, что
имеется
возможность
выпустить
отдельное
издание
целого тома
моих работ,
относящихся
к Канту, то я
счел целесообразным
не включать в
настоящий
двухтомник
никаких
работ о
Канте,
сосредоточив
их все в
специальном
кантовском
томе.
Исключение
указанных
работ
поздних, а
также посвященных
Канту
определило
круг
оставшихся сочинений,
из которых
мог быть
произведен выбор.
Я решил, что в
«Избранном»
должны быть представлены
все главные
«линии» моей
философской
деятельности:
и история
зарубежной
философии, и
история
русской
философии, и логика,
и эстетика.
Некоторые из
нихстатьи «двойного»
жанра
принадлежат
одновременно
и к истории
философии, и
к истории
эстетики
(«Гете в
«Разговорах»
Эккермана»,
«Круг идей Лермонтова»,
«Мировоззрение
Л. Н. Толстого»,
«Философия и
эстетика
русского символизма»).
Эта их
принадлежность
к истории философии
оправдывает
включение их
в на-
4
стоящее
издание,
охватывающее
мои избранные
философские
сочинения.
Отделить в
них содержание
«эстетическое»
от
«философского»
совершенно
невозможно и
нецелесообразно.
Тот же
вопрос о
хронологических
«зонах» выбора
возник
передо мной
при решении
вопроса о
составе
включаемых в
двухтомник
логических
работ. Я
предпочел не
только не
перепечатывать
полностью
моей книги
«Логика» (1947), но
не давать и
выдержек из
нее. Вместо
этого я
остановил
свой выбор на
моей
вступительной
статье к
советскому
изданию
книги Шарля
Серрюса
(«Опыт
исследования
значения логики».
М.. 1948) и на
нескольких
статьях о
понятии,
аналогии,
гипотезе и
доказательстве,
которые я
написал для
коллективного
труда
«Логика»,
вышедшего в
Москве в 1956
году. При
этом я
исходил из
следующих
соображений. Моя
«Логика» 1947 года
была, в
сущности,
первой работой
по
формальной
логике,
вышедшей
после
долгого
периода, в
течение
которого у
нас вообще не
выходили
никакие труды
по
формальной
логике. Это
была эпоха нигилистического
отрицания
формальной логики,
недооценки
ее
теоретического
и педагогического
значения.
Когда эта
эпоха миновала
и мною было
получено
предложение написать
работу,
излагающую
основные
учения классической
или
традиционной
логики, я
решил ограничить
рамки этой
работы
традиционной
теорией, не
вводя в нее
дополнений
из логики
математической
и
переработок,
которые были
внесены в
учение о
выводе и о
доказательстве
на основе
успехов
математической
логики. Может
быть, решение
это было
правильно, и
для целей
первоначальной
информации, а
также для
восстановления
традиции,
прервавшейся
с временным
из'гнанием
формальной
логики,
характер
обработки и
изложения
логики в книге
1947 года был
целесообразным.
Но повторять
эту книгу еще
раз я не мог. Я
был слишком
глубоко
убежден в
том, что в
наши дни
может быть признана
удовлетворительной
в научном отношении
только
логика,
разработанная
на уровне
современных
достижений
математической
логики.
Поэтому я
отказался в 1949
году от предложенного
мне второго
издания
«Логики» 1947 года,
а в настоящее
время
отказался от
включения ее
в двухтомник
моих
избранных сочинений.
При
подготовке к
печати этого
двухтомника
мне пришлось
решать еще
один важный
вопрос:
следовало ли
перепечатывать
принятые в
двухтомник
работы без
изменений, в
том виде, в
каком они
некогда
явились в
свет, или же
печатать их с
необходимыми
исправлениями
и
усовершенствованиями?
В пользу
каждого
решения
можно было
выдвинуть некоторые
доводы. Уже
наперед
можно было предположить,
что за
два-три
десятка лет,
протекших со
дня
опубликования
моих работ, в
них
обнаружились
в том числе и
для меня
всякого рода
ошибки,
пробелы,
недостатки.
Кое-что в них
устарело.
Меньше всего
приходилось
думать об
устранении
недостатков,
обусловленных
конъюнктурными
соображениями,
которыми я,
вообще
говоря,
никогда не руководствовался.
Но и за этими
исключениями
исправлено
могло быть
многое.
5
Именно
поэтому я
принял
решение
ничего не переделывать,
не
исправлять и
не
подмалевывать.
Ведь если
всерьез
взяться за
исправление
работ, составивших
книгу такого
огромного
объема, то на
процесс
переделки и
переписывания
ушло бы не
малое время.
Пусть уж
лучше читателю
попадет в
руки
собрание
сочинений, на
которых
лежит печать
времени,
когда они
писались, и
живой
личности
автора со
всеми его несомненными
недостатками
и возможными
достоинствами
(если такие
существуют).
В. Асмус
КРУГ
ИДЕЙ
ЛЕРМОНТОВА
I
Лермонтов
один из
самых
трудных для
изучения
писателей. Ни
простота и
энергия
выражения,
ему присущие,
ни
афористическая
чеканность
его мысли, ни
резкая
определенность
его
характера не
могут
устранить
препятствий,
с которыми
встречается
всякий, кто
ставит перед
собой задачу
очертить
круг идей
Лермонтова, характеризовать
его
мировоззрение.
Лермонтов
поэт
глубокой,
напряженной
и страстной
мысли, «Дума»
не только
название
одного из
замечательнейших
его
стихотворений,
но вместе наименование
одного из
характернейших
жанров
лермонтовской
лирики,
насквозь медитативной.
Но в то же
время
Лермонтов
умер в возрасте,
когда даже у
людей, все
призвание
которых в
философском
мышлении,
контуры
самой мысли,
состав
определяющих
лицо
мыслителя идей
еще только
начинают
вырисовываться.
Но этого
мало.
Философская
мысль
выступает у
Лермонтова
не в чекане
отвлеченных
понятий, но
как грань
поэтического
изображения
мира,
поэтического
выражения
чувств и поэтического
действия на
мысль,
чувство и поведение.
Своеобразие
идейного
развития Лермонтова
есть в
значительной
мере своеобразие
путей, по
которым
русские
писатели
первой половины
прошлого
века
приходили к
философским
проблемам.
Среди
крупных
русских писателей,
выступивших
в 20-х и 30-х годах XIX
века, лишь очень
немногие
получили
строгое и
систематическое
философское
образование.
Философская
одаренность
рано
пробудилась
в русском
обществе, но
не нашла
поддержки в
исторических
условиях
развития
русской государственности.
Правительство,
министерство
просвещения,
университетское
начальство
боялись
философской
мысли и подавляли
ее еще слабые
ростки.
При
таких
обстоятельствах
философское
образование
и
просвещение,
круг
философских
идей,
доступных
писателю,
входили в его
сознание и
становились
органической
частью его
духовного
мира не
столько
путем прямого,
обеспеченного
организацией
высшей школы
глубокого и
систематического
изучения
философии,
сколько
более
косвенными путями
через
журналистику
(поскольку в
ней находили
отражение
философские
веяния) и в
особенности
через
изучение
поэтов, драматургов
и прозаиков
Запада,
творчество
которых оказалось
насыщенным
философскими,
моральными,
психологическими
и
эстетическими
идеями. В
этом
направлении
влияли
Шиллер, Гете,
Байрон.
Результатом
этого
исторически
сложившегося
положения
философии в
России было
крайнее
своеобразие
философского
развития рус-
7
ских
писателей.
Редкая
литература в
кругу литератур
мирового
значения
представляет
пример такой
тяги к
философскому
осознанию
жизни,
искусства,
творческого
труда, какой
характеризуется
именно
русская литература.
И в то же
время редкая
литература отмечена
в такой мере,
как русская,
своеобразием,
порой
причудливостью
путей
философского
развития
крупнейших
ее талантов.
Лермонтов
не
составляет
здесь
исключения.
Источники и
корни его
философской
рефлексии
перепутаны и
глубоко
погружены в
темную почву,
неисследованную,
да и вряд ли
доступную
окончательному
исследованию.
Огромная
потенциальная
философичность
Лермонтова,
поразившая
Белинского
мощь его духа
сочетаются в Лермонтове
не только с
неопределенностью
далеко не
установившейся
мысли, но
даже внушают
порой
впечатление
какого-то
горького
недоверия к
самому акту
отвлеченной
'философской
мысли.
В
«Фаталисте», в
одном из
выразительнейших
мест,
перекликающемся
с мыслями
«Думы», Лермонтов
осуждает
отвлеченную
мысль,
отождествляет
ее с
мечтательностью,
парализующей
силу и
постоянство
практической
воли:
«И много
других
подобных дум
проходило в
уме моем; я их
не удерживал,
потому что не
люблю
останавливаться
на
какой-нибудь
отвлеченной
мысли; и к
чему это
ведет?.. В
первой молодости
моей я был
мечтателем; я
любил ласкать
попеременно
то мрачные,
то радужные образы,
которые
рисовало мне
беспокойное
и жадное
воображение.
Но что от
этого мне осталось?
одна
усталость,
как после
ночной битвы
с
привидением,
и смутное
воспоминание,
исполненное
сожалений. В
этой
напрасной борьбе
я истощил и
жар души и
постоянство
воли, необходимое
для
действительной
жизни; я вступил
в эту жизнь,
пережив ее
уже мысленно,
и мне стало
скушно и
гадко, как
тому, кто читает
дурное
подражание
давно ему
известной
книге» (всюду
разрядка моя.
В. A.) (l,V, 317).
Идея,
мысль
представляет
в глазах
Лермонтова
ценность не
сама по себе,
но как форма
и основание
изменяющего
человека и
жизнь действия.
Положение
это
краеугольное
для Лермонтова.
Тезис о
первенстве
воли и практического
разума,
обоснованный
в немецком
идеализме
(особенно у
Фихте-старшего)
путем
сложной и
трудной
диалектики, у
Лермонтова
выступает
как
органический
устой его
поэтического
мировоззрения.
Возможно, что
тезис этот
вошел в
сознание
Лермонтова
не без
посредства
Гете, который
сам разделял положение
Фихте о
примате
действования
(«вначале
было дел о»).
Но
каковы бы ни
были пути, на
которых
оформилась и
созрела
мысль
Лермонтова,
при всех условиях
поражает
сила, с какой
эта мысль властвует
над
сознанием
поэта. Мысль
этасамый
важный,
наиболее четко
сформулированный
и
продуманный
тезис его
философских
размышлений.
Естественность,
органичность,
непринужденность,
с какими
мысль эта
выступает у
Лермонтова, несколько
скрадывают,
стушевывают
ее принципиальный
характер. И
все же
формулы, в
какие отливается
эта мысль,
поражают
своей силой,
законченностью,
сконцентрированной
в ней потенциальной
философской
значительностью:
«...идеи-создания
органические...
их рождение дает
уже им форму,
и эта форма
есть
действие; тот,
в чьей голове
родилось
больше идей,
тот больше
других
действует; от
этого гений, прикованный
к
чиновническому
столу, должен
умереть или
сойти с ума,
точно так же,
как человек с
могучим
телосложением,
при сидячей
жизни и
скромном
поведении,
умирает от апоплексического
удара» (1, V, 271).
8
Нелюбовь
к
отвлеченной
мысли,
которая остается
только
отвлеченной,
не переходит
в жизненное
действие.
черта
глубоко
национальная,
характерная
для
Лермонтова
как мыслителя
и писателя
именно
русского.
B
развитии
этой мысли
поэт заходил
порою так
далеко, что
отвлеченное
познание
представлялось
ему не
столько как
условие
успешности и
плодотворности
действия,
сколько в
качестве отрицательной
силы,
парализующей
уверенность,
энергию,
безотчетную
безошибочность
практического
акта. В этом
смысле
изображается
обеспложивающее
воздействие
чрезмерно
отвлеченного
познания в
«Думе»:
Меж тем,
под бременем
познанья и
сомненья,
В
бездействии
состарится
оно *.
Мы
иссушили ум
наукою
бесплодной,
Тая
завистливо
от ближних и
друзей
Надежды
лучшие и
голос
благородный
Неверием
осмеянных
страстей. (1, II, 39)
Лермонтов
отнюдь не был
ненавистником
разума и
хулителем
познания. B
его
волюнтаризме
не сыскать и
следа того
алогизма,
неверия в
познавательную
мощь ума и
науки, которые
так
характерны
для
современных
Лермонтову
волюнтаристов
Запада. «...Ум и
душа,
показываясь
наружу, писал
Лермонтов,придают
чертам жизнь,
игру и заставляют
забыть их
недостатки...» (1,
V, 117). Он сетовал,
что в
современной
ему России
слишком мало
обществ, где
ценят ум:
«...таких
обществ у нас
в России мало,
в Петербурге
еще меньше,
вопреки тому,
чго его
называют
совершенно
европейским
городом и
владыкой
хорошего
тона» (1, V, 117). «Надо
полагать,
жаловался он
М. А.
Лопухиной,
что люди вовсе
не созданы
мыслить,
потому что
мысль сильная
и свободная
такая для них
редкость» (1, V, 512).
Натура
страстная и
волевая,
Лермонтов в
то же время
был того
убеждения,
что страсти,
при всем их
значении,
суть лишь
подготовительная
ступень к
развитию
идей, мысли,
познания,
самосознания.
«С т р а с т и,
писал он, не
что иное, как
идеи при
первом своем
развитии: они
принадлежность
юности
сердца, и
глупец тот,
кто думает
целую жизнь
ими
волноваться:
многие
спокойные
реки
начинаются
шумными
водопадами, а
ни одна не
скачет и не
пенится до
самого моря.
Но это
спокойствие
часто
признак
великой, хотя
-скрытой
силы; полнота
и глубина
чувств и
мыслей не
допускает бешеных
порывов:
душа, страдая
и наслаждаясь,
дает во всем
себе строгий
отчет и
убеждается в
том, что так
должно; она
знает, что
без гроз
постоянный
зной сердца
ее иссушит;
она
проникается
своей
собственной
жизнью,
лелеет и
наказывает
себя, как
любимого
ребенка.
Только в этом
высшем
состоянии самопознания
человек
может
оценить
правосудие
божие» (1, V, 271).
Лермонтов
знал по
собственному
опыту и ценил
раздвигающую
обычные
рамки
познания до
безмерности
пространства
и времени
силу мысли:
Как
часто силой
мысли в
краткий час
Я жил
века и жизнию
иной,
И о земле
позабывал... (1, I, 173)
Так,
мысль о
вечности
разрешает, по
свидетельству
Лермонтоза,
противоречия
и загадки,
которые для
непосредственного
опыта
чувства и страсти
остаются
неразрешимыми:
И мысль о
вечности, как
великан, Ум
человека
поражает
вдруг,
9
Когда
степей
безбрежный
океан
Синеет
пред глазами;
каждый звук
Гармонии
вселенной,
каждый час
Страданья
или радости
для нас
Становится
понятен, и
себе
Отчет мы
можем дать в
своей судьбе.
(1, I, 177)
Не мысль,
не познание,
не разум
отвергает Лермонтов,
но мысль,
оторванную
от действия,
познание, не
оплодотворяющее
жизнь, разум,
разобщенный
с волей,
холодный,
бездейственный.
Только в этом
смысле
следует
толковать
частые у
Лермонтова
сентенции
вроде известных
строк:
И
размышлением
холодным
Убил
последний
жизни цвет. (1, II, 90)
Или
самопризнания
вроде
печоринского:
«Из
жизненной
бури я вынес
только
несколько
идей и ни одного
чувства. Я
давно уж живу
не сердцем, а головою.
Я взвешиваю,
разбираю
свои собственные
страсти и
поступки с
строгим
любопытством,
но без
участия. Во
мне два
человека: один
живет в
полном
смысле этого
слова, другой
мыслит и
судит его...» (1, V, 298299).
Только
осуществленная
мысль, только
идея, претворившаяся
в дело,
представляют
значение в
глазах
Лермонтова. С
этим
взглядом тесно
связывается
понятие
Лермонтова о
совершенстве.
Ему был
вполне чужд
отвлеченно-трансцендентный
взгляд на
совершенство
как на идеал,
к которому
следует
стремиться,
но который в
то же время
заведомо
никогда не может
быть
осуществлен.
Только идея,
способная
стать
действительностью,
такова
мысль Лермонтова,
заслуживает
права быть
образцом или
нормой
совершенства.
Взгляд
этот не
только
глубок и
истинен
философски *,
но в то же
время по
существу
оптимистичен,
дышит верой в
человека, в
его силы, в
его реальные
способности
к
совершенствованию:
Когда б в
покорности
незнанья
Нас жить
создатель
осудил,
Неисполнимые
желанья
Он в нашу
душу б не
вложил,
Он не
позволил бы
стремиться
Ктому,
что не должно
свершиться,
Он не
позволил бы
искать
В себе и в
мире
совершенства,
Когда б
нам полного
блаженства
Не
должно вечно
было знать (1, I, 220)
Самое
стремление к
славе,
честолюбие
может быть
оправдано, по
Лермонтову,
если в основе
его лежит
стремление к
действительному
совершенству:
К чему
ищу так славы
я?
Известно,
в славе нет
блаженства,
Но хочет
все душа моя
Во всем
дойти до
совершенства.
Пронзая
будущего
мрак,
Она
бессильная
страдает
И в настоящем
все не так,
Как бы
хотелось ей,
встречает. (1,1, 302)
Той же
высокой
оценкой
направленного
к совершенствованию
действия
оправдывается
в глазах
Лермонтова
гордость, в
которой Лермонтова
привлекает
не надменная
кичливость,
не
превознесение
своих заслуг,
но великая
практическая
и
плодотворная
сила, способ-
10
ность
гордого
существа
дольше и
энергичнее
противостоять
всему, что
мешает его
действованию,
осуществлению
его планов и
задач:
Под
ношей бытия
не устает
И не
хладеет
гордая душа;
Судьба
ее так скоро
не убьет,
А лишь
взбунтует;
мщением дыша
Против
непобедимой,
много зла
Она
свершить
готова, хоть
могла
Составить
счастье
тысячи людей:
С такой
душой ты бог
или злодей... (1, I, 177)
В
художественной
объективации
деятельное и
потому
потенциально
плодотворное
качество
гордости
раскрыто в
характере
Печорина.
«Любившая раз
тебя, пишет
Печорину
Вера, не
может
смотреть без
некоторого
презрения на
прочих
мужчин, не
потому, чтоб
ты был лучше
их, о нет! но в
твоей
природе есть
что-то
особенное,
тебе одному
свойственное,
что-то гордое
и
таинственное;
в твоем
голосе, что
бы ты ни
говорил, есть
власть
непобедимая...
никто не
умеет лучше
пользоваться
своими
преимуществами,
и никто не может
быть так
истинно
несчастлив,
как ты, потому
что никто
столько не
старается уверить
себя в
противном» (1, V,
306307).
Отношением
к действию
определяется
значение,
какое для
Лермонтова
имеет воля.
Волюнтаризм
Лермонтова
далек от
какой бы то
ни было
мифологической
метафизики и
мистики в
духе
Шопенгауэра,
это лишь
убеждение в том,
что именно
воля есть
источник и
условие деятельности,
творчества,
начала
положительной,
равно как и
разрушительной
активности.
«И в самом
деле, что
может
противустоять
твердой воле
человека?
воля
заключает в
себе всю
душу, хотеть
значит
ненавидеть,
любить,
сожалеть,
радоваться,
жить, одним
словом; воля
есть
нравственная
сила каждого
существа,
свободное
стремление к
созданию или
разрушению
чего-нибудь,
отпечаток
божества,
творческая
власть,
которая из
ничего
созидает
чудеса... о
если б волю
можно было
разложить на
цифры и
выразить в
углах и градусах,
как
всемогущи и
всезнающи
были бы мы!..» (il, V, 83).
Твердое
намерение, по
Лермонтову,
«повелевает
природе и
случаю» (1, V, 25),
является
условием не
только
реальных
перемен,
производимых
деятельностью
человека, но,
в случае
успеха, и
самой оценки
его действий.
Задолго до
Достоевского
Лермонтов
наметил одну
из идей,
разработанных
автором
«Преступления
и наказания».
Моральная и
историческая
оценка
совершаемых
человеком
действий,
такова мысль
Лермонтова,
определяется
не столько
согласованностью
этих
действий с
отвлеченными
понятиями и
нормами
добра и зла,
сколько
способностью
человека
реально
свершить
задуманное, перешагнуть
через черту,
отделяющую в
обычном
представлении
добро от зла.
Только волевая
сила,
обеспечивающая
действительный
победоносный
переход
через эту
черту, только
действительный
успех
содеянного
дают право на
изменение
моральной
оценки, на
провозглашение
великим того,
что обычно
расценивается
и должно
расцениваться
как
злодейство
людьми
слабыми,
неспособными
нарушить
запрет,
одержать
победу над
тормозящими
действие,
размагничивающими
волю
принципами и
заповедями:
Поверь:
великое-земное
Различно
с мыслями
людей.
Сверши с
успехом дело
злое
Велик; не
удалось
злодей;
Среди
дружин
необозримых
Был чуть
не бог
Наполеон;
11
Разбитый
же в снегах
родимых
Безумцем
порицаем он...
(1,1, 67)
B кругу
представлений
и понятий,
определяющих
мировоззрение,
Лермонтов
ничто не ценит
так высоко,
как
представления,
усиливающие
в человеке
волю. Даже
заведомо
ложное
понятие о
действующих
в мире
законах
может быть
оправдано,
так думал
Лермонтов,
если только
понятие это
способствует
росту воли,
способности
действия.
В
«Фаталисте»
под углом
этого
взгляда
Печорин
рассматривает
астрологию:
«...Звезды
спокойно
сияли на
темноголубом
своде, и мне
стало смешно,
когда я
вспомнил, что
были некогда
люди
премудрые,
думавшие, что
светила
небесные
принимают
участие в
наших ничтожных
спорах за
клочок земли
или за какие-нибудь
вымышленные
права. И что ж?
эти лампады,
зажженные, по
их мнению,
только для того,
чтобы
освещать их
битвы и
торжества, горят
е прежним
блеском, а их
страсти и
надежды
давно угасли
вместе с
ними, как
огонек, зажженный
на краю леса
беспечным
странником!» (1, V,
316317).
До сих
пор рассуждение
Печорина
обычное
рассуждение
материалистически,
в духе
научных
понятий
мыслящего,
образованного
человека
нашего времени.
Но тотчас же
за этим
рассуждением
следует
неожиданное,
уже чисто
лермонтовское
заключение:
«Но зато,
продолжает
размышлять
Печорин,какую
силу воли
придавала им
уверенность,
что целое
небо, с
своими
бесчисленными
жителями, на
них смотрит с
участием,
хотя немым,
но
неизменным!..
А мы, их
жалкие
потомки, скитающиеся
по земле без
убеждений и
гордости, без
наслаждения
и страха,
кроме той
невольной
боязни,
сжимающей
сердце при
мысли о
неизбежном
конце, мы
неспособны более
к великим
жертвам ни
для блага
человечества,
ни даже для
собственного
нашего счастия,
потому что
знаем его
невозможность
и равнодушно
переходим от
сомнения к
сомнению, как
наши предки
бросались от
одного заблуждения
к другому, не
имея, как они,
ни надежды,
ни даже того
неопределенного,
хотя и сильного
наслаждения,
которое
встречает
душа во
всякой
борьбе с
людьми, или с
судьбою...» (1.V, 316317).
С таким
взглядом на
волю
Лермонтов
должен был
отвергнуть
как несовместимое
с
достоинством
человека
всякое
пассивно-созерцательное
отношение к жизни.
Даже
основанная
на познании
надежда представляется
ему
недостойной
активного,
стремящегося,
действующего
человека. «Зачем
же подавать
надежды?»
жалуется
Грушницкий
на княжну
Мери
Печорину.
«Зачем же ты
надеялся?отвечает
ему Печорин.
Желать и
добиваться
чего-нибудь
понимаю, а
кто ж
надеется?» (1.V.279).
Мысли
Лермонтова о
центральном
значении воли
не столько
теория или
психологическая
гипотеза,
сколько
попытка
самосознания
или
самопознания.
Лермонтов
действовал
так, как он
действовал,
не потому, что
у него была
известная
«теория» воли,
но наоборот:
«теория» эта
появилась у
Лермонтова потому,
что ему
свойственно
было жить и
действовать,
подчиняя
чувства и
мысли
волевому
началу.
«Воспитание
воли» для
Лермонтова не
тезис
отвлеченной
педагогики
или психологии,
но
поглощающее
большую
часть сил и времени
реальное
содержание
его жизни и деятельности.
Человек
должен быть
готов к действию.
Средством
этой
подготовки
могут быть только
воспитание и
упражнение
воли. Твердость
намерения и
решительность
действия
приходят не
как дар
судьбы. Они
добываются
тренировкой,
предполагают
длительную работу,
своего рода
эксперимент
над собственной
волей.
12
У
Лермонтова
экспериментирующая
работа над
воспитанием
воли
настолько
берет верх
над прочими
видами
самовоспитания,
что зачастую
приводит к
игнорированию
целей действия,
довольствуется
выбором
целей ничтожных
и
малодостойных.
Обычно это
испытание и
закаление
воли в узкой
сфере
отношений любви.
Мотивировка
этих,
зачастую
сомнительных
и малоценных,
упражненийчисто
волюнтаристическая.
Искусство
возбуждать к
себе любовь
есть, в
глазах
Лермонтова, высшая
форма
волевой
победы,
торжества человека
над человеком.
«...Возбуждать
к себе
чувство
любви, преданности
и страха не
есть ли
первый
признак и
величайшее
торжество
власти? Быть
для кого-нибудь
причиною
страданий и
радостей, не
имея на то
никакого
положительного
права, не самая
ли это
сладкая пища
нашей
гордости?..
Если б я
почитал себя
лучше, могущественнее
всех на
свете, я был
бы счастлив;
если б все
меня любили,
я в себе
нашел бы бесконечные
источники
любви» (1, V, 270271).
Самое зло, рассматриваемое
с этой точки
зрения, определяется
и даже
оправдывается
как условие и
форма
действования
и торжества
именно воли:
«Зло
порождает
зло; первое
страдание
дает понятие
о
удовольствии
мучить
другого; идея
зла не может
войти в
голову
человека без
того, чтоб он
не захотел
приложить ее
к действительности...»
(1, V, 270 271), «...есть
необъятное
наслаждение
в обладании
молодой, едва
распустившейся
души! Она как
цветок,
которого
лучший
аромат
испаряется
навстречу
первому лучу
солнца; его
надо сорвать
в эту минуту «,
подышав им
досыта, бросить
на дороге:
авось кто-нибудь
поднимет» (1, V, 270271).
Человек,
сознавший
важность и
первенство волевого
начала,
неизбежно
будет
стремиться к
его
приумножению
и
выращиванию.
Его образ
действий
отнюдь не
поиски
наслаждений.
Высшее из
признанных
им
наслаждений
наслаждение
силой власти
не может
быть куплено
иначе, как
ценой борьбы
с
трудностями,
препятствиями
и прямыми
опасностями.
Жизнь,
непрерывно
обтачиваемая
на оселке
волевого
искуса и
испытания,
есть жизнь
затрудненная,
исполненная
борьбы и
противоречий.
Только
для поверхностного
взгляда
существование
людей, подобных
Печорину,
может
представляться
как
непрерывная
цепь
эгоцентрически
мотивированных
удовольствий.
Разумеется,
есть в
Печорине и
эта
чертасвоеволие
и нетерпение
никакими
нормами не
сдерживаемого,
никаких
запретов не
признающего
желания.
«Таков уж был
человек: что
задумает,
подавай;
видно в
детстве был
маменькой
избалован»,
так
отзывается о
Печорине
Максим
Максимыч (1, V, 214).
На упреки Максима
Максимыча,
узнавшего о
похищении Бэлы,
Печорин
отвечает
просто: «Да
когда она мне
нравится?..» (1, V, 201).
Более того.
Дело не в
ответе, не в
словах, а в
том
выражении непреклонной,
победоносной,
не
поддающейся
на убеждения
воли, с каким
эти слова
произносятся.
«Что
прикажете
делать?
поясняет Максим
Максимыч.
Есть люди, с
которыми
непременно
должно
соглашаться»
(1, V, 202). И все же
нравственный
характер людей,
подобных
Печорину,
разумеется,
не исчерпывается
мелким и
пошлым
эгоизмом
ищущей одних
лишь
наслаждений
автономной
воли.
Тот же
волюнтаризм
обрекает
Печорина на
одиночество,
лишает его
друзей,
противопоставляет
его «свету», т. е.
его обществу.
«Я к дружбе
неспособен:
из двух
друзей
всегда один
раб другого,
хотя часто ни
один из них в
этом себе не
признается;
рабом я быть
не могу, а
повелевать в
этом случае
труд
утомительный,
потому что
надо вместе с
этим и
обманывать...» (1,
V, 211). Еще более
тяжким для людей
печоринско-
13
го
склада
оказывается
неизбежная
противопоставленность
их обществу,
если общество,
как это было
в эпоху
Лермонтова,
состоит из
людей с ничтожной
и притом
подавленной,
подчиненной
и неразвитой
волей.
Мысль
эта
отчетливо
выражена в
«Княгине Литовской».
«...Свет, читаем
мы здесь, не
терпит в кругу
своем ничего
сильного,
потрясающего,
ничего, что
бы могло
обличить
характер и волю:
свету нужны
французские
водевили и
русская покорность
чуждому
мнению» (1, V, .111).
Но
главный
источник
трудностей и
противоречий,
с какими
должна
встретиться
направленная
к
самосовершенствованию,
к стяжанию
власти воля,
внутренний.
Беспрерывное
упражнение, экспериментирование
воли над
собой и над другими
ведет
неизбежно к
ряду
самоограничений,
лишений и
страданий,
почти
наверняка
исключающих
покой и
счастье.
Таков Лермонтов,
таковы его
герои. Их
рост, т. е.
совершенствование
их воли,
власти над
людьми, основан
не только на
беспрерывном
моральном и
психологическом
экспериментировании,
образцы
которого
показаны в
отношениях
Печорина к
княжне Мери,
Грушниц-кому,
Вере, Вуличу,
но и на
беспрерывной
борьбе, в
какую неизбежно
вовлекает
всякий
эксперимент
человека над
человеком,
испытание
власти над
его волей.
Каковы бы ни
были
литературные
источники
этого
экспериментирования,
изображаемого
Лермонтовым,
следует ли
их видеть в творчестве
Бенжамена
Констана (2)
или, что гораздо
менее
вероятно, в
изображении
морально-психологического
эксперимента
у Стендаля,
или в
каких-либо
иных, до сих
пор не выясненных
образцах,
смысл самого
явления, каким
рисует его
Лермонтов,
совершенно
ясен. Действование
Печорина,
поступок,
совершаемый
им
относительно
других людей,
его окружающих,
обычно
продиктован
не
непосредственным
интересом к
этому лицу
или его
судьбе, но в
первую
очередь
соображением
о том значении,
какое этот
поступок
может
получить в деле
испытания
либо силы
своей власти
над чужой
душой
(Печорин
Бэла,
ПечоринМери),
либо
совершенства
своего
познания сил,
управляющих
чувствами
других людей
(ПечоринМери,
Печорин
Грушницкий),
либо,
наконец, в
деле
испытания
собственной
воли и судьбы
(поступок
Печорина в
«Фаталисте»).
Постижение
жизни как
деятельности,
а воли как
источника
дейст-вования
рано
связалось у
Лермонтова с
другой
важной
мыслью с
мыслью о
неразрывном
сплетении
жизни и
действия с
борьбой. Еще
в
семнадцатилетнем
возрасте
Лермонтов с
удивительной
силой
выразил
мысль о ничтожестве
жизни, не
оправданной
борьбой, запечатлел
страстную
жажду
увековечить
каждый прожитый
день
достойным
бессмертия
действованием:
Так
жизнь скучна,
когда
боренья нет.
В
минувшее
проникнув,
различить
В ней
мало дел мы
можем, в
цвете лет
Она души
не будет
веселить.
Мне
нужно
действовать,
я каждый день
Бессмертным
сделать бы
желал, как
тень
Великого
героя, и
понять
Я не могу,
что значит
отдыхать.
Всегда
кипит и зреет
что-нибудь
В моем
уме. Желанье
и тоска
Тревожат
беспрестанно
эту грудь.
Но что ж?
Мне жизнь все
как-то
коротка
И все
боюсь, что не
успею я
Свершить
чего-то!.. (1, I, 178179)
Тема
борьбы как
животворящего
источника действия
одна из
центральных
у Лермонтова.
Так велико,
по
Лермонтову,
возвышающее,
14
расширяющее
пределы
жизни и
познания значение
борьбы, что
самые враги
для Лермонтова
не только
ненавистные
противники,
но вместе с
тем и в
каком-то
смысле
любимые
существа. iBo
врагах
Лермонтов
любит повод и
побудительную
причину
высшего
напряжения
деятельных
сил борьбы: «...я
люблю врагов,
хотя и не по-христиански.
Они меня
забавляют, волнуют
мне кровь.
Быть всегда
на страже, ловить
каждый
взгляд,
значение
каждого слова,
угадывать
намерение,
разрушать
заговоры,
притворяться
обманутым, и
вдруг одним
толчком
опрокинуть
все огромное
и многотрудное
здание их
хитростей и
замыслов,вот
что я называю
жизнью» (1, V, 280).
Из всех
возможных
жизненных
позиций самой
неприемлемой,
самой
горестной, не
достойной
человека для
Лермонтова
была, разумеется,
позиция
равнодушия,
охладевшего
ко всему
безучастия,
спячка воли и
действия. Одним
из
величайших
пороков
современного
поколения
Лермонтов признал
именно его
безучастность,
безразличие
к
происходящему,
к царившему в
ту пору в
обществе злу
и застою:
К добру и
злу постыдно
равнодушны,
В начале
поприща мы
вянем без
борьбы;
Перед
опасностью
позорно-малодушны,
И перед
властию
презренные
рабы.
Мечты
поэзии,
создания
искусства
Восторгом
сладостным
наш ум не
шевелят;
Мы жадно
бережем в
груди
остаток
чувства
Зарытый
скупостью и
бесполезный
клад.
И
ненавидим мы,
и любим мы
случайно,
Ничем не
жертвуя ни
злобе, ни
любви,
И
царствует в
душе какой-то
холод тайный,
Когда
огонь кипит в
крови. (1, II, 3940)
Печорин,
сознающий в
себе как
порок «неспособность
к
благородным
порывам» (1, V, 288), в
самом своем
скепсисе и
охлаждении
остается все
же
деятельным и
в этом
смысле,
несмотря на
негативный,
разрушительный
характер
деятельности,
возвышается
над своими,
даже к такому
действию не
способными
современниками:
«С тех пор, как
я живу и
действую,
судьба как-то
всегда
приводила
меня к
развязке
чужих драм,
как будто без
меня никто не
мог бы ни
умереть, ни
прийти в отчаяние!
Я был
необходимое
лицо пятого
акта;
невольно я
разыгрывал
жалкую роль
палача или
предателя.
Какую цель
имела на это
судьба?» (1,V, 277).
Две
проблемы
неизбежно
должны
встать перед
исповедующим
мировоззрение,
подобное
лермонтовскому:
проблема
смерти и
проблема
детерминизма,
т. е. предопределенности
человеческих
действий общим
строем и
механизмом
мира и
человеческой
жизни. Кто
полагает все
значение
существования
в
действовании,
в
утверждении
и укреплении
воли, в
борьбе, для
того,
естественно,
вопросом
большой
важности
оказывается
вопрос, в
какой мере
может быть
примирено
это значение
жизни с
фактом
всепоглощающей
смерти,
неумолимо
пресекающей
всякое
действие, всякое
движение
воли, всякое
напряжение борьбы.
Не менее
неизбежной и
серьезной
оказывается
также
проблема
детерминизма.
Кто усвоил
взгляд на
жизнь как на
воспитание,
рост и
совершенствование
личной воли,
тому не уклониться
от вопроса о
том, в какой
мере самобытность,
спонтанейность
воли,
сознаваемая как
факт
величайшей
реальности с
точки зрения
субъекта
воли и
действования,
может быть
согласована
с
предопределенностью
всех событий
и поступковс
точки зрения
объективной
причинности,
которой
подчинены все,
в том числе и
субъективные,
явления.
15
Что в
подобной
постановке
вопроса
кроется метафизически
неправомерное
«илиили» об
этом не мог
догадываться
Лермонтов в
теч условиях
философского
образования
и развития, какие
выпали на его
долю. Тем
интереснее
способ,
посредством
которого
Лермонтов
разрешает
осознанное
им
противоречие.
B самой
постановке
вопроса
сказывается
первенствующая
в системе
идей
Лермонтова мысль
о ценности
действования.
Отношение Лермонтова
к смерти
принципиально
выше, зрелее,
глубже
отношения к
ней Льва
Толстого, хотя
Лермонтов
размышлял о
смерти в
юности, а
Толстой в
пору зрелости
и мужества
мысли. Вопрос
о смерти вовсе
не сводится у
Лермонтова к
одному лишь страху
перед уходом
из жизни в
темную пустоту
небытия. Еще
меньше это
боязнь
физического
уничтожения.
В минуты
отвращения к
ненавидимой
им неправде
социального
строя, к пошлости
и
ничтожеству
окружавшего
его светского
общества
Лермонтов
знал приливы
тоски, для
которой
смерть
представлялась
желанным
освобождением.
«Что ж?
размышляет
накануне
дуэли
Печорин.
Умереть, так
умереть! потеря
для мира
небольшая; да
и мне самому
порядочно уж
скучно. Я как
человек,
зевающий на
бале, который
не едет спать
только потому,
что еще нет
его кареты.
Но карета
готова... прощайте!..»
(1, V, 296). Тот же
Печорин
после дуэли с
Груш-ницким
едва ли не
ищет смерти в
путешествии
по диким и
глухим
странам
Востока: «...мне
осталось
одно средство:
путешествовать.
Как только
будет можно,
отправлюсь,
только не в
Европу,
избави боже!
поеду в
Америку, в
Аравию, в
Индию, авось
где-нибудь
умру по
дороге! По
крайней мере,
я уверен, что
это
последнее утешение
не скоро
истощится, с
помощию бурь и
дурных дорог»
(1, V, 213).
Лермонтов
мужественно
принимает
как неотвратимый
закон
существования
гибель всего
живущего и
родившегося:
Ужель
единый гроб
для всех
Уничтожением
грозит?
Теперь я
вижу: пышный
свет
Не для
людей был
сотворен.
Мы
сгибнем, наш
сотрется
след,
Таков
наш рок,
таков закон;
Наш дух
вселенной
вихрь умчит
К
безбрежным,
мрачным
сторонам.
Наш прах
лишь землю
умягчит
Другим,
чистейшим
существам. (1, I, 105106)
И ты
умрешь, и в
вечности
погибнешь
И их
нигде, нигде
вторично не
увидишь
Знай, как
исчезнет
время, так и
люди,
Его
рожденье
только бог
лишь вечен... (1,1, 77)
Ему
ведомы и
подобная сну
быстротечность
существования
и
оскорбительное
безобразие
процесса
физического
уничтожения:
Один я
здесь, как
царь
воздушный,
Страданья
в сердце
стеснены,
И вижу,
как, судьбе
послушно,
Года
уходят будто
сны;
И вновь
приходят, с
позлащенной,
Но той же
старою
мечтой,
И вижу
гроб
уединенный,
Он ждет... (1, 1,84)
В
стихотворении
«Смерть» с
поразительной
силой
фантазии
запечатлена
картина
разрушения
тела.
Сновидцу, от
лица
которого
ведется
рассказ о
загробном
видении,
смерть представляется
как горькое и
обидное для
души
уничтожение
единственного
друга бессмертной,
но одинокой
души ее тела:
16
И я сошел
в темницу,
длинный гроб,
Где гнил
мой труп, и
там остался
я.
Здесь
кость была
уже видна,
здесь мясо
Кусками
синее висело,
жилы там
Я
примечал с
засохшею в
них кровью.
С
отчаяньем
сидел я и
взирал,
Как
быстро насекомые
роились
И жадно
поедали пищу
смерти.
Червяк
то выползал
из впадин
глаз,
То вновь
скрывался в
безобразный
череп.
И что же?
каждое его
движенье
Меня
терзало
судорожной
болью.
Я должен
был смотреть
на гибель
друга.
Так
долго
жившего с
моей душою,
Последнего,
единственного
друга,
Делившего
ее печаль и
радость,
И я
помочь желал,
но тщетно,
тщетно.
О
сколько б
отдал я тогда
земных
Блаженств,
чтоб хоть
одну, одну
минуту
Почувствовать
в них
теплоту.
Напрасно,
Закону
лишь
послушные
они
Остались
хладны, хладны
как
презренье. (1, I,
289290)
Но как бы
ни были
безобразны
обличья
смерти, в ней
Лермонтова
страшит не
самый факт прекращения
существования,
но до конца
не решенный
им вопрос о
том, в какой
мере физическая
смерть
человека
есть
предвестница
гибели его деяний.
Иными
словами,
Лермонтов
страшится не
самой смерти,
а возможного
полного уничтожения
не только
человека, но
и всего им совершённого:
Боюсь не
смерти я. О,
нет!
Боюсь
исчезнуть
совершенно. (1, I,
121)
То, что
можно было 6ы
назначь
страхом
смерти у Лермонтова,
точнее
должно быть
охарактеризовано
как боязнь не
оказаться
бессмертным,
т. е.
плодотворным
и живым в
результатах своего
творческого
труда. Это
боязнь забвения,
т. е. высшая
форма
требовательности,
предъявляемой
к
собственной
жизни, к
собственному
труду. Думая
о смерти,
Лермонтов
думает не
столько о ней
самой,
сколько о
жизни; он оценивает
сделанное им
до сих пор с
точки зрения
его
способности
вести
длительное
существование
в потомстве,
в памяти
людей, в деятельности
их ума и
мысли.
Страшной,
по Лермонтову,
смерть
оказывается
лишь для того,
кто, умирая,
не может
надеяться,
что плоды его
жизни
останутся
нужными для
жизни и труда
тех, кому
суждено его
пережить или
родиться
после его
смерти:
Толпой
угрюмою и
скоро
позабытой,
Над
миром мы
пройдем без шума
и следа,
Не
бросивши
векам ни
мысли
плодовитой,
Ни
гением
начатого
труда. (1, II, 40)
И.близок
час... и жизнь
его потонет
В
забвенье, без
следа, как
звук пустой;
Никто
слезы
прощальной
не уронит,
Чтоб
смыть упрек,
оправданный
толпой... (1, I, 170)
В минуты
неизбежных
для
мыслящего
существа сомнений
и колебаний
возмущение
против смерти
сознается
Лермонтовым
отнюдь не как
принципиальный
протест
против,
необходимости
конца:
...есть
всему конец;
Немного
долголетней
человек
Цветка; в
сравненьи с
вечностью их
век
Равно
ничтожен. (1, I, 174)
17
Смерть
Лермонтов
отрицает не
как общий закон
человеческой
жизни;
неприемлемой
в принципе
она
представляется
ему лишь для
тех, чья
жизнь полна
деятельности,
деятельных
чувств любви,
активного
отношения к
природе и человеку.
Смерти
не может
быть, не
должно быть
для тех, кто
наделен
полнотой
прекрасного,
деятельного
существования.
Есть, такова
мысль Лермонтова,степень
красоты,
интенсивности,
плодотворности,
с которыми
несовместима
мысль о
смерти:
Нет
смерти здесь;
и сердце
вторит нет;
Для
смерти
слишком
весел этот
свет.
И не
твоим глазам
творец судил
Гореть,
играть для
тленья и
могил...
Хоть все
возьмет
могильная
доска,
Их
пожалеет
смерти злой
рука;
Их луч с
небес, и, как в
родных краях,
Они
блеснут
звездами в
небесах! (1,1, 95)
Реализму
мысли о
смерти
Лермонтов
противопоставляет
неменьший
реализм
мысли о продолжении
существования
в живых
произведениях
творческого
труда.
Бессмертие
открывается
ему не как
мистическое
представление
о загробном
мире, а как
связь жизни потомков
с творческой
жизнью
предшествующих
поколений.
Бессмертие,
таким
образом понятое,
есть не общий
безразличный
удел, но
творческая
заслуга лишь
некоторых
именно
деятельных,
продуктивных,
заслуга,
допускающая,
вообще
говоря,
различные
степени.
Поиском
такого
бессмертия
оправдывается
в глазах
Лермонтова
жажда славы:
Известность,
слава, что
они? а есть
У них над
мною власть...
Но верю
им!
неведомый
пророк Мне
обещал бессмертье,
и живой Я
смерти отдал
все, что дар
земной. (1, I, 174)
Общеизвестно
стихотворение,
в котором
Лермонтов
поэтически
раскрыл
желанный для
него облик
смерти и
посмертного
состояния.
Напомним лишь
одно:
смертный сон
грезится
Лермонтову как
деятельный
покой, как
непрекращающийся
ритм
жизненных
сил, как
общение с
такой же
деятельной,
исполненной
жизни
природой. Чем
интенсивнее
ощущал
Лермонтов
жизнь как
деятельность,
как борьбу
деятельной
воли с препятствиями,
выдвигаемыми
людьми и
жизнью, как
задачу стать
достойным
единственно
возможного и
доступного
вида
бессмертия,
тем повелительнее
и необоримее
должно было
возвышать
голос
желание
заглянуть в
будущее, предвидеть
исход борьбы,
удостовериться
в том, что ему
действительно
суждено
искомое им
бессмертие.
Поэтическое
вопрошание
будущего,
стремление
еще до исхода
жизни понять
смысл своего
назначения,
своего
явления в
жизнь становятся
постоянным
предметом
дум Лермонтова.
Стремление
это,
естественно
определенное
мировоззрением
Лермонтова,
еще более
усиливалось
вследствие
рано осознанного
поэтом
одиночества,
непримиримой
противопоставленности
окружающему
обществу,
враждебности
его поэту:
Грядущее
тревожит
грудь мою.
Как
жизнь я
кончу, где
душа моя
Блуждать
осуждена, в
каком краю
Любезные
предметы
встречу я? (1, I, 176)
Гляжу на
будущность с
боязнью,
Гляжу на
прошлое с
тоской
И как преступник
перед казнью
Ищу
кругом души
родной;
18
Придет
ли вестник
избавленья
Открыть
мне жизни
назначенье,
Цель
упований и
страстей,
Поведать
что мне бог
готовил,
Зачем
так горько
прекословил
Надеждам
юности моей. (1,
II, 28)
На
буйном
пиршестве задумчив
он сидел
И в даль
грядущую,
закрытую
пред нами,
Духовный
взор его
смотрел. (1, II, 56)
Источники,
питающие это
волнение, эту
неотступную
тревогу за
будущее,
достаточно
прозрачны.
Кто, как
Лермонтов,
держится той
веры, что
человек есть
то, чем он сам
себя делает,
что
бессмертие
есть не прирожденное
свойство, а
задача,
которая
должна быть
еще решена
личными
усилиями, что
успех
решения не
гарантирован
безусловно,
что смысл
существования
не просто
уразумевается,
но
завоевывается
в трудной
борьбе с бессмыслицей
жизни, для
того вопрос о
будущем есть
не только
вопрос
праздного
любопытства.
Вопрос этот
превращается
в испытание собственного
достоинства,
в проверку
права на
высокое
призвание и
назначение.
Противоречие,
заключающееся
в такой постановке
вопроса,
очевидно. Оно
состоит в
желании
наперед получить
ответ на
вопрос,
ответом на
который
может быть
только
полный итог
всей жизни со
всеми ее
трудами,
предприятиями
и замыслами.
Если только
действительно
содеянным
измеряется
право на
значение и на
бессмертие,
то неправо
будет всякое
усилие до
начала самого
дела
получить
сведение о
его результате.
Лермонтов
не избежал
этого
противоречия.
Две причины,
объединившись
в общем
действии,
привели его к
этому. Первой
из них были необычайная
сила и
интенсивность
личного
начала,
страстное и
гордое
нетерпение, не
мирившееся
со сроками,
уже теперь, в
самом начале
жизни,
искавшее
основания
для своих
прав на
личное
самоутверждение.
Второй причиной,
постоянно
вызывавшей в
Лермонтове
желание
заглянуть в
будущее, как
бы упредить
свою судьбу,
был его
фатализм.
Фатализм
убеждение в
неотвратимой
предопределенности
всего, что
может
случиться с
человеком, и,
в частности,
предопределенности
всех его
деяний,
бесспорно
был присущ
Лермонтову и
составлял
важную грань
в строе его
идей.
Источники
лермонтовского
фатализма
жизненные,
литературные,
философские
весьма сложны
и неясны, как
это
характерно
для всех
руководящих
идей
Лермонтова.
Сам Лермонтов,
если можно в
этом случае
верить
полушутливому
поэтическому
самопризнанию,
склонен был
возводить
собственный
фатализм к
влиянию идей
и верований
Востока, т. е.
мировоззрения
кавказских
мусульман:
Судьбе
как турок иль
татарин
За все я
ровно
благодарен;
У бога
счастья не
прошу
И молча
зло переношу.
Быть
может, небеса
востока
Меня с
ученьем их
пророка
Невольно
сблизили... (1, II, 90)
Но
каковы бы ни
были влияния,
пробудившие
или
усилившие
фаталистическое
мироощущение
Лермонтова,
фатализм
несомненно
развивался и
нарастал в
нем с годами.
Одним из важнейших
жизненных
источников
лермонтовского
фатализма
была
отчетливо
сознаваемая
самим
Лермонтовым
исключительно
резкая определенность
его
характера и
мировоззрения;
рано вступив
в
столкновение
с нравственным
характе-
19
ром,
образом
мыслей и
действий
своего общественного
круга,
Лермонтов
так же рано
ощутил в себе
фаталистическое
чувство
обреченности,
вытекавшее
из
непреклонности
собственного
характера,
ясного понимания
антагонизма,
существовавшего
между ним и
обществом, и
не менее
ясного
понимания
собственного
одиночества,
громадности
противостоящих
ему темных и
косных сил.
Так
сложилось это
удивительное,
в своей
противоречивости
единственное,
мировоззрение.
С одной стороны,
Лермонтов
неизменно
исходит из
мысли о
творческой
активности
как сущности
человеческой
жизни;
борьба,
напряжение
волевого начала
представляется
ему
несовместимыми
ни с какой
резиньяцией,
ни с каким
принятием существующего
на том
только
основании, что
оно
существует
как факт. Кто
поднимает руку
против
существующего
порядка, тот
тем самым
свидетельствует,
что для него
в факте существования
нет ничего
предопределенного,
т. е. того, что
может
существовать
только таким
образом,
каким оно
существует. В
этом смысле и
сам
Лермонтов и
его
поэтические
герои
персонажи
его поэм и
драм все до
одного
практические
антифаталисты.
Все они ведут
страстную и
убежденную
борьбу с ненавидимым
ими
нравственным
либо
социальным
порядком, т. е.
хотят
изменить
существующий
и, конечно,
причинно
обусловленный
порядок
вещей силой
своего
против этого
порядка
направленного
действия. Так
могут действовать
и мыслить
только люди,
для которых в
ходе человеческой
жизни нет
ничего
непреложного,
непредотвратимого,
предопределенного.
И в то же
время стихи и
проза
Лермонтова
пестрят
исповеданиями
явного
фатализма,
пронизаны
мыслью о том,
что все
'свершающееся
исполняется
по закону
какого-то
рокового
предначертания!
Что идея
фатализма
страдает
внутренним противоречием,
было ясно
самому
Лермонтову:
«И если точно,
говорит один
из его
персонажей,
есть
предопределение,
то зачем же
нам дана
воля,
рассудок?
почему мы должны
давать отчет
в наших
поступках?» (1, V,
312313).
Но
ясность
сознания не
устраняет
самого противоречия.
Фаталистической
делает мысль
Лермонтова
вовсе не его
убеждение в
том, что
каждое
действие
имеет
причину, по
которой оно
возникает и
происходит,
фаталистической
мысль
Лермонтова
делает убеждение,
что эта цепь
причин и
действий не может
быть
разомкнута,
изменена,
перенаправленадаже
предельными
усилиями
деятельной,
целеустремленной
и
сосредоточенной
воли:
Мгновенное
пренебреженье
Ее
могущества
опять
Мне
доказало, что
влеченье
Души
нельзя нам
побеждать;
Что цепь
моя
несокрушима,
Что мой
теперешний
покой
Лишь
глас
залетный
херувима
Над
сонной
демонов
толпой. (1,1, 298)
Но
тщетны мечты,
бесполезны
мольбы
Против
строгих
законов
судьбы. (1, I, 188)
Настолько
неотвратимо,
по
Лермонтову,
предопределение,
замыкающее
чувства и
поступки в
рамки
неумолимого
предначертания,
что если бы даже
как-нибудь
оказалось
возможным
вернуть
жизнь поэта
назад, к ее
истоку, к
давно пережитым
дням, ход ее
не изменился
бы, но повторился
бы с той же
причинной
связью
чувства, с
той же
последовательностью
действий:
Но если
бы я
возвратился
Ко дням
позабытых тревог,
Вновь так же
страдать я б
решился И любить
бы иначе че
мог. (1,1, 268)
20
Осознание
всего
свершаемого
человеком и над
ним
свершающегося
как некоего
предопределения
или «рока»
расширяется
Лермонтовым
за пределы
чисто личной
судьбы,
распространяется
на события и
на деятелей
всемирно-исторического
значения.
Таким
явлением всемирно-исторического
определения
был в глазах
Лермонтова
Наполеон:
рассматривая
Наполеона по отношению
к людям,
среди
которых он
действовал,
как их р о к
или судьбу,
Лермонтов в
то же время
подчиняет
дей-ствование
самого Наполеона
некоему року,
над ним
стоящему и через
него
таинственно
действующему:
Изгнанник
мрачный,
жертва
вероломства
И рока
прихоти
слепой,
Родился
он игрой
судьбы
случайной,
И
пролетел как
буря мимо
нас;
Он миру
чужд был. Все
в нем было
тайной,
День
возвышенья
и паденья
час! (1, I, 191)
Да тень
твою никто не
порицает,
Муж рока!
ты с людьми,
что над тобою
рок;
Кто знал
тебя
возвесть,
лишь тот
низвергнуть
мог... (1,1, 93)
Не
следует,
впрочем,
преувеличивать
фатализм
этой
концепции
Наполеона и
наполеоновского
периода
истории.
Представление
о Наполеоне
как о
воплощении
исполинской
всемирно-исторической
судьбы было
весьма
распространено
во времена
Лермонтова
не только в России,
но и на
Западе, и
притом у
самых крупных
мыслителей,
по существу
далеких от
философско-исторического
фатализма.
Оттенок такого
представления
или, вернее,
впечатления
можно найти
даже у
Гегеля,
который,
разумеется,
прекрасно
понимал, что
великие
деятели истории
могут
оказаться
подлинно
великими
лишь в том
случае, когда
личный
интерес, по
указанию
которого
действует их
гениальность,
совпадает с
направлением
интереса больших
передовых
социально-исторических
сил и движений.
И все же по
вступлении
Наполеона в
Иену Гегель
писал: «Я
видел
императора,
эту мировую
душу, в то
время как он
проезжал по
городу с
целью
рекогносцировки;
в самом деле,
испытываешь
удивительное
чувство, когда
видишь такое
существо,
сконцентрированное
здесь в одном
пункте,
сидящее на
лошади и в то
же время
повелевающее
и управляющее
миром».
В ряду
произведений,
утверждающих
эту мысль,
особенно
замечателен
«Фаталист».
Мастерски
разработанный
сюжет этого
рассказа
представляет
как бы
тройное
доказательство
основного
фаталистического
тезиса.
Реальность
предопределения,
во-первых, доказывается
поступком
Вулича,
который подвергает
спорный
вопрос
испытанию и
проверке на
опыте.
Заметим
кстати, что
Вулич необычайно
четко
формулирует
самую
альтернативу:
«...я вам
предлагаю,
говорит он,
испробовать
на себе,
может ли
человек
своевольно
располагать
своею жизнию,
или каждому
из нас заране
назначена
роковая
минута...» (1, V, 314).
Вулич
стреляется
из пистолета,
наудачу
выбранного в
куче оружия,
и остается
жив не
потому, что
пистолет
оказался
незаряженным,
но лишь
потому, что
он случайно
дал осечку;
следующий
выстрел из
того же
пистолета в
висящую на
стене
фуражку
пробивает ее
навылет.
Казалось
бы, тезис
предопределения
подтвержден.
Но автору
этого мало.
Доказана
только
половина
тезиса.
Вуличу не
суждено
погибнуть
путем
прямого
вызова
судьбе. Теперь
необходимо
пойти дальше
и доказать, что
Вулич едва ли
не в тот же
час окажется
бессильным
уйти от все
же
назначенной
ему, но не им
самим
выбранной
гибели. Еще
до безумного
опыта Вулича
Печорин, от
лица которого
ведется
рассказ, за-
21
метил на
лице Вулича
как бы печать
близкой, неизбежной
смерти.
Печорин
предсказывает
Вуличу
гибель: «Вы
нынче
умрете»,
говорит он
ему. Счастливым
исходом
опыта Вулича
предсказание
это кажется
опровергнутым.
Но это только
кажется.
Возвращаясь
ночью домой,
Вулич погибает
от руки
напившегося
до
исступления казака,
к которому он
случайно
обратился с вопросом.
Предсказание
Печорина
сбывается.
Смысл этого
двойного
происшествия
ясен. Сознает
человек или
не сознает
выпавшее ему
на долю
предопределение,
прямо ли он
испытывает
судьбу или
предоставляет
самой судьбе
осуществить
начертанное,
счастлив или
нет исход
испытания,
во всех
случаях
предопределение
неизменно
торжествует.
Жизнь есть
цепь предопределений
со
счастливым
или несчастным
исходом,
предопределений,
в которых удача
и катастрофа
часто
следуют
непосредственно
одна за
другой, своим
контрастом и быстрой
сменой как бы
оттеняя
неумолимость
самого
предназначения.
Но и
этого мало.
Автор вводит
в свой
рассказ
третье
доказательство
предопределения.
Печорин,
прибежавший
к дому, в
котором укрылся
убийца, в
свою очередь
решает
испытать свою
судьбу.
Безоружный,
он бросается
через окно в
комнату, где
заперся,
угрожая
новыми
убийствами,
казак, и, схватив
его за руки,
держит, пока
ворвавшиеся солдаты
не связывают
преступника.
В
маленьком
рассказе
изображены
быстро следующие
друг за
другом три
случая, в
которых
сказывается
предопределение.
Теоретически
все три как
будто
тройное
подтверждение
фатализма. Но
дело не в
самом тезисе
предопределения,
а в тех
выводах,
которые из
него извлекает
Лермонтов.
Своеобразие
Лермонтова в
том, что с
мыслью о
предопределении
он связывает
нефаталистические
практические
выводы. И в
случае, когда
подвластный
предопределению
бросает
вызов судьбе
(выстрел
Вулича, поступок
Печорина), и в
случае, когда
он бессознательно
оказывается
объектом ее
начертаний
(гибель
Вулича),
предопределение
сохраняет
всю свою
силу. Но если
таков закон судьбы,
то при всех
обстоятельствах
достойнее
человека
попытка
самому
решать свою
судьбу. Тот
же Печорин,
первый
заметивший
на лице
Вулича
печать
близкой уже
смерти, уверенный
в
безошибочности
своего
наблюдения,
смело
бросается
навстречу
смертельной опасности
в схватке с
казаком.
Гибель
Вулича как бы
обрамляется
двумя этими
эпизодами
(выстрелом
Вулича и
подвигом
Печорина) с
тем, чтобы
подчеркнуть,
что фатализм
не только не
исключает
активности,
борьбы,
риска, подвига,
но к ним
взывает и
влечется.
Активность
мировоззрения
Лермонтова
получила
новое
подтверждение
как раз в той
мысли, которая
на первый
взгляд
кажется
способствующей
резиньяции и
пассивности.
«Фатализм»
Лермонтова
своеобразное
обоснование
убеждения,
что человек
должен быть
деятелен,
горд, силен,
смел в борьбе
и опасности,
неподвластен
и непокорен
обстоятельствам.
Не случайно,
что именно в
«Фаталисте»,
как я уже
отметил выше,
Лермонтов
подошел к
вопросу об
астрологии с
той же
действенной
точки зрения:
в детерминизме
и грубом,
механическом
фатализме
астрологических
суеверий он
неожиданно
усмотрел
также и
другую
сторону небезразличное
для практики
влияние
астрологических
представлений
на силу воли,
на уверенность
практического
действия, на
целеустремленность
поступков,
если поступки
эти руководятся
мыслью, будто
залог
успешности
совершаемых
действий
глубоко
укоренен в
самых
основах
мирового
порядка.
«Фатализм»
Лермонтова
не фатализм
покорности,
безответности,
непротивления.
«Фатализм»
Лермонтова
скорее есть
теоретически
оши-
22
бочная
попытка
найти
оправдание и
опору для
высших ступеней
изменяющего
жизнь
действования,
борьбы,
сопротивления.
Это позиция
вызова, непримиримости,
безустанного
отрицания.
Что
«фатализм»
Лермонтова
имеет именно
этот, по
существу н е
фаталистический
смысл, видно из
произведения,
в котором
убежденность
в неизбежности
случившегося
сочетается с самым
страстным,
непримиримым
отрицанием
его, с
восстанием
против
случившегося.
Я говорю о
стихотворении
на смерть
Пушкина.
И в этом
могучем акте
борьбы поэта
против ненавистного
ему общества
звучат, как
это ни
странно может
показаться,
как будто
фаталистические
ноты. Гибель
Пушкина
рассматривается
как
неизбежное
начертание
судьбы (см. 1, II, 15).
Торжество
раболепных
лакеев трона,
гонителей
поэта и его
свободной
мысли над
лучшей,
честнейшей
частью
русского
общества также
характеризовано
как роковой
поворот в
игре судьбы:
А вы,
надменные
потомки
Известной
подлостью
прославленных
отцов,
Пятою
рабскою
поправшие
обломки
Игрою
счастия
обиженных
родов! (1, II, 17)
Но это
признание неотвратимости
сбывшегося
не ослабляет
ни в какой
мере ни
энергии
борьбы поэта
против
проклинаемого
им
общественного
порядка, ни
испепеляющей
силы его
ненависти, ни
глубины и
разительности
его
обличений.
Да,
свершившееся
должно было
свершиться, иначе
оно не могло
бы
свершиться.
Но это
признание
есть фатализм
только post-factum.
Пока роковое
не сбылось,
пока есть
силы для
борьбы
против того,
чему не
следует быть
по
приговору
высшего нравственного
чувства
общественной
справедливости,
борьба
должна
вестись всеми
доступ-нымисредствамю
«Фатализм»
Лермонтова,
если
позволительно
вместе с
поэтом так
именовать
строй его мыслей,
не только не
освобождает
человека от
ответственности
личной,
моральной,
общественной
за все, что он
делает, но
даже повышает
сознание
этой
ответственности.
Он
освобождает
от страха
перед
неотвратимостью
того, что должно
сбыться, и
вместе с тем
вселяет
отвагу риска,
жгучее
стремление к
испытанию
всей меры,
всего
напряжения
сил,
поднявшихся
на борьбу с
неправдой.,
II
Коснувшись
вопроса о
жизненных
источниках
«фатализма»
Лермонтова, я
отметил в
числе
возможных
его причин раннее
сознание не
только
резкой
определенности,
особенности
своего
характера, но
и осознание
его глубокой
противоположности
моральному
облику
большей
части общества,
несоразмерности
сил поэта и
общества и
потому неизбежное
предощущение
трагического
исхода
завязавшейся
борьбы.
Родившись
чрезвычайно
рано,
сознание это не
только
питало
фаталистическую
настроенность
Лермонтова,
но вместе с
тем обостряло
в его мысли
конфликт между
существующим
и должным,
между
нравственным
состоянием
общества и
нравственным
заданием,
идеалом.
Как
интенсивно
деятельная
натура
Лермонтов не
мог
удовлетвориться
простым
сознанием
этого
противоречия.
В то же время
в Лермонтове
стал рано
развиваться
могучий
реализм,
способность
трезвого,
чуждого
иллюзий
проницательного
наблюдения людей,
их нравов, их
поступков,
мотивов и сути
их действий.
23
Реализм
этот
исключал
возможность
иллюзий
относительно
успешного
практического
разрешения
противоречия
в условиях
современной
Лермонтову
русской
жизни. Оставалось
одно искать
разрешения
противоречия
не в
наличной,
рано ставшей
поэту известной
реальности,
но в
реальности
иной постулируемой,
вымышленной,
созданной мыслью
поэта и его
воображением
и в то же время
как-то
связанной с
миром
наличной
действительности,
поставленной
(разумеется,
только в
мысли) в
отношение
господства
над непосредственной
реальностью.
Самая
невозможность
успешного
практического
действования
вызывала
потребность
в допущении
иной, чем
обычная,
возвышающейся
над ней,
будто бы
высшей, будто
бы
доподлинной
реальности.
Для
натуры менее
требовательной,
менее глубокой,
философски
менее
сознательной,
чем
лермонтовская,
путь этот
отнюдь не
является
обязательным.
Но не таков
был Лермонтов.
Идеализм оказался
для него
необходимой
ранней стадией
развития, не
метафизической
и не мистической,
но именно
практической
реакцией на жизнь.
В дальнейшем
путь
Лермонтова
оказался
неустанным
освобождением
от иллюзий, уже
в истоках
своего
происхождения
имевших
глубоко
жизненный
характер,
представлявших
иллюзорную
форму или
восполнение
практически
невозможной,
неосуществимой
борьбы за иной,
высший
интеллектуальный,
моральный и политический
уклад
общества.
То, что
можно было бы
назвать
идеализмом
Лермонтова,
еще точнее
может быть
определено
как иллюзии
действенной,
жаждущей
деятельности,
но скованной,
ограниченной
в
возможностях
действия воли.
Не
следует,
впрочем, и
преуменьшать
значение и
силу
идеализма
ранних
стихов и поэм
Лермонтова.
Не только
деятельная,
стесненная в
активности
воля, но и
могучая
фантазия поэта
соединились
в стремлении
породить силой
воображения
иной, лучший
мир, который
должен быть
восполнением
и вместе
укором по
отношению к
миру
реальному.
Так
возникли
платонизирующие,
quasi трансцендентные
грезы раннего
Лермонтова:
Моя душа,
я помню, с
детских лет
Чудесного
искала. Я
любил
Все
оболыценья
света, но не
свет,
В
котором я
минутами
лишь жил;
И те
мгновенья
были мук
полны,
И
населял
таинственные
сны
Я этими
мгновеньями...
(1, I, 173)
Однако
даже в крайнем
напряжении
платонизирующей
грезы для Лермонтова
характерна
мысль, что
надстраиваемый
им, в
фантазии,
идеальный
мир есть если
не прямое
порождение
мира
реального, то
уж во всяком
случае
находится в
столь тесном,
интимном
отношении с
реальным
миром, что в
конечном
счете только
этот
последний
имеет
действительное
значение.
Эта
двойственность
идеального,
которое одновременно
сознается и
как высший
слой реальности,
как
необходимое
восполнение
налично
сущего и как
греза,
имеющая
смысл лишь по
отношению к
действию,
какое она
может
проявить
именно в сфере
реального,
чрезвычайно
ясно
выражена в одном
из писем
Лермонтова к
М. А.
Лопухиной:
«Странная
вещь эти сны!
Другая
сторона жизни,
и часто
лучшая,
нежели
действительная
жизнь. Ведь я
вовсе не
разделяю
мнения, будто
жизнь есть
сон; я вполне
осязательно
чувствую ее
действительность,
ее манящую
пустоту. Я
никогда не
смогу
отрешиться
от нее настолько,
чтобы от
всего сердца
презирать ее;
потому что
жизнь моя я
сам, я,
говорящий теперь
с вами и
могущий вмиг
обратиться в
ничто, в одно
24
имя, т. е.
опять-таки в
ничто. Бог
знает, будет
ли
существовать
это я после
жизни!» (1, V, 512513).
Даже
отвращаясь
от наличной
действительности
в
постулируемый
волей,
созидаемый мечтой
поэта мир
идеальной
действительности,
Лермонтов
остается
верен уже
известному
нам представлению
об идеальном
как не
запредельном
по отношению
к жизни, но
подлежащем
осуществлению
в круге самих
ее явлений:
Я, веруя
твоим словам,
Глубоко
в сердце
погрузился,
Однако
же нашел я
там,
Что ум
мой не по
пустякам
К чему-т о
тайному
стремился,
К тому,
чего даны в
залог
С толпою
звезд ночные
своды,
К тому,
что обещал
нам бог,
И что б
уразуметь я
мог
Через
мышления и
годы. (1,1, 71)
Раскрытый
в этом своем
значении
«платонизм»
Лермонтова
глубоко
гуманистичен:
вера в
трансцендентную
реальность, в
«иной мир» есть
лишь
поэтическое
обличие веры
в достоинство
человека,
которой не
могут
разрушить
даже самые
горькие
реалистические
наблюдения и
открытия:
Есть
чувство
правды в
сердце
человека,
Святое
вечности
зерно:
Пространство
без границ,
теченье века
Объемлет
в краткий миг
оно.
И
всемогущим
мой
прекрасный
дом
Для
чувства
этого
построен,
И
осужден
страдать я
долго в нём
И в нём
лишь буду я
спокоен. (1,1, 286)
Только
редко и
ненадолго
трансцендентное
устремление
Лермонтова
переходит в
прямое
противопоставление
реального-рождающегося
и
«огибающего,
изменяющегося
запредельному
вечному, не
знающему ни
становления,
ни изменения:
Смело
верь тому,
что вечно,
Безначально,
бесконечно
Что
прошло и что
настанет,
Обмануло
иль обманет. (1, I,
362)
Та же
мысль
появляется
как
проходящий,
не обогащающийся
дальнейшим
развитием
мотив в
стихотворении,
посвященном
памяти отца:
Ты
счастливей
меня; перед,
тобой
Как море
жизни
вечность
роковая
Неизмеримою
открылась
глубиной. (1,1, 232233)
Или еще в
стихотворении
«Смерть», где
смерть
изображается
в духе
платонизирующего
воззрения
как
возвращение
«домой»:
Оборвана
цепь жизни
молодой,
Окончен
путь, бил час,
пора домой,
Пора
туда, где
будущего нет,
Ни
прошлого, ни
вечности, ни
лет;
Где нет
ни ожиданий,
ни страстей,
Ни
горьких слез,
ни славы, ни
честей,
Где
вспоминанье
спит
глубоким
сном.
И сердце
в тесном доме
гробовом
Не
чувствует,
что червь его
грызет. (1,1, 278)
Напротив,
исконно
лермонтовской
будет мысль о
том, что
постулируемый
поэтом мир
высшей,
запредельной,
реальности
есть лишь
проекция его
земных
устремлений
и желаний:
25
Что мне
сиянье
божьей
власти
И рай
святой? Я
перенес
земные
страсти
Туда с
собой. Ласкаю
я мечту
родную
Везде
одну; Желаю,
плачу и
ревную
Как в
старину. (1, II, 106107)
Столь же
исконной для
Лермонтова
является
глубочайшая
связь между
представлением
об иной жизни
и верой в
достоинство
реального
земного
человека, в
способность
его осуществить
свое высшее
назначение:
Он
сохранил и
блеск
лазурных
глаз,
И звонкий
детский смех,
и речь живую,
И веру
гордую в
людей и жизнь
иную. (1, II, 54)
Гуманистической
мыслью о
земном
человеке и
его
назначении
взлелеян
также
«платонизм»
лермонтовских
видений
памяти и
снов.
Известна
громадная
роль, какую
играла в платоновской
философии
мифология
«воспоминания»
(«анамнезиса»).
Учение это
подчеркивало
запредельное
происхождение
души, а также
противоположность
чувственного
изменчивого,
неистинного
знания
доподлинному
знанию будто бы
вечных и
неизменных
сущностей.
Теория
платоновского
«анамнезиса»
глубоко
мистична,
созерцательна.
Цель ее
направить
мысль к роду
знания,
коренным
образом
отличного от
обычного.
Теория эта
основана на
глубоком
неверии в
реальность
чувственного
мира и чувственного
восприятия;
она
отразилась в
идеалистической
эстетике и в
искусстве
нового времени,
в частности в
эстетике
романтизма.
У
Лермонтова
также
имеется не
философская,
но
поэтическая
концепция
«анамнезиса».
В двух-трех
стихотворениях
она может
даже показаться
на первый
взгляд
близкой к
платоновской.
«Ангел»
великолепный
образец
этого рода.
Он душу
младую в
объятиях нес
Для мира
печали и
слез;
И звук
его песни в
душе молодой
Остался
без слов, но
живой.
И долго
на свете
томилась она,
Желанием
чудным полна,
И звуков
небес
заменить не
могли
Ей
скучные
песни земли. (1, 1,
228)
Но
тщетной была
бы попытка
понять
«анамнезис»
Лермонтова в
духе
подлинного
платонизма.
Там, в
платонизме,
«припоминание»
было пробуждением
видений и
знаний,
которые душа испытала
и приобрела в
запредельном,
нечувственном
мире. «Ангел»
единственное
стихотворение,
близко
примыкающее
к
трансцендентизму
платоновского
мифа; во всех
других,
весьма многочисленных
у Лермонтова,
случаях «анамнезис»
получает
иное
истолкование
и иное назначение.
Не
трансцендентные
умозрения желает
пробудить
лермонтовский
образ
припоминающей
собственные
видения души,
но либо вернуть
душу к уже
испытанным
ею некогда
прекрасным
чувствам и
стремлениям,
либо подчеркнуть
реалистическую
мысль о
власти прошлого
над
настоящим, о
жизненности
всего, что,
будучи нами
испытано, не
просто
исчезает в
пучине
прошлого, не
уходит в
небытие, но
продолжает
жить в нас в
своих
результатах
как перенесенное
из прошлого
напором
действия в живое
и творческое
настоящее.
Платоновский
«анамнезис»
обращение к
довременному,
вечному.
Лермонтовское
припоминание
обращение
от
настоящего к
живому,
26
реальному,
еще и ныне
способному
действовать,
в границах
времени
лежащему
прошлому:
Как
часто,
пестрою
толпою
окружен,
Когда
передо мной,
как будто бы
сквозь сон,
При шуме
музыки и пляски,
При
диком шепоте
затверженных
речей,
Мелькают
образы
бездушные
людей,
Приличьем
стянутые
маски,
Когда
касаются
холодных рук
моих
С
небрежной
смелостью
красавиц
городских
Давно
бестрепетные
руки,
Наружно
погружась в
их блеск и
суету,
Ласкаю я
в душе
старинную
мечту.
Погибших
лет святые
звуки. (1, II, 58)
Платоновский
«анамнезис»
повод для
ухода от всех
воспоминаний
действительной
жизни в мир
грезящихся
душе,
созерцаемых
умом сущностей.
Лермонтовский
«анамнезис»обращение
от
недостойного
в глазах
поэта
настоящего
мгновения к
более достойному
значительному,
глубокому, но
в то же время
всецело
реальному,
отнюдь не
потустороннему
прошлому:
Нет, не
тебя так
пылко я
люблю,
Не для
меня красы
твоей
блистанье:
Люблю в
тебе я
прошлое
страданье
И
молодость
погибшую мою.
Когда
порой я на
тебя смотрю,
В твои
глаза вникая
долгим
взором:
Таинственным
я занят
разговором,
Но не с
тобой я
сердцем
говорю.
Я говорю
с подругой
юных дней;
В твоих
чертах ищу
черты другие;
В устах
живых уста
давно немые,
В глазах
огонь угаснувших
очей. (1, II, 120).
Чем
менее
потусторонним,
запредельным
является
«анамнезис»
Лермонтова,
тем острее сама
сила
припоминания.
В мировой
литературе
трудно найти
поэта,
который мог
бы сравниться
с
Лермонтовым
по
интенсивности,
с какой он
ощущает потаенное,
неявное
присутствие
прошлого в настоящем,
его
продолжающуюся
и тяготеющую
над
человеком
жизнь:
«Нет в
мире
человека, над
которым
прошедшее приобретало
бы такую
власть, как
надо мною. Всякое
напоминание
о минувшей
печали или радости
болезненно
ударяет в мою
душу и
извлекает из
нее все те же звуки...
Я глупо
создан:
ничего не
забываю ничего!»
(1, V, 214). «Как все
прошедшее
ясно и резко
отлилось в
моей памяти!
Ни одной
черты, ни
одного
оттенка не
стерло
время!» (1, V, 255).
И сердце,
полно
сожалений,
Хранит в
себе
глубокий
след
Умерших
но святых
видений,
И тени
чувств, каких
уж нет... (1, I, 198)
Я не
люблю тебя;
страстей
И мук
умчался
прежний сон;
Но образ
твой в душе
моей
Все жив,
хотя
бессилен он... (1,
I, 249)
(При
такой
постоянной
готовности
души вновь
вызывать
всегда
присущие,
близкие и
лишь
оттесняемые
повседневной
жизнью
воспоминания
любое
впечатление
текущего дня
звук, голос,
краска
легко может
наделить
прошлое
силой
реального
значения:
Всемогущий!
что за звуки!
жадно
Сердце
ловит их,
Как в
пустыне
путник
безотрадной
27
Каплю
вод живых!
И в душе
опять они
рождают
Сны
веселых лет
И в
одежду жизни
одевают
Все, чего
уж нет. (1,1, 280)
Даже
неизбежность
смерти не
есть победа над
силой
воспоминания,
поэт
предвидит
возможность,
что смерть
оставляет
человеку
способность
воспоминания,
способность
видеть сны
любви в снах
смерти:
Юных лет
святые
обещанья
Прекратит
судьба на
месте том,
Где без
дум, без
вопля, без
рогпанья
Я усну
давно
желанным
сном.
Так, но
если я не
позабуду
В этом
сне любви
печальный
сон,
Если
образ твой
всегда
повсюду
Я носить
с собою
осужден,
Если там
в пределах
отдаленных,
Где душа
должна
блаженство
пить,
Тяжких
язв, на ней
напечатленных,
Невозможно
будет
излечить... (1, I, 315316)
Венец в
цепи
удивительных
лермонтовских
снов, где
сила
прошлого
торжествует
не только над
видениями
текущей
жизни, но
даже над
оцепенением,
мраком и
холодом
смерти, стихотворение
«Сон» («В
полдневный
жар в долине
Дагестана»).
Убитый не
только
продолжает существование
во сне,
который ему
снится и в
котором ему
открывается
видение далекого
пира и
грезящей о
нем женщины:
В
полдневный
жар в долине
Дагестана
С
свинцом в
груди лежал
недвижим я;
Глубокая
еще дымилась
рапа;
По капле
кровь
точилася моя.
Лежал
один я на
песке долины;
Уступы
скал теснилися
кругом,
И солнце
жгло их
желтые
вершины
И жгло
меня но спал
я мертвым
сном.
И снился
мне сияющий
огнями
Вечерний
пир, в
родимой
стороне.
Меж юных
жен,
увенчанных
цветами,
Шел
разговор
веселый обо
мне. (1, II, 127)
Но
страстная,
пронзительная
сила этого
видения как
бы порождает
ответное
встречное
видение в
грезящей:
Но в
разговор
веселый не
вступая,
Сидела
там
задумчиво
одна,
И в
грустный сон
душа ее
младая
Бог
знает чем
была
погружена;
И
снилась ей
долина
Дагестана;
Знакомый
труп лежал в
долине той;
В его
груди дымясь
чернела рана,
И кровь
лилась
хладеющей
струей. (1, II, 127)
Та же
встреча
грезящей
одинокой
грусти с ответной
и встречной
одинокой
грустью пленила
Лермонтова в
стихотворении
Гейне «Ein Fiichtenbaum steht einsam»
из «Lyrisches Intermezzo».
Так
платоновские
концепции
«анамнезиса»
претворялись
у Лермонтова
в
представления,
чуждые
мистике, в
поэтические,
насыщенные
могучими
образами
фантазии, но
не потусторонние
картины
страстной и
напряженной «истории
души» поэта. С
годами, с
ростом
реалистического
сознания
ослабевала и
та
призрачная
связь с
поэтическими
метафорами и
видениями
платонизма,
которая еще
может быть
усмотрена в
стихотворениях
вроде
«Ангела».
Разъясненная
в письме к M. А.
Лопухиной
неприязнь
Лермонтова к
прямому, «всерьез»
идеалистическому
отождествлению
реальности
со
28
сном («я
вовсе не
разделяю
мнение, будто
жизнь есть
сон»)
усиливается,
приобретает
чекан
продуманной
поэтической
формулы:
Ужели
сон так
близок может
быть
К
существенности
хладной? нет!
Не может
сон оставить
след в душе,
И как ни
силится
воображенье,
Его
орудья пытки
ничего
Против
того, что
есть, и что
имеет
Влияние
на сердце и
судьбу. (1,1,201202)
Резкость,
трезвость,
реалистическая
убежденность
этих строк
прямая
противоположность
тем
представлениям
о снах и об их
философском
значении, которые
были
распространены
в современном
Лермонтову и
бесспорно в
какой-то мере
ему
известном
западноевропейском
романтическом
идеализме.
Любопытно
сопоставить
мысль
Лермонтова по
этому
вопросу хотя
бы с рассуждениями
Шопенгауэра,
который
широко
использует
серьезные
философские
сентенции и попросту
случайные
метафорические
уподобления
поэтов для
тенденциозного
идеалистического
сближения
реальности
со снами:
«Слишком явно
выступает
перед нами
тесное
родство
между жизнью
и сном: не
постыдимся
же его
признать,
после того
как признали
его,
высказали
много
великих умов.
Ведь и Пураны
для всего познания
действительного
мира не знают
лучшего и не
употребляют
чаще другого
сравнения,
чем сон.
Платон не раз
говорит, что
люди живут
только во сне
и лишь один
философ стремится
к бдению.
Пиндар
выражается:
«человек сон
тени», у
Софокла
читаем:
Я вижу: мы
все, сколько
нас ни живет,
Лишь
призраков
легкие тени. (1,
IV, 125)
Наряду с
ним всего
достойнее
место Шекспиру:
...Как наши
сновиденья,
Так
созданы и мы,
и жизни
краткой дни
Объяты
сном... (1, IV, 1)
Наконец,
Кальдерон
был до того
проникнут этим
воззрением,
что пытался
выразить его
в своей до
некоторой
степени
метафизической
драме «Жизнь
сон».
Поэтические
сентенции
Лермонтова о
снах как бы
ответ его на
рассуждения, подобные
только что
приведенным.
Правда, преодоление
иллюзий и
трансцендентных
представлений
идеализма
далось
Лермонтову
не легко. В
лирике
Лермонтова
есть не мало
свидетельств
о том. с каким
трудом
реалистический
опыт
одолевал в
нем
заблуждения
идеалистической
веры в
двойственность
мира и иллюзорность
реальной
жизни:
Я верю,
обещаю
верить,
Хоть сам
того не
испытал
Что
время лечит
от страданья,
Что мир
для счастья
сотворен,
Что
добродетель
не названье
И жизнь
поболее, чем
сон!..
Но вере
тёплой опыт
хладный
Противоречит
каждый миг... (1,1, 198)
И все же
иллюзия
трансцендентной
двойственности
мира не
устояла
перед
реалистической
силой мысли
поэта. Вера,
запечатленная
в «Ангеле»,
«Молитве» («В
минуту жизни
трудную»),
уступает
место
сначала
сомнению в
возможности
другой
высшей,
вечной,
бессмертной
жизни, затем
прямому ее
отрицанию.
29
Чрезвычайно
характерно
для
интеллектуального
облика
Лермонтова,
что сомнение
это
рождается у
него ,не из
отвлеченных
положений метафизики
или теории
познания:
против идеалистического
трансценден-тизма
восстает
гуманистическое
чувство
поэта, его
горячая
любовь к
реальному
человеку.
Вечность и
бесконечность,
сулимые
идеализмом,
начинают
теперь
казаться ему
слишком
отрешенными
от человека,
далекими,
безмерными,
чуждыми и, в
этой отрешенности,
бесчеловечными,
ненужными, непонятными,
не
достойными
человека и
его страданий:
Слова
разлуки
повторяя,
Полна
надежд душа
твоя;
Ты
говоришь:
есть жизнь
другая
И смело
веришь ей ... но
я? .
Оставь страдальца!
будь
покойна:
Где б ни
был этот мир
святой,
Двух
жизней
сердцем ты
достойна!
А мне
довольно и
одной.
Тому ль
пускаться в
бесконечность,
Кого
измучил
краткий путь?
Меня
раздавит эта
вечность,
И
страшно мне
не отдохнуть!
Я
сохранил на
век былое,
И нет о
будущем
забот,
Земля
взяла свое
земное,
Она
назад не
отдает!.. (1, I, 371)
О,
вечность,
вечность! Что
найдем мы там
За
неземной
границей
мира?
Смутный,
Безбрежный
океан, где
нет векам
Названья
и числа; где
бесприютны
Блуждают
звезды вслед
другим
звездам.
Заброшен
в их немые
хороводы,
Что
станет
делать
гордый царь
природы...
(1, Ш, 412)
Временами
проявления
этого
скептицизма по
отношению к
вере в
идеальный,
вечный мир поражают
своей
треззой,
реалистической,
почти
прозаической
формулировкой.
Это скепсис в
духе
простоватого
и наивного
насквозь
практического
суждения
народной, по
сути глубоко
материалистической
мудрости. Вот
лермонтовские
варианты
этой мысли:
Как
землю нам
больше небес
не любить?
Нам
небесное
счастье
темно;
Хоть
счастье
земное и
меньше в сто
раз,
Но мы
знаем, какое
оно
Страшна
в настоящем
бывает душе
Грядущего
темная даль;
Мы
блаженство
желали б
вкусить в
небесах,
Но с
миром
расстаться
нам жаль.
Что во
власти у нас,
то приятнее
нам,
Хоть мы
ищем другого
порой,
Но в час
расставанья
мы видим
ясней,
Как оно
породнилось
с душой. (1, I, 310)
Но чаще и
углубленнее
в этом
отрицании
принятого
детской
верой
потустороннего
мира звучат
благородные
гуманистические
мотивы
мысль о том,
что
постулируемый
идеализмом и
верой иной
мир не достоин
страдающего
человека, в
особенности страдающего
художника,
поэта:
Что без
страданий
жизнь поэта?
И что без
бури океан?
Он хочет
жить ценою
муки,
Ценой
томительных
забот.
Он
покупает
неба звуки,
Он даром
славы не
берет. (1,1, 361)
30
Поразительна
оригинальность
лермонтовского
понимания
страдания.
Страдание
превращается
у Лермонтова
из факта
психологического
и морального
в критерий
гносеологический,
в критерий
самой
реальности!
Жизнь,
ощущаемая и сознаваемая
как
страдание,
такова мысль
Лермонтова,
не может быть
всего лишь
иллюзией, не
может не быть
реальной:
Ужель
все было
сновиденье:
И ложе
девы, и окно,
И трепет
милых уст, и
взгляды,
В
которых мне
запрещено
Судьбой
искать себе
отрады?
Нет,
только
счастье
ослепить
Умеет
мысли и
желанья,
И сном
никак не
может быть
Все, в чем
хоть искра
есть
страданья! (1, I, 281)
Так
обоснованное
убеждение в
единственно
истинной и
надежной
реальности
земной, чувственной
жизни
переходит у
Лермонтова в
чувство
живой
привязанности
и любви к реальному
миру, к кругу
его неизбежных
страданий и
забот. Из
принципа деятельной,
активной,
живой жизни
следует принцип
любви ко
всему, что
сопряжено с
реальным
страданием и
борьбой:
Взлелеянный
на лоне
вдохновенья,
С
деятельной и
пылкою душой,
Я не
пленен
небесной
красотой;
Но я ищу
земного
упоенья.
И я к
высокому, в
порыве дум
живых.
И я душой
летел во дни
былые;
Но мне
милей
страдания
земные:
Я к ним
привык и не
оставлю их... (1, I, 51)
Уже в
ранних
стихах
Лермонтова
молитва, обращенная
к
воображаемому
миру
трансцендентных
сил, вытесняется
порой
молитвой-иронией,
молитвой-сарказмом,
выражающими
страстную любовь
поэта к миру
земных
страстей и
мук:
Не
обвиняй меня,
всесильный,
И не
карай меня,
молю,
За то, что
мрак земли
могильный
С ее
страстями я
люблю... (1, I, 65)
Чем
прочней
утверждается
в
нравственном
мире поэта любовь
к
признанному
им
единственно
реальным
миру земных
страданий и
земной
борьбы, тем
более
беспощадной,
скептической,
отрицающей,
граничащей с
глумлением
становится
его мысль о
предполагаемом
идеализмом и
верой нравственном
миропорядке
и о его
виновнике. Чувством
этим
насыщено
стихотворение
«Что толку
жить!.. Без
приключений»:
Конец!
Как звучно
это слово,
Как
много мало
мыслей в нем;
Последний
стон и все
готово,
Без
дальних
справок. А
потом?
Потом
вас чинно в
гроб положут,
И черви
ваш скелет
обгложут,
А там
наследник в
добрый час
Придавит
монументом
вас,
Простит
вам каждую
обиду
По
доброте души
своей,
Для
пользы вашей
и церквей
Отслужит,
верно,
панихиду,
Которой,
я боюсь
сказать,
Не
суждено вам
услыхать,
31
И если вы
скончались в
вере,
Как
христианин,
то гранит
На сорок
лет, по
крайней мере,
Названье
ваше
сохранит.
Когда ж
стеснится уж
кладбище,
То ваше
узкое жилище
Разроют
смелою рукой
И гроб
поставят к
вам другой.
И молча
ляжет с вами
рядом
Девица
нежная! Одна,
Мила,
покорна, хоть
бледна...
Но ни
дыханием, ни
взглядом
Не
возмутится
ваш покой
Что за
блаженство,
боже мой! (1,1, 378379)
Чувство
это
кульминирует,
возвышаясь
до редкой по
серьезности,
по
проникновенной
грусти силы
отрицания в
знаменитой
«Благодарности»:
За всё, за
всё тебя
благодарю я:
За
тайные
мучения
страстей,
За
горечь слез,
отраву
поцелуя,
За месть
врагов и
клевету
друзей,
За жар
души,
растраченный
в пустыне,
За всё,
чем я обманут
в жизни был
Устрой
лишь так,
чтобы тебя
отныне
Недолго
я еще
благодарил. (1, II,
81)
С годами
рано
сказавшийся
в Лермонтове
реализм все
усиливался,
переходя в
воззрение, по
существу,
материалистическое.
Лриметы этой
эволюции
рассеяны и в
лирике и в
прозе
Лермонтова,
особенно в
«Герое нашего
времени».
В романе
этом все
мыслящие его
персонажи откровенно
характеризованы
как материалисты,
скептики, как
люди,
свободные от
каких бы то
ни было
идеалистических
иллюзий. Таков
приятель
Печорина
доктор
Вернер, таков
и сам
Печорин.
Скептицизм и
материализм
Вернера как
бы
оправдываются
ссылкой на
его профессию:
«Он скептик и
матерьялист,
как все почти
медики...» (1, V, 247).
Материализм
Печорина
является
читателю уже
без каких бы
то ни было
смягчающих
остроту
показа
мотивировок.
Более того. В
материалистических
чертах
мышления
Печорина
есть черты
явно автобиографические.
Известному
из переписки
Лермонтова
увлечению
его
френологией
соответствуют
френологические
наблюдения и
заключения
Печорина.
Таково
печоринское
описание
наружности
Вернера: «...он
стриг волосы
под гребенку,
и неровности
его черепа,
обнаженные
таким
образом,
поразили бы
френолога странным
сплетением
противоположных
наклонностей»
(1, V, 248). Очевидно, в
френологии
Лермонтова
поразила
мысль о
телесной,
анатомической
определенности
свойств
характера, относимых
обычно к
свойствам
ума и души.
Этой еще
наивно
выраженной
точке зрения
соответствуют
физиологические
наблюдения
Печорина над
зависимостью
духа от
физического
состояния
тела.
Накануне
дуэли с Грушницким
Печорин,
проведший
всю ночь без
сна, принимает
ванну:
«Погружаясь в
холодный
кипяток Нарзана,
я чувствовал,
как телесные
и душевные силы
мои
возвращались.
Я вышел из
ванны свеж и
бодр, как
будто
собирался на
бал. После этого
говорите, что
душа не
зависит от
тел а!..» (1, V, 297). В
«Тамани»
мысль о связи
между
нравственным
характером и
телесной
организацией
выражена
также совершенно
ясно, хотя
здесь
материалистический
смысл этого
наблюдения
несколько
стушевывается,
так как
третируется
самим автором
почти в
качестве
предрассудка:
«Признаюсь,
я имею сильное
предубеждение
против всех
слепых, кривых,
глухих,
немых,
безногих,
безруких,
горбатых и
проч. Я заме-
32
чал, что
всегда есть
какое-то
странное
отношение
между
наружностью
человека и
его душою:
как будто, с
потерею
члена, душа
теряет какое-нибудь
чувство» (1,V, 230231).
Это,
разумеется,
еще не
продуманный
философский
материализм,
но
проверяемые
опытом и
наблюдением
убеждения,
которые в
конечном
итоге ведут к
материализму.
Было бы,
впрочем,
явной
натяжкой,
если бы мы сделали
попытку
точно
характеризовать
материализм
Лермонтова,
выявить его тип,
очертить его
своеобразие.
Лермонтов быстрыми
и верными
шагами шел к
материалистическому
пониманию
жизни, но
смерть пресекла
слишком рано
и беспощадно
это движение.
Не следует
гипотетически
продолжать
пунктир этого
движения
дальше ясно
видимых его
отрезков.
Поэтому
настоящая
глава,
посвященная характеристике
философского
смысла идей
Лермонтова,
останется, по
существу, так
же
незаконченной,
как не
закончена
рано оборвавшаяся
философская
эволюция
поэта.
III
В первой
главе
настоящей
работы уже
было
показано, как
велика роль
понятия
деятельности,
действия в
мировоззрении
Лермонтова.
Жизнь открывается
ему как
подвиг
предуказанного
предопределением,
но вместе с
тем внутренне
свободного,
несущего на
себе все
бремя социальной,
исторической
и личной
ответственности
действия.
Какой
должна была
стать эта
мысль в
приложении к
действию х
у-дожника,
поэта? Вопрос
этот не
только стоял
в центре
мышления
Лермонтова,
но оставил
глубокий
след в его
творчестве.
Не малая
часть дум
Лермонтова
оказалась
посвященной
вопросу о «деле
поэта» и
современном
ему мире, о
конкретной
задаче его
общественного
подвига.
(Предпосылку
решения
'вопроса
образует
мысль об
исключительно
высоком
назначении
поэта. В
сознании
Лермонтова
поэт не
только отголосок,
отзвук жизни
народной, но
вместе
первенствующая,
зовущая на
борьбу,
указывающая
цели самой
борьбы
нравственная
и интеллектуальная
сила. Утрата
современными
художниками
этого своего
назначения
один из величайших
поводов для
негодования
и презрения
поэта:
В наш век
изнеженный
не так ли ты,
поэт,
Свое
утратил
назначенье,
На злато
променяв ту
власть,
которой свет
Внимал в
немом
благоговенье?
Бывало,
мерный звук
твоих
могучих слов
Воспламенял
бойца для
битвы,
Он нужен
был толпе,
как чаша для
пиров,
Как фимиам
в часы
молитвы.
Твой
стих, как
божий дух,
носился над
толпой
И, отзыв
мыслей
благородных,
Звучал,
как колокол
на башне
вечевой
Во дни
торжеств и
бед народных.
(1,11,42)
Присущее
Лермонтову в
столь
высокой степени
чувство
ответственности
за свое поведение
поэта
вселяло в
него
благородный
страх не за
свою личную
судьбу, а за
судьбу своей
одаренности
среди людей.
Лермонтову
было
известно, что
существуют
обстоятельства,
при которых
даже
непререкаемая
гениальность
может не
найти себе
отклика в слухе,
в чувстве и
уме
современников:
Я
чувствую
судьба не
умертвит
Во мне
возросший
деятельный
гений;
Но что
его на свете
сохранит
От
хитрой
клеветы, от
скучных
наслаждений,
33
От
истощительных
страстей,
От языка
ласкателей
развратных
И от
желаний,
непонятных
Умам
посредственных
людей?
Без пищи
должен яркий
пламень
Погаснуть
на скале
сырой:
Холодный
слушатель
есть камень... (1,
I, 305)
Обычной
трагедией
гениальности
Лермонтов
считал
обреченность
большого
поэта предлагать
свободно
найденную им
правду и красоту
людям,
которые
подходят к
произведениям
искусства с
заранее
усвоенным,
предвзятым,
но чаще всего
ошибочным
представлением
о том, чем
должна быть
истинная
простая красота:
Холодный
слушатель
есть камень,
Попробуй
раз, попробуй
и открой
Ему
источники сердечного
блаженства,
Он
станет
ликовать, что
должно
ощутить;
В
простом не
видя
совершенства,
Он не
привык
прекрасное
ценить,
Как тот,
кто в грудь
втеснить
желал бы всю
природу,
Кто
силится
купить
страданием
своим
И гордою
победой над
земным
Божественной
души
безбрежную
свободу. (1, I, 305306)
Смысл
жизни поэта
во
вдохновенном
труде, а
условие
возможности
такого труда
свобода
поэта от уз и
привязанностей,
пусть далее сулящих
личную
отраду, но
препятствующих
исполнению
высокого
назначения:
Ты
позабыла: я
свободы
Для
заблужденья
не отдам,..
Как
знать, быть
может, те
мгновенья,
Что
протекли у
ног твоих,
Я
отнимал у
вдохновенья!
А чем ты
заменила их?
Быть
может, мыслию
небесной
И силой
духа убежден
Я дал бы
миру дух
чудесный.
А мне за
то
бессмертье
он? (1, I, 338)
Но
личная
свобода,
возможность
беспрепятственного
сообщения
обществу
своего достояния
может быть
оправдана
лишь в том
случае, если
предлагаемое
поэтом
запечатление
личного есть
одновременно
и запечатление
более
широкого,
общественного,
народного.
Эгоцентричный
в общении со
многими, Лермонтов
убежденно
отвергает в
самом принципе
всякий
эгоцентризм
в искусстве.
Беспощадный
к обществу во
всех случаях,
когда это
общество
подавляет
необходимую
для развития
и
процветания
искусства
свободу художника,
Лермонтов
так же
беспощадно
осуждает художников,
которые,
будучи
ослеплены и
порабощены
собственным
«я», подменяют
искусство простым,
пусть даже
искренним,
выражением своей
узко личной
истории, узко
личного содержания
и
чувствования.
В споре таких
художников с
«толпой»
Лермонтов
решительно
на стороне
«толпы»:
реальность
чувств и
страданий, пережитых
в
действительной
жизни, в его
глазах выше
всегда в
известном
смысле условной
реальности
чувств,
только
изображенных:
Какое
дело нам,
страдал ты
или нет?
На что
нам знать
твои
волненья,
Надежды
глупые
первоначальных
лет,
Рассудка
злые
сожаленья?
Взгляни:
перед тобой
играючи идет
Толпа
дорогою
привычной;
На лицах
праздничных
чуть виден
след забот,
Следы не
встретишь
неприличной.
34
А между
тем из них
едва ли есть
один,
Тяжелой
пыткой
неизмятый,
До
преждевременных
добравшийся
морщин
Без
преступленья
иль утраты!..
Поверь:
для них
смешон твой
плач и твой
укор,
С своим
напевом
заученным,
Как
разрумяненный
трагический
актёр,
Махающий
мечом
картонным. (1, II, 45)
Ни
искренность,
ни сила
пережитых
узко личных
страданий не
есть еще
достаточное
условие
значительности
предлагаемых
поэтом
обществу их
запечатлений.
С другой
стороны, и
так
называемая
«низменность»
изображаемого
с точки
зрения
обычных уставов
морали и
эстетики
сама по себе
не означает
непременно,
что
изображаемый
художником
«низкий»
предмет не
достоин
воспроизведения
в искусстве.
Помысли
Лермонтова,
образы искусства
ведут особое
существование:
они не суть
ни простая
наличная
действительность,
ни создание
чистой и
отрешенной
мечты. Им
принадлежит
как бы
срединное
бытие между
непосредственно
осязаемой
реальностью
и между
видением
чистой
идеальности.
Этой
срединностью,
двойственностью
образов
искусства
обусловлены,
по
Лермонтову, чрезвычайно
своеобразные
черты
созданий
поэзии. С
одной стороны,
подлинное
искусство не
боится
воспроизведения
самой
«грязной»
действительности,
так как по
отношению к
воспроизводимому
образы
подлинного
искусства
всегда нечто большее,
чем простое
повторение
натуры, а именноизображение
существенного
и в этом
смысле нечто
мыслью
постигаемое,
идеальное. На
этом
основана
способность
искусства
отвратительное
делать
пленительным,
вводить в прекрасный
мир поэзии:
Чуть
тронешь ты
жезлом
волшебным
Хоть
отвратительный
предмет,
Стихи звучат
ключом
целебным*
И люди
шепчут: он
поэт! (1, II, 20)
С другой
стороны,
будучи
воспроизведением
не случайных
черт
наличной
действительности,
но черт
существенных,
образы
искусства в
этом смысле
не только
представляют
нечто
срединное
между
наличным бытием
и бытием,
постигаемым
мыслью, но
даже обладают
как
запечатление
существенного
как бы
высшей
реальностью:
Взгляни
на этот лик;
искусством
он
Небрежно
на холсте
изображен,
Как
отголосок
мысли
неземной,
Не вовсе
мертвый, не
совсем живой;
Холодный
взор не
видит, но
глядит
И
всякого не
нравясь
удивит;
В устах
нет слов, но
быть они
должны:
Для слов
уста такие
рождены;
Смотри:
лицо как
будто отошло
От
полотна, и
бледное чело
Лишь
потому не
страшно для
очей,
Что нам
известно: не
гроза
страстей
Ему дала болезненный
тот цвет,
И что в
груди сей
чувств и
сердца нет.
О боже,
сколько я
видал людей,
Ничтожных
пред
картиною
моей,
Душа
которых
менее жила,
Чем
обещает вид
сего чела. (1, I, 239)
Подлинно
поэтическая
мысль,
улавливающая
в случайном
существенное,
обладает
именно
поэтому не
только силой
сообщать
мечте
значение
реальности,
но также и
способность
как бы
воскрешать
35
для
воображения
поэта
прошлое,
наделять невозвратно
минувшее
чертами
подлинной реальности,
оживлять
прошедшее:
... пылкая
мечта
Приводит
в жизнь
минувшего
скелет,
И в нем
почти все та
же красота.
Так
любим мы
глядеть на
свой портрет,
Хоть с
нами в нем уж
сходства
больше нет,
Хоть на
холсте
хранится
блеск очей,
Погаснувших
от время и
страстей. (1, I, 178)
Чрезвычайно
интересно
было бы установить
происхождение
краеугольной
эстетической
идеи
Лермонтова
представления
об образах
искусства
как середине
между реальностью
и
идеальностью,
или, иначе,
представления
о реальности
поэтической
мечты и об
иллюзорности
многого из
того, что почитается
за реальное и
натуральное.
Вряд ли
это
представление
может быть
непосредственно
возводимо к
«метаксю»
платонизма, к
известному
учению
платоновско-аристотелевской
эстетики о
срединном
положении
образов
искусства
между
идеальностью
и
реальностью. Во
всяком случае
ни точки
соприкосновения
Лермонтова с
учением
Платона об
эросе как
посреднике между
мирами бытия
и небытия,
прекрасного и
безобразного,
ни точки
соприкосновения
его с учением
«Поэтики»
Аристотеля о
превосходстве
образов
искусства
над
непосредственной
наличностью
натуры не
могут быть
установлены
достаточно
отчетливо и
доказательно
*. Всего
вероятнее
мне
представляется,
что лермонтовская
концепция
образа как
«метаксю», т. е.
представление
о срединном
положении
образа между
реальностью
бытия и идеальностью
мысли,
восходит к
учению
Шиллера о
«видимости» (Schein).
'В пользу
такого
предположения
говорит
также
засвидетельствованный
творчеством
Лермонтова
его
драматургией
и лирикой и
не раз
отмечавшийся
исследователями
факт
сильного
влияния
Шиллера на
раннего
Лермонтова.
Трудно
допустить,
чтобы, изучив
так глубоко
поэзию
Шиллера,
Лермонтов остался
незнакомым с
его
эстетическими
работами и
прежде всего
с «Письмами
об эстетическом
воспитании»,
где взгляд на
искусство как
на
своеобразную
область
«видимости» (Schein),
колеблющуюся
между
реальностью
наличного
бытия и
идеальностью
«играющей»
поэтической
мечты,
выражен
всего полнее
и красноречивее.
Если эта
наша догадка
которой,
разумеется, суждено,
при скудости
имеющихся
материалов
об идейном
генезисе
Лермонтова,
остаться
всего лишь
предположением,
хотя и наиболее
вероятным),
если эта наша
догадка справедлива,
то она должна
найти
подтверждение
в лирических
думах
Лермонтова,
предмет
которых
часто
вопросы об
искусстве,
художнике и
его
произведении.
Кое-какие
подтверждения
бесспорно
могут быть
указаны. Так
же как и
Шиллер, одним
из условий
преодоления
противоречий
и
нестройности
реальной действительности
Лермонтов
считал очищение
и
возвышающее
действие
образов
искусства:
В уме
своем я
создал мир
иной
И
образов иных
существованье;
Я цепью
их связал
между собой,
Я дал им
вид, но не дал
им названья...
(1,1, 26)
Но,
следуя, быть
может, за
Шиллером в
его мысли о
способности
искусства
силой своих
созданий
побороть зло
и
противоречия
цивилизации,
Лермонтов в
этой своей
мысли куда
более
реалистичен,
чем немецкий
поэт-философ.
Лермонтов с
гораздо
большей силой
ощущает
несоизмеримость
жизни и
искусства,
первенство
жизни, неспо-
36
собность
искусства
исчерпать
все бесконечное
содержание и
всю
безмерную
сложность
реальной
действительности.
Даже
восторгаясь
волшебством, с
каким
искусство,
обращаясь к
прошлому, наделяет
его в своих
образах
значением
почти
реального
существования,
Лермонтов не
забывает и об
иллюзорности
образов
искусства, о
границе
присущей им способности
оживления:
Хотя
певец земли
родной
Не раз
уже пел об
нем,
Но песнь
все песнь; а
жизнь все
жизнь!
Он спит
последним
сном. (1, I, 165)
Более
того. В
искусстве, в
жизни
художника Лермонтов
усматривает
искусством
же порождаемый
соблазн.
Пленительность
образов искусства,
поглощающая
жажда
творчества
может при
известных
условиях
стать
причиной такого
самозабвения
художника,
такой порабощенности
его
восторгами
искусства,
при которых
художнику
грозит
полная
утрата сознания
своего
жизненного, а
не художественного
только
назначения и
подвига.
Художник,
утративший
сознание
первенства
жизни,
должен, как к
спасению,
стремиться к
ослаблению, к
погашению в
себе
чрезмерно
разросшегося
пожара искусства:
Но угаси
сей чудный
пламень,
Всесожигающий
костёр,
Преобрати
мне сердце в камень,
Останови
голодный
взор;
От
страшной
жажды
песнопенья
Пускай,
творец,
освобожусь,
Тогда на
тесный путь
спасенья
К тебе я
снова
обращусь. (1,1, 65)
Это уже
не
шиллеровская
мысль о
красоте, которой
суждено
спасти мир от
зла. Это
призыв
спастись от
избытка
красоты,
мешающего
разглядеть избыток
зла,
наличествующего
в жизни. Через
мир красоты
поэт рвется в
мир реальной
жизни, т. е. в
мир
страданий и
борьбы. (Как в
вопросе о
реальности
критерием
доподлинного
существования
Лермонтов
признал
реальность
страдания,
так и в
вопросе о
критерии
достойной
художника
жизни он
высшей мерой
ее достоинства
признал
жизнь,
исполненную
страданья и
борьбы:
Под ним
струя
светлей
лазури, Над
ним луч солнца
золотой: А он,
мятежный,
просит бури,
Как будто в
бурях есть покой!
Это
подчинение
художественных
критериев
красоты
высшим
критериям
достойной
мыслящего
поэта,
исполненной
страдания и
борьбы жизни
вовсе не
знаменует
отказа от назначения
поэта и от
захвата его
искусством. «Слово»
поэта
остается
«делом» поэта
и после того,
как ему
открылось
более
высокое назначение.
Писание
остается
любимейшим
трудом, а
думынеотвратимым
уделом
существования
художника:
Я
чувствую, что
это труд
ничтожный:
Не
усладит
последних он
минут.
Но так и
быть пишу
пока
возможно
Сей труд
души моей
любимый труд!
(1, I, 109)
Нет слез
в очах, уста
молчат,
От
тайных дум
томится
грудь,
И эти
думы вечный
яд,
Им не
пройти, им не
уснуть! (1, I, 111)
В свете
этих мыслей
более
понятным
становится
отмеченное
уже выше и
могущее
показаться
странным предубеждение
Лермонтова
против
чрезмерно
искренних
эготических
самопризнаний
и изъявлений
в ие-
37
кусстве.
Обществу не
только не
интересно выражение
в искусстве,
пусть даже
искреннее,
слишком
личных
чувств и
признаний.
Выражение
это, кроме
своей
ненужности,
само по себе
слишком
трудно,
слишком недоступно
самому
художнику.
Поэт всегда
должен быть
способен к
сомнению и к
проверке, действительно
ли то, что он
принимал в
себе за
вдохновение
художника, им
является, не
есть ли оно
чисто личная
взволнованность,
представляющая
факт его
личной
судьбы, но не
факт
искусства:
Не верь,
не верь себе,
мечтатель
молодой,
Как язвы
бойся
вдохновенья...
Оно
тяжелый бред
души твоей
больной,
Иль
пленной
мысли
раздраженье
В нем
признака
небес
напрасно не
ищи:
То кровь
кипит, то сил
избыток!
Скорее
жизнь свою в
заботах
истощи,
Разлей
отравленный
напиток! (1, II, 44)
Все, что
слишком
легко и
непроизвольно
отливается в
подобия форм
искусства,
чаще всего не
есть вовсе
искусство и
должно быть
отнесено к
силе, с какой
стремится
высказаться
непосредственное
переживание,
непосредственный
интерес
жизни. Искусство
трудно.
Запечатление
жизни в образах
искусства
часто дается
путем
упорной борьбы
и труда, да и в
окончательном
результате
не выражает
всей полноты
открывшейся поэту
мысли или
испытанного
им чувства.
Искусству
свойственна
стыдливость
страсти,
стыдливость
страдания,
остерегающаяся
однажды найденное
счастливое,
т. е. верное,
точное, выражение
чувства
немедленно
делать
всеобщим
достоянием:
Случится
ли тебе в
заветный,
чудный миг
Открыть
в душе
давно-безмолвной
Еще
неведомый и
девственный
родник,
Простых
и сладких
звуков
полный,
Не
вслушивайся
в них, не
предавайся
им,
Набрось
на них покров
забвенья:
Стихом
размеренным
и словом
ледяным
Не
передашь ты
их значенья.
Закрадется
ль печаль в
тайник души
твоей,
Зайдет
ли страсть с
грозой и
вьюгой,
Не
выходи тогда
на шумный пир
людей
С своею
бешеной
подругой; Не
унижай себя.
Стыдися
торговать то
гневом, то
тоской послушной,
И гной
душевных ран
надменно
выставлять
На диво
черни
простодушной.
(1, II, 4445)
Лермонтов
первый в
ряду
крупнейших
русских
поэтов,
которые
изведали на
собственном
опыте всю
силу
сопротивления
слова, не поддающегося
совершенно
точному и
адекватному
выражению.
Лермонтову
были
известны противоречия
мысли и
чувства, с
трудом
уступающие
усилию запечатлеть
их
средствами
поэтического
языка:
... есть
красоты
В таких
картинах;
только
перенесть
Их на
бумагу
трудно: мысль
сильна,
Когда
размером
слов не
стеснена,
Когда
свободна, как
игра детей,
Как арфы
звук в молчании
ночей! (1, I, 181)
Холодной
буквой
трудно
объяснить
Боренье дум.
Нет
звуков у
людей
Довольно
сильных, чтоб
изобразить
Желание
блаженства.
Пыл
страстей
Возвышенных
я чувствую,
но слов
Не
нахожу ив
этот миг
готов
Пожертвовать
собой, чтоб
как-нибудь
Хоть
тень их
перелить в
другую грудь.
(1,1, 173174)
38
Отсюда в
дальнейшем
развитии
русской поэзии
и эстетики
пошли и «Silentium»
Тютчева и
поэтические
признания
символистов,
изнемогавших
в борьбе с
неадекватностью
слова, с несоразмерностью
искусства и
жизни.
Как поэт,
наделенный
редкой силой
самосознания,
Лермонтов
великолепно
знал сложную
природу
образов
искусства,
которые одновременно
являются и
даром
поэтического
вымысла,
свободно
комбинирующей
фантазии и
точным до
беспощадности,
трезвым до
глубин
натуры
изображением
действительности.
Для него не
было ничего
удивительного
в откликах
читателей на
центральный
образ «Героя
нашего
времени». Со
снисходительным
добродушием
и терпением
гения он
преподал (в
предисловии
ко второму
изданию
романа) несколько
уроков
элементарной
эстетики. Он
разъяснял,
что образ
Печорина
создан не как
изображение
лица, но как
портрет
целого
поколения,
что, рисуя
недостатки
этого
поколения, автор
отнюдь не был
обязан
указывать
средство для
их
исправления,
что в
искусстве
слишком
буквальное
понимание
его образов
такой же
признак
культурной
недозрелости,
как и
требование,
чтобы
изображение
немедленно
сопровождалось
нравоучительным
комментарием
или указкой
автора.
Вместе с
Лермонтовым
преждевременно
погиб не
только ум
огромной потенциальной
философской
силы, но и
первоклассный
в потенции
эстетик. Как
бы отвечая
позднейшему
требованию
французского
философа
Гюйо, автора
книги
«Искусство с
социологической
точки
зрения»,
Лермонтов
слишком
хорошо знал,
насколько
жизнь
превосходит
искусство, и
именно
потому знал,
что надо
делать, чтобы
внести как
можно больше
жизни в искусство.
Ему в
совершенстве
была ведома
эстетическая
диалектика
одновременные
и адекватность
и
неадекватность
образов искусства,
неподвластность
их нормам
натуралистической
истины, под
видом
полноты лишь
обедняющей
действительность,
и
подчиненность
их вольной и
широкой
правде
художественного
вымысла той
правде,
которая
открывает и
запечатлевает
не явное, но
существенное,
одновременно
и свободна, и
определяется
непреложной
необходимостью
следования
истине.
Глубина
эстетической
рефлексии
питалась в
Лермонтове
широтой
художественной
даровитости.
Законы
искусства
поэзии, в
котором
Лермонтов
процвел
короткой
жизнью гения,
поверялись
им в
разностороннем
художественном
опыте, обращением
к достоянию
других
искусств. Лермонтов
яе только
понимал
смысл
видимого как
великий
писатель. Ему
было
известно искусство
запечатления
видимого в
форме и цвете
живописного
изображения.
Ему известны
были также
законы, по
которым
превращаются
в искусство
тоны
звучащего,
поющего мира.
Нескольких
поразительных
по точности и
глубине
суждений об
искусстве,
оставшихся от
Лермонтова,
разумеется,
недостаточно,
чтобы с
правом
говорить об
эстетическом
мировоззрении
поэта. Но тех
же суждений
более чем
достаточно,
чтобы понять,
до какой мощи
художественного
самосознания
мог бы
подняться ум
поэта.
МИРОВОЗЗРЕНИЕ
ТОЛСТОГО
I
ОСНОВНОЕ
ПРОТИВОРЕЧИЕ
Искусство
Льва
Толстого
великого
реалистического
писателя
неотделимо
от его мировоззрения.
В романах,
рассказах,
которые
принесли ему
славу
великого художника,
гениально
рисуя
действительность,
Толстой
изображал те
самые
противоречия
русской
пореформенной
и
дореволюционной
жизни,
которые
рассматриваются
в его произведениях,
посвященных
вопросам
педагогики,
философии
истории,
публицистики,
морали,
религии.
И
наоборот. В
тех самых
художественных,
философских,
публицистических,
моральных и религиозных
сочинениях,
которые
содержат проповедь
«толстовства»
со всеми его
заблуждениями,
иллюзиями и
противоречиями,
Толстой, как
показал
Ленин,
«поразительно
рельефно воплотил...
и как
художник, и
как
мыслитель и проповедник
черты
исторического
своеобразия
всей первой
русской
революции, ее
силу и ее
слабость» (2, 20, 20).
Существует
глубокая правомерность
в том, что
Ленин в качестве
материала,
обосновывающего
выводы его
замечательных
статей о
Толстом, привлекает
не только
публицистические
и религиозно-моральные
трактаты
Толстого, но также
и такие
художественные
произведения,
как «Люцерн»,
«Анна
Каренина»,
«Крейцерова соната».
Мировоззрение
Толстого
сложилось,
питаясь
впечатлениями
жизни
общественной
и личной.
Большую
часть своего
века он
провел в деревне.
Он прекрасно
знал труд,
бытовые условия
русского
крестьянина,
его отношение
к помещикам,
к властям. В
молодости он
служил в
армии на
Кавказе и во
время
(Крымской войны
участвовал в
обороне
Севастополя.
Дважды он
пережил
страстное
увлечение
вопросами
народной
школы. Он
изучал путем
личного
знакомства
постановку
школьного
дела в западных
странах,
организовал
в Ясной Поляне
собственную
школу, был ее
учредителем
и учителем,
издавал
педагогический
журнал. Он с
увлечением
занимался
некоторое
время сельским
хозяйством.
Как художник
он всю жизнь писал,
оставаясь
всегда
реалистом, но
изменяя от
периода к
периоду
реалистический
метод письма.
Проживая на
исходе XIX века
недолгое время
в Москве, он
погрузился в
изучение страшного
мира
городской
бедноты,
обитателей
Хитрова
рынка,
принимал
участие в
переписи
московского
населения.
Уйдя в
вопросы религии,
он страстно
отрицает
богословие православной
церкви,
критикует
раздел за
разделом
«Догматическое
богословие»
Макария и противопоставляет
ему свой
соединенный перевод
четырех
евангелий.
Как моралист
и религиозный
проповедник
он изучает не
только
христианскую
ли-
40
тературу,
но и
литературу
религий
Востока.
Отрицая
революцию
как метод
решения
социальных
вопросов, он
все же возвысил
на весь мир
свой голос
против террора
правительственной
реакции.
Разнообразие
и сила,
внутренний
жар всех этих
увлечений и
занятий не
были
недостатком
сосредоточенности,
«разбрасыванием»
в разные
стороны. В
мировоззрении
Толстого был
живой центр,
к которому
тяготели все
эти
различные
увлечения и
которым они
объединялись.
И ранние
повести и
рассказы
Толстого, и
большие
романы его
зрелой поры,
и
художественные
произведения,
написанные в
старости, с
«Воскресением»
в центре,
задуманы и
созданы в
страстных
поисках
ответов на те
же вопросы,
которые
Толстой
ставил перед
собой в своих
дневниках, в
своей
переписке, в
статьях и
трактатах на
публицистические
и
философско-религиозные
темы. Иные из
этих
философских, социальных,
этических
трактатов
кажутся прямым
продолжением
исследований,
которые в
художественной
форме начаты
в близких к
ним по
времени, а
иногда и в
отдаленных художественных
произведениях.
«Исповедь» изложение
хода мыслей и
волнения
чувств,
сообщающих
драматическое
развитие
образу Константина
Левина в
«Анне
Карениной» в
той части
романа, где
обретший
счастье в
женитьбе и в
семье Левин с
ужасом и
недоумением
ощущает, как
вопрос о
смысле
личной,
слишком личной
жизни
парализует в
нем волю к
самой жизни.
И к той же
философской
тревоге
Толстого-Левина
тяготеют
мысли,
которые
Толстой развивает
в
одновременной
с работой над
«Анной
Карениной»
переписке с
Н. Н.
Страховым. От
сатирического
изображения
оперы ь
«Войне и мире»,
показанной
через
восприятие
Наташи
Ростовой,
тянется
ясная нить к
дышащему негодованием
и гневом
изображению
репетиции
оперы в
трактате «Что
такое
искусство?». В
том же
трактате мы
находим
продолжение
идей,
развитых в
рассказе-статье
«Кому у кого учиться
писать:
крестьянским
ребятам у нас,
или нам у
крестьянских
ребят?»,
созданном еще
в период
первого
увлечения
педагогической
деятельностью.
Та же
«Исповедь», из
которой
видно, какое
значение для
философского
мировоззрения
Толстого
имел вопрос
об образе
жизни,
способном
преодолеть
парализующую
силу страха
смерти,
по-новому
освещает
ранний
рассказ
Толстого «Три
смерти», рассуждения
о смерти
князя Андрея
Болконского
накануне
Бородина в
«Войне и мире»
и многое
другое. С еще
большей
силой
выражен ужас
перед
надвигающимся
неотвратимым
уничтожением
в «Смерти
Ивана
Ильича». В
гениальных по
исполнению
народных
рассказах и в
особенности
в
«Воскресении»
реалистическое
искусство
Толстого
становится
способом потрясающего
показа тех
самых зол
социальной
жизни капиталистической
России,
которые
Толстой вскрывает
в другой
форме
посредством
трактатов и
статей: («О
переписи в
Москве», «Так
что же нам
делать?»,
«Царство
божие внутри
вас», «Рабство
нашего
времени» и
других
произведений.
Чем бы ни
занимался
Толстой, что
бы он ни
изображал в
своих
романах,
пьесах, рассказах,
какие бы
трактаты он
ни писал, во
всех них он
пытался
уяснить себе
один вопрос,
который
представлялся
ему самым
важным
вопросом
истории. Это
вопрос о том,
в каком
направлении
идет
перестройка
русской
жизни,
начавшаяся с
освобождения
крестьян в 1861
году и
представлявшая
процесс
развития
капитализма
в России не
только в
России
городской,
России
рабочих,
фабрикантов
и купцов, но
также и
прежде всего
в России деревенской,
крестьянской.
Толстого
занимал не
только
вопрос о том,
в каком
направлении
идет
развитие, как
«укладывается»
новый строй,
но также и
вопрос о том,
каким должно быть
отношение к
этому
процессу его
участников и
свидетелей.
41
Ленин
показал, что,
гениально
изображая самый
процесс укладывания
«переворотившегося»
после 1861 года в
России строя,
Толстой
глядел на
него глазами
не помещика,
не офицера,
не чиновника
и не
литератора, а
глазами
патриархального
русского
крестьянина
того самого
крестьянина,
который, не
успев
освободиться
полностью от
гнега
крепостнического,
попал в условия
еще большего
и
разорительного
капиталистического
гнета. В этих
условиях сознание
патриархального
крестьянина
оказалось
сознанием
противоречивым.
Вековое
притеснение
помещиков,
помещичьей
государственной
власти,
прислуживавшего
этой власти
духовенства
привело
крестьянство
на край
полного разорения
и накопило в
нем огромные
потенциальные
силы
революционного
взрыва. С великой
силой
нравственного
убеждения и
осуждения
Толстой
изображал
картину
бедственного
положения
крестьянского
народа,
положения,
порожденного
двойным
угнетением
помещичьим и
капиталистическим.
Он видел, что
этому угнетению
служат, на
оправдание
его направлены
и
государство
со своими
учреждениям-!,
и власть со
своим
аппаратом
насилия, и
суд, и церковь,
и
духовенство,
и
прислуживающая
богатству
наука,
забавляющее
и
развлекающее
имущих и
праздных
людей
искусство,
литература.
Толстой был
свободен от
гипноза авторитета,
который в
глазах
большинства
людей делает
освященными
и
неприкосновенными
учреждения,
общественные
отношения,
верования и убеждения,
сложившиеся
в длительном
процессе
развития
общества.
Толстой
мыслил не исторически,
обращался к
представлениям
и оперировал
понятиями,
которые
казались ему
«вечными»,
«изначальными»,
запечатленными
в самом
существе
«разума»,
нравственного
и религиозного
сознания
человечества.
Собственные
построения,
воздвигавшиеся
Толстым на этой
призрачной
основе,
рушились при
первом
прикосновении
исторического
воззрения. Но
в то же время
удивительная
свобода Толстого
от взглядов,
традиционно
повторявшихся
и владевших
обычным
сознанием
людей,
загипнотизированных
сложившимися
порядком и господствующими
отношениями,
делала Толстого
свободным,
смелым, не
страшащимся
даже крайних
выводов в
критике. Было
бы ошибкой, если
бы смелость и
беспощадность
толстовской
критики
русского
капитализма
мы пытались
понять
исходя
только из
личных черт и
особенностей
характера и
гения
Толстого.
Критика эта
отражала
образ чувств
и мыслей
многих миллионов
русских
крестьян в
период, когда
для них кончилась
неволя
крепостническая
и надвигалась
с
поразительной
быстротой и
силой неволя
капиталистическая.
«Толстой
велик, писал
Ленин, как
выразитель
тех идей и
тех настроений,
которые
сложились у
миллионов
русского
крестьянства
ко времени
наступления буржуазной
революции в
России» (2, 17, 210).
«...Совокупность
его взглядов,
взятых как
целое, выражает
как раз
особенности
нашей
революции, как
крестьянской
буржуазной
революции» (2, 17, 210).
«Критика
Толстого,
разъяснял
Ленин в другом
месте,
потому отличается
такой силой
чувства,
такой страстностью,
убедительностью,
свежестью,
искренностью,
бесстрашием
в стремлении
«дойти до
корня», найти
настоящую
причину
бедствий
масс, что эта
критика
действительно
отражает
перелом во
взглядах
миллионов
крестьян, которые
только что
вышли на
свободу из
крепостного
права и
увидели, что
эта свобода
означает
новые ужасы
разорения,
голодной смерти,
бездомной
жизни среди
городских
«хитровцев» и
т. д.» (2, 20, 40).
Но
критика
Толстого,
поражавшая
его современников
из класса
дворянства,
из
буржуазного
класса и их
интеллигенции,
была
противоречива.
Отражая черты
исторического
своеобразия
пореформеа-
42
ной
эпохи в
России, а
также «черты
исторического
своеобразия
всей первой
русской революции»,
критика
Толстого
отразила, как
показал
Ленин, «ее
силу и ее
слабость».
Именно
потому, что
Толстой
глядел на
русскую
жизнь
глазами
патриархального
крестьянина,
он разделял
свойственное
патриархальному
крестьянину
непонимание
действительных
причин
надвинувшегося
на него после
1861 года нового
бедствия
бедствия
капитализма.
Не понимая
причин
кризиса, он
не понимал и
того, как
следовало
бороться
против него,
кто мог и
должен был
оказаться
его
союзником в
этой борьбе и
в чем условия
возможной
победы.
Наивность
и
патриархальность
мировоззрения
Толстого
стояли в
резком
противоречии
с духом
протеста и
критики. В
тех же
статьях о
Толстом, в
которых
Ленин
характеризовал
сильные
стороны
толстовской
критики капитализма,
Ленин вскрыл
всю ее
слабость и несостоятельность.
Как силу
Толстого
Ленин отметил
«его горячий,
страстный,
нередко
беспощадно-резкий
протест
против
государства
и полицейски-казенной
церкви», «его
непреклонное
отрицание
частной
поземельной
собственности...»,
«его
непрестанное,
полное самого
глубокого
чувства и
самого
пылкого возмущения,
обличение
капитализма...»
(2, 20, 2021).
Но тут же
Ленин
показал, что
в учении
Толстого
сказалась и
другая
сторона
крестьянского
мировоззрения:
Толстой,
«горячий
протестант,
страстный
обличитель,
великий критик
обнаружил
вместе с тем
в своих
произведениях
такое
непонимание
причин
кризиса и средств
выхода из
кризиса,
надвигавшегося
на Россию,
которое
свойственно
только патриархальному,
наивному
крестьянину,
а не европейски-образованному
писателю» (2, 20, 21).
Учение
Толстого,
возникшее
как попытка
великого
художника
осознать
противоречия
жизни народа,
среди
которого он
жил, который
он уважал и
любил всем
сердцем,
содержало в
себе не
только
критику
капитализма.
Оно, кроме
того,
заключало в
себе
некоторые
социалистические
элементы.
Однако
социалистические
черты учения
Толстого
были чертами
социализма
утопического.
Еще важнее
было то, что социалистические
элементы
учения
Толстого
выражали не
точку зрения
классов,
шедших на
смену
буржуазии, а,
напротив,
точку зрения
классов, на
смену
которым
пришла буржуазия.
Элементом
социализма в
учении
Толстого было
разделявшееся
Толстым с
массами крестьянства
стремление
«уничтожить
все старые
формы и
распорядки
землевладения,
расчистить
землю,
создать на
место
полицейски-классового
государства
общежитие
свободных и
равноправных
мелких
крестьян...» (2, 17, 2111).
Но в то же
время
толстовский
взгляд на
совершенную
форму
общежития,
которую
Толстой противопоставлял
отношениям,
господствовавшим
в
действительности,
есть, как
разъяснил
Ленин, «лишь
идеологическое
отражение
старого («переворотившегося»)
строя, строя
крепостного,
строя жизни
восточных
народов» (2, 20, 101).
Толстой
черпает
основные
черты
чаемого им
общежития из
восточного
уклада,
который во второй
половине XIX
века еще
существовал
в Азии, но
который
быстро
разрушался капитализмом
в России.
Именно в
восточном характере
идеологии
толстовства
находят свой
корень «и
аскетизм, и
непротивление
злу насилием,
и глубокие
нотки
пессимизма, и
убеждение,
что
«все-ничто,
все
материальное
ничто» («О
смысле
жизни», стр. 52), и
вера в «Дух»,
«начало
всего», по
отношению к
каковому
началу
человек есть
лишь
«работник»,
«приставленный
к делу
спасения
своей души», и
т. д.» 1(2, 20, 102). Все эти
черты,
характерные
для учения Толстого,
пессимизм,
доктрину
непротивления,
призыв к
«Духу»сле-
43
дует
рассматривать,
как доказал
Ленин, «не как
индивидуальное
нечто, не как
каприз или
оригинальничанье,
а как
идеологию
условий
жизни, в
которых
действительно
находились
миллионы и
миллионы в
течение
известного
времени» (2, 20, 103). В
своем
реальном
историческом
содержании
толстовство
является
«именно
идеологией
восточного
строя,
азиатского
строя...» (2, 20, 102).
Поэтому
нет никакого
противоречия
между утверждением
Ленина, что
Толстой был
зеркалом
русской
революции, и
его же
утверждением,
что
«толстовские
идеи, это
зеркало
слабости,
недостатков
нашего
крестьянского
восстания,
отражение
мягкотелости
патриархальной
деревни и
заскорузлой
трусливости
«хозяйственного
мужичка» (2,17,212).
Толстой
одновременно
отразил
«накипевшую
ненависть,
созревшее
стрехмление
к лучшему,
желание
избавиться
от прошлого,
и незрелость
мечтательности,
политической
невоспитанности,
революционной
мягкотелости»
(2, 17,212).
II
ПРОТИВОРЕЧИЯ
КУЛЬТУРЫ В
СОЗНАНИИ
ПИСАТЕЛЯ
1.
ПРОТИВОРЕЧИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПРОГРЕССА И ДЕГРАДАЦИИ
Гениальные
статьи
Ленина о
Толстом
содержат
целую
программу
дальнейших
изучений. Необходимо
в
подробностях
исследовать,
каким
образом
вскрытое
анализом
Ленина основное
противоречие
мировоззрения
Толстого
обнаруживается
и
видоизменяется
каждый раз в
каждой новой
области,
которой
Толстой
касался в
качестве
художника и
мыслителя.
Одной из
важнейших
сторон
мировоззрения
Толстого
было
развитое им
понимание
культуры и
оценка
современной
Толстому
культуры
западноевропейского
и русского
общества. В
сознании Толстого
коренным
противоречием
русской (и западноевропейской)
жизни было
противоречие
между
назначением
культуры
(техники, науки,
просвещения)
служить
потребностям
трудового
народа,
прежде всего
крестьянства,
и
действительным
положением
культуры, которое,
в условиях
пореформенной
России,
состояло в
том, что н а
деле
культура
наука,
техника, образование,
искусство
служили
только интересам
ничтожного
меньшинства
правящих и
образованных
классов.
Противоречие
это стало
основой всей
толстовской
критики
капиталистической
культуры,
начиная от
«Люцерна» и
педагогических
статей 60-х
годов вплоть до
таких
поздних
трактатов,
как «Так что
же нам
делать?» и «Что
такое
искусство?».
Разделение
труда и
специализация,
техника,
философия,
догматы й
культ
христианской
религии,
церковь,
естественные
и общественные
науки,
медицина,
искусство,
педагогика ничто
не осталось
не
затронутым
критикой Толстого.
По редкой
чуткости ко
всякой фальши
и лицемерию,
по смелости и
горячей силе убеждения
критика
Толстого
оставляет позади
себя
отрицание
культуры,
которое
развил Руссо
и которое в
сравнении с
толстовской
критикой
полно
аффектации,
рисовки,
чувствительной
риторики.
Люди,
поверхностно
знакомые с
Толстым, не раз
обвиняли его
в
нигилистическом
отрицании
культуры. Но
это
обвинение
совершенно
не
основательно.
44
Толстовское
осуждение
культуры не
злоба варвара,
который,
будучи сам
вне культуры,
не дойдя еще
до культуры,
отрицает ее
как нечто ему
совершенно
чуждое и
ненавистное.
Своеобразие
Толстого в
том, что,
будучи европейски
образованным
писателем,
Толстой в то
же время
глядит на
явления
культуры и
глазами патриархального
крестьянина,
который видит,
что плоды
культуры
остаются для
него недоступными
в тех
условиях
общества, в
какие он
поставлен.
Будучи почти
совершенно
недоступными
вследствие
его бедности
и неграмотности,
эти плоды
культуры
капиталистического
общества
остаются для
крестьянина
или совершенно
вне поля его
зрения (как,
например,
наука,
философия,
симфоническая
музыка и т. п.),
или там, где
он с ними
встречается,
остаются
непонятными
и потому
осознаются
как нечто ему
чуждое и
ненужное.
Этот
критерий
оценки
явлений и
результатов
культуры
капиталистического
общества
Толстой
выдвинул уже
в 1862 году, в
период своего
увлечения
школьной
деятельностью
и пропагандой
педагогической
системы,
сложившейся
в яснополянской
школе. В
статье
«Ясно-Полянская
школа за
ноябрь и
декабрь
месяцы»
Толстой за критерий
того, что
нужно народу
и что хорошо
для народа,
принимает не
свой
собственный
взгляд и не
точку зрения
какой-нибудь
группы людей
своего крута
или
какого-нибудь
учения, а
точку зрения,
на которой,
как видит и
как знает
Толстой,
стоит сам
крестьянский
народ: его
критерий и
его понятия о
том, что хорошо
и что дурно.
«...Предлагая
народу
известные
знания, в нашей
власти
находящиеся,
писал
Толстой, и
замечая
дурное
влияние,
производимое
ими на него, я
заключаю не то..,
что народ не
дорос до
того, чтобы
воспринять и
пользоваться
этими
знаниями так
же, как и мы, но
то, что
знания эти
нехороши,
ненормальны,
и что нам
надо с помощью
народа
выработать
новые,
соответственные
всем нам, и
обществу и
народу,
знания» (5, 8, 112).
И тем же
критерием
Толстой
руководился
в 1906 году, когда
он разъяснял,
что народ,
культурные
запросы и
интересы
которого он
всегда имеет
в виду, есть
именно русский
крестьянский
народ:
«Только
представьте
себе ясно
этот
стомиллионный
русский земледельческий
народ,
который,
строго говоря,
один
составляет
тело
русского
народа, и
поймите, что
вы все, и
профессора, и
фабричные
рабочие, и
врачи, и
техники, и
газетчики, и
студенты, и
помещики, и
курсистки, и
ветеринары, и
купцы, и
адвокаты, и
железнодорожники,
те самые,
которые так
озабочены
его благом,
что вы все
только
вредные
паразиты его
тела,
вытягивающие
из него его
соки, загнивающие
на нем и
передающие
ему свое гниение»
(5,36,307).
Основную
ошибку
историков,
публицистов,
философов,
педагогов,
рассуждавших
и писавших о
культуре и об
ее прогрессе,
Толстой видит
в том, что все
они считали
обязательным
и
благодетельным
для общества
лишь то понятие
о прогрессе и
тот критерий
культурного
прогресса,
который они
выработали
отдельно от
народа, не
считаясь
всерьез с его
запросами и
взглядами.
Этот
критерий
блага они
стремятся
навязать
сверху в
порядке
принуждения
всему народу.
Но до тех
пор,
рассуждает
Толстой, пока
понятие о
прогрессе и о
благе
общества не
будет признано
и принято
самим
народом, пока
оно разделяется
только
людьми,
принадлежащими
к ничтожной
части
общества к
господствующему
меньшинству,
понятие это
не может иметь
в глазах
подавляющего
большинства
общества
никакой
убедительности
и не может
почитаться
для него
обязательным.
«...Кто ре-
45
шил,
спрашивает
Толстой, что
этот прогресс
уведет к
благосостоянию?
Для того,
чтобы поверить
этому, мне
нужно, чтобы
не исключительные
лица,
принадлежащие
к исключительному
классу:
историки,
мыслители и
журналисты
признали это,
но чтобы вся
масса народа,
подлежащая
действию
прогресса,
признала, что
прогресс
ведет ее к
благосостоянию.
Мы же видим
постоянно
противоречащее
этому
явление» (б, 8, 334).
«Народ, т. е.
масса народа,
9/10 всех
людей,
постоянно
враждебно
относятся к
прогрессу и
постоянно не
только не
признают его
пользы, но
положительно
и сознательно
признают его
вред для них»
(5,8,335).
С особой
силой
Толстой
подчеркивает
то, что
деление
людей на
меньшинство, признающее
прогресс, и
большинство,
отрицающее
его,
совпадает с
основным и
решающим в
глазах
Толстого
делением
общества на
класс
праздных,
богатых,
господствующих
и класс
трудящихся,
бедных,
подчиненных.
«Только одна
небольшая
часть
общества
вериг в прогресс,
проповедует
его и
старается
доказать его
благость.
Другая,,
большая
часть
общества,
противодействует
прогрессу и
не верит в благость
его» (5, 8, 336).
«Кто,
спрашивает
Толстой, та
малая часть,
верующая в
прогресс? Это
так
называемое
образованное
общество,
незанятые
классы по
выражению
Бокля. Кто та
большая
часть, не
верующая в
прогресс? Это
так
называемый
народ,
занятые классы.
Интересы
общества и
народа
всегда бывают
противоположны.
Чем выгоднее
одному, тем
невыгоднее
другому» (5, 8, 336337).
Не входя
в анализ
чрезвычайно
сложного
вопроса о
прогрессе,
Толстой
решительно
становится
на точку
зрения
большинства.
Он догматически
утверждает,
будто «для
малой части общества
прогресс
есть благо;
для большей же
части он есть
зло» (5, 8, 336).
Утверждение
это Толстой
выводит из
того, что «все
люди сознательно
или
бессознательно
стремятся к
благу, или
удаляются от
зла» (5, 8, 336).
Протест Толстого
против
современной
ему культуры
и прогресса
был
протестом
против форм
прогресса,
навязываемых
большинству
народа
господствующим
над ним
меньшинством.
Толстовский
протест
против
культуры и прогресса
не блажь
чудака и не
примитивное
слепое
отрицание. В
протесте
этом
отразилась
оценка
чрезвычайно
важной черты
русского
капитализма,
выраставшего
в рамках крепостничества
чудовищной
неравномерности
в распределении
культурных
завоеваний и
достижений,
которые
действительно
оставались
недоступными
большинству,
в то время
как все отрицательные
для народа
следствия
развития
капитализма
внедрялись в
жизнь народа
с угрожающей
быстротой и
казались
народу, не
знавшему действительного
средства
избавления
от зла,
непреодолимыми.
В
отрицании
прогресса у
Толстого
односторонне
отразилось
глубоко
верное
наблюдение
реальных
фактов и
процессов
русской жизни.
Толстой
свободен от
иллюзий
некритического
почитания
буржуазной
культуры,
рассматриваемой
в отвлечении
от реальных
условий
жизни
угнетенного
и темного
народа.
Толстой
всюду видел
тысячи фактов,
доказывавших,
что блага и
приобретения
культуры,
создаваемые
в городах
городскими
классами,
отнюдь не
полной мерой
возвращаются
тому самому
крестьянскому
народу,
который своим
земледельческим
трудом
создает и поддерживает
условия,
необходимые
для производства
вообще всех
культурных
приобретений.
Толстой
не только
видит, что
при
настоящем положении
вещей народ
не
пользуется,
фактически
не может
пользоваться
большей
частью культурных
благ,
создаваемых
городскими
классами и
людьми
46
умственного
труда.
Толстой
видит также,
что при
нынешнем
порядке
вещей народ
не признает,
еще не хочет
признавать
за
продуктами
городской
цивилизации
наукой,
искусством,
техникой
значения
подлинных
культурных
благ. Не
признает
народ за ними
этого
значения,
во-первых,
потому, что не
имеет
экономической
возможности
ими пользоваться,
во-вторых,
потому, что
вследствие
недостатка
грамотности
и
просвещения
в большинстве
случаев
народ даже не
знает о существовании
этих благ
философии,
науки, литературы
и т. д.
Но,
сделав это
наблюдение,
Толстой даже
не стремится
выяснить, при
каких
условиях блага
культуры,
ныне недоступные
народу и даже
чуждые его
пониманию, могут
стать его
достоянием,
могут быть
возвращены
тому самому
народу,
которому они
принадлежат,
и могут стать
источником и
условием
подъема его
жизни к
лучшему.
Толстой,
во-первых,
сильно
преувеличивает
свои верные в
основе
наблюдения.
Он
абсолютизирует
неприятие
народом
культуры. Он
не считается с
тем, что
всюду, где
результаты и
блага культуры
и в первую
очередь
техники,
сберегающей
труд,
оказываются
хотя бы в
какой-то мере
доступными
народу, народ
очень быстро
научается
ценить эти
блага и
закреплять
возможность
пользоваться
ими.
Во-вторых,
сделав свои
верные
наблюдения, Толстой
делает не тот
правильный
вывод, что существующее
и для народа
чрезвычайно
невыгодное
положение
вещей должно
измениться,
но тот
ошибочный вывод,
будто при
оценке всех
культурных
благ следует
исходить
только из
нынешнего
положения
вещей и из
того
отношения к
культурным
приобретениям,
какое в
настоящее
время
существует в
народе.
Став на
эту чуждую
историзму
точку зрения,
Толстой
подвергает
все категории
культуры и
все отрасли
культурного
труда
непримиримой
критике. |В
критике своей
Толстой
впадает в
тяжелые
заблуждения.
Сам того не
замечая, он
на каждом
шагу подменяет
предмет
своей
критики. Он
критикует
уже не только
условия
общественного
строя, которые
лишают народ
доступа к
культурным
приобретениям
и ценностям.
Он критикует самые
эти ценности,
в самом
существе их
содержания.
Правомерная,
вызывающая
сочувствие
толстовская
критика
существовавшего
в
пореформенном
обществе,(и
вообще в капиталистическом
обществе)
распределения
культурных благ
между
основными
классами
этого общества
превращается
у Толстого в
критику с а м и
х культурных
благ как
таковых.
Приобретения
и блага
культуры
начинают
казаться Толстому
ложными,
мнимыми и
ничтожными
уже независимо
от условий их
доступности
(или недоступности)
народу.
Критика
общественного
строя,
грабящего
народ,
отнимающего
у него его исконное,
ему одному
принадлежащее
достояние,
лишающего
народ многих
достижений
культуры,
переходит в
критику уже
не культуры
современного
общества, а в
критику
культуры как
таковой,
науки,
философии,
искусства
как таковых.
Согласно
этой точке
зрения,
возникающей
в результате
указанной
подмены
понятий, наука,
например,
заслуживает
порицания
уже не за то
только, что в
современном
капиталистическом
обществе
ученые
обслуживают
главным
образом
нужды
«незанятых»
классов и
правительств,
представляющих
их интересы.
Наука
порицается
уже за то, что
и сама по
себе она
будто бы есть
мнимое,
бесцельное и
даже ложное в
своих
результатах
умствование,
а не
подлинное
знание. И
точно так же
искусство
осуждается
уже не за то
только, что
художники
современного
капиталистического
общества
удовлетворяют
в первую
очередь
художественные
запросы и
вкусы пустых
или
пресыщенных
богатых
людей
господствующих
классов
этого
общества, а
за то, что
искусство (искус-
47
ство
Данте,
Шекспира,
Гете,
Вагнера) и
само по себе
дурное,
плохое,
ненастоящее
искусство.
2.
ПРОТИВОРЕЧИЕ
РАЗДЕЛЕНИЯ
ТРУДА И
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Отправную
точку всей
толстовской
критики
культуры
образует критика,
больше того
прямое
отрицание
общественного
разделения
труда.
В
вопросе о
разделении
труда и о
специализации
критерием
для Толстого,
исходной точкой
зрения
оказывается,
как и в
других вопросах
мировоззрения,
точка зрения
патриархального
крестьянина,
наблюдающего
проникновение
в жизнь новых
и непонятных
ему
капиталистических
отношений.
Это
совпадение
взглядов
Толстого на
культуру со
взглядами
патриархального
крестьянства
ни в коем
случае
нельзя
понимать упрощенно.
Совпадение
это,
разумеется,
не означает,
будто
Толстой был
знаком
только с тем узким
кругом
явлений и
произведений
культуры,
который был
доступен в XIX
веке патриархальному
русскому
крестьянину.
Не означает
оно и того,
будто
Толстой в
своих
суждениях о
культуре
только
пересказывает
и повторяет
своими
словами
оценки ее и
суждения о ней,
которые он
мог слышать
из уст,
например, крестьян
Крапивенского
уезда
Тульской губернии.
Огромное
явление
русской и
мировой
культуры,
Толстой сам
всю жизнь
впитывал ее
многосторонние
результаты: в
изобразительном
искусстве, в
музыке, в
литературе, в
публицистике,
в философии,
в религии. Он
не просто
излагает в
собственных
произведениях
и трактатах
взгляды
патриархального
крестьянина.
Он
рассматривает
и оценивает факты
и явления
культуры с точки
зрения,
которая возникла
у него в
итоге его
собственного,
личного,
совершенно
своеобразного
и беспримерного
развития, но
которая в
своих выводах
и
результатах,
а еще более в
общей тенденции
совпадала с
точкой
зрения
патриархального
крестьянина.
Нормальной
для такого
крестьянина
представляется
деятельность
земледельца,
удовлетворяющего
собственным трудом
все свои
несложные,
примитивные
хозяйственные
потребности.
Разделение
труда на
умственный и
физический
представляется,
с этой точки
зрения, ничем
не оправданным,
основанным
на насилии
освобождением
от
обязательного
для всех
людей труда.
«Разделение
труда» есть
освобождение
одной,
меньшей,
части общества
за счет
другой,
составляющей
громадное
большинство.
Толстой
исходит из
мысли, что
разделение труда
на
физический и
умственный в
условиях
современного,
т. е.
капиталистического,
общества
одно из
обнаружений
характерной
для этого
общества
противоположности
труда и
праздности,
бедности и
богатства.
То, что в
современном
обществе
считается
разделением
труда, есть,
по Толстому, на
деле лишь
перекладывание
труда на
плечи трудового
народа и
освобождение
от всякого
труда
праздных
людей из
богатых
классов.
Поэтому
Толстой
полагает
задачу не в
том, чтобы
разделить
физический и
умственный труд
между
классами
общества, а в
том, чтобы физический
труд для
всех людей
естественный
и одинаково
обязательный
распределить
в рамках
трудового
дня,
обязательного
для каждого
члена
общества.
Труд должен
быть распределен
на части, или
на «упряжки»,
последовательное
выполнение
которых
48
должно
удовлетворить
все основные
физические и
материальные
потребности,
а также и
потребность
в умственном
труде.
Взгляд
этот основан
на мысли,
будто естественной,
нормальной и
желательной
может быть
признана
только жизнь
в деревне, на
земле, иначе
трудовая
жизнь
патриархального
крестьянина.
Такой крестьянин
сам
производит
не только все
продукты,
необходимые
для
пропитания
его самого и
его семьи, но
также и
одежду, и
обувь, и все остальные
предметы
обихода и
труда: утварь,
орудия и.т. д.
Разделение
труда
Толстой считает
вредным не
только для
большинства, отягощенного
физическим
трудом, но и
для меньшинства,
которое
обманом и
насилием освободило
себя от
физического
труда.
Во-первых,
разделение
труда вредно
для праздного
меньшинства.
Оно лишает
членов этого
меньшинства
возможности
удовлетворять
одну из необходимейших
потребностей
каждого
человека.
«Птица так
устроена,
говорит
Толстой, что
ей
необходимо
летать,
ходить,
клевать, соображать,
и когда она
все это
делает, тогда
она
удовлетворена,
счастлива,
тогда она птица.
Точно так же
и человек:
когда он
ходит, ворочает,
поднимает,
таскает,
работает
пальцами,
глазами,
ушами,
языком,
мозгом, тогда
только он
удовлетворен,
тогда только
он человек» (5, 25,390).
Естественная,
как думает
Толстой,
потребность
каждого
человека в
физическом
труде делает
освобождение
от этого
труда
вредным даже
для тех, кто
от этого
труда
освобождается.
При этом само
это
освобождение
возможно
только как
результат
насилия
одной части
общества над
другой: «Там,
где не будет
насилия над
чужим трудом
и ложной веры
в
радостность
праздности,
ни один
человек для
занятия
специальным
трудом не
уволит себя
от
физического
труда, нужного
для
удовлетворения
его
потребностей...»
(разрядка
моя. Б. А.) (5, 25, 390).
Еще
более
вредным
представляется
Толстому
разделение
труда для
рабочих
специализированного
труда. Для
них
разделение
труда превращается
в
специализацию
в каком-либо
одном, весьма
частном виде
труда.
Исполнение его
никогда не
приводит, не
может
привести рабочего
к пониманию и
к признанию
осмысленности,
целесообразности,
необходимости
и благодетельности
производимой
им
специальной
работы.
Приковывая
рабочего к
однообразному,
бесконечно
повторяющемуся
и механическому
изготовлению
детали, такое
разделение
труда лишает
рабочих
необходимого
для каждого
человека
естественного
чередования
всех видов
труда,
составляющих
содержание
трудовой
жизни.
Толстому
был известен
довод, каким
оправдывается
разделение
труда на
специализированные
отрасли:
ссылка на
выгоду,
которую получает
от
разделения
труда
общество в целом
вследствие
усовершенствования
качества и
умножения.
количества
продуктов,
производимых
специализированным
трудом. Но довод
этот Толстой
отвергает
самым
решительным
образом. По
Толстому,
единственным
критерием
при
обсуждении
вопроса о
допустимости
и полезности
разделения
труда может
быть не отвлеченное
благо
общества в
целом, но
только благо
каждого из
его членов.
Так же
отвергает
Толстой и
всякое
оправдание
существующего
разделения
труда, основывающееся
на указании
исторических
причин,
сделавших
это разделение
необходимым
в развитии
производства
и форм
общественной
жизни.
Критерий Толстого
не
историческая
причинность,
а целесообразность,
и притом
целесообразность
не для
общества в
целом или для
какого-либо
одного
общественного
класса, а для
каждого из
индивидов,
сумма
которых
составляет
общество.
49
Как
утописта-идеалиста,
Толстого
интересует
не столько
то, поче-м у
возникло
существующее
разделение
труда,
сколько то,
какие формы
разделения и
чередования
труда желательны
для личности,
гармонически
развивающей
все свои
физические и
духовные
силы.
Точка
зрения
Толстого на
разделение
труда
одновременно
и архаична, и
утопична. Она
архаична, так
как
оценивает
существующее
настоящее
критерием
прошлого,
причем чрезвычайно
далекого
прошлого. И
действительно,
уже писатели
античного
полиса
понимали (как
это отметил в
первом томе
«Капитала»
Маркс), какую
выгоду
приносит
разделение
труда обществу
рабовладельцев
в его целом,
совершенствуя
качество
изготовляемого
продукта. В
этом плане
вопрос о
разделении
труда обсуждают
и Ксенофонт,
и Платон, и
Исократ.
Напротив,
Толстой
желательным
для настоящего
признал
давно
миновавшее и
невозвратимое
прошлое. Это
все тот же
взгляд патриархального
крестьянина,
рассматривающего
факты и
отношения
капиталистических
форм
разделения
труда с точки
зрения
примитивного
хозяйственного
уклада
деревни, где
нужные
крестьянину
несложные
орудия он
вырабатывает
собственными
руками, не
отрываясь от
производительного
земледельческого
труда. В то же время
взгляд
Толстого
утопичен. Он
утопичен, так
как
достаточный
условием для
перенесения
в настоящее
исторически
сложившихся,
но со временем
отживших
форм труда и
отношений между
людьми
Толстой
считает
субъективные
желания и
субъективные
идеалы,
представления
о том, что
должно было
бы быть.
В
утопизме
Толстого
есть черта,
сближающая
его
мировоззрение
со взглядами
народников.
Стремление Толстого
судить
настоящее с
точки зрения по
сути уже
невозвратимого
прошлого
объясняется
у Толстого,
как и у
народников,
нежеланием
понять, что
представляет
в действительности,
в своем
реальном
содержании
отвергаемое
им настоящее.
«Подобно
народникам,
писал о
Толстом
Ленин, он не
хочет видеть,
он закрывает
глаза,
отвертывается
от мысли о
том, что
«укладывается»
в России
никакой иной,
как
буржуазный
строй» (2, 20, 101). «Для
Толстого
этот «только
укладывающийся»
буржуазный
строй
рисуется
смутно в виде
пугала
Англии.
Именно:
пугала, ибо
всякую попытку
выяснить
себе
основные
черты
общественного
строя в этой
«Англии»,
связь этого
строя с
господством
капитала, с
ролью денег,
с появлением
и развитием
обмена,
Толстой отвергает,
так сказать,
принципиально»
(2, 20, 101).
Толстой
ясно видел
одно:
существовавшее
в современном
ему обществе
разделение
труда явно
порабощало
личность,
калечило ее,
подавляло
присущее ей
стремление к
всестороннему
развитию. Для
кого, таков
смысл вопроса
Толстого,
выгоднее
разделение
труда?
«Выгоднее
поскорее
наделать как
можно больше
сапог и
ситцев. Но
кго будет
делать эти
сапоги и
ситцы? Люди,
поколениями
делающие только
булавочные
головки. Так
как же это может
быть,
спрашивает
Толстой,
выгоднее для
людей? Если
дело в том,
чтобы
наделать как
можно больше
ситцев и
булавок, то
это так; но
дело ведь в
людях, в
благе их. А
благо людей в
жизни. А
жизнь в
работе. Так
как же может
необходимость
мучительной
угнетающей
работы быть
выгоднее для
людей? Если
дело только в
выгоде одних
людей без соображения
о благе всех
людей, то
выгоднее всего
одним людям
есть других.
Говорят, что и
вкусно» (5,25,391392).
Основу
всех этих и
подобных
рассуждений
Толстого о
разделении
труда
образует
мысль, что
выгодным для
общества в
целом может
быгь только
то, что вместе
с тем выгодно
и для каждого
в отдельности
члена
50
этого
общества, не
принося ему
лично никакого
вреда:
«Выгоднее для
всех людей
одно, то самое,
что я для
себя желаю,
наибольшего
блага и
удовлетворения
тех
потребностей,
и телесных и
душевных, и совести,
и разума,
которые в
меня вложены»
(5, 25, 392).
Утвердившись
в этом
взгляде,
Толстой предлагает
заменить
существующее
разделение
труда такой
его
организацией,
при которой
труд не
делится на
специальные
отрасли, но
исполняется
во всех своих
отраслях
каждым отдельным
членом
общества,
однако в
известном
чередовании
работ. Это и
есть
толстовские
ежедневные
четыре
«упряжки»,
охватывающие
все основные
виды
необходимого
для каждого
производительного
труда. Такая
форма
организации
труда, думает
Толстой,
обеспечит и
удовлетворение
всех потребностей
общества и
отдельных
лиц в различных
продуктах
труда, и
гармоническое
развитие
всех
присущих
каждому
отдельному
человеку
форм деятельности.
«...Я убедился,
заявлял
Толстой, что
труд для
удовлетворения
своих потребностей
сам собою
разделяется
на разные роды
труда, из
которых
каждый имеет
свою прелесть
и не только
не
составляет
отягощения, а
служит
отдыхом один
от другого» (б, 25,
392).
Легко
заметить, что
в
толстовской
критике разделения
труда есть
много идей,
давно уже до
Толстого
высказанных
по этому
вопросу
предшествовавшими
писателями.
Начиная со
второй
половины XVIII
века ряд
экономистов, историков,
моралистов,
философов, поэтов
изображали
порой с
замечательной
силой и
убежденностью
отрицательные
результаты
разделения
труда и форм
специализации,
сложившихся
в буржуазном
обществе нового
времени. С
этой стороны
Толстой не сказал
ничего
такого, что
не было бы
сказано до
него такими
авторами, как
Фергюсон,
Руссо и многие
другие.
Но
вместе с тем
в критике
Толстого
есть и нечто,
вполне
оригинальное,
никем до
Толстого не
высказанное,
только
одному
Толстому принадлежащее.
Предшественники
Толстого по
критике разделения
труда либо утешались,
как
утешались
классики
английской
политической
экономии,
тем, что
разделение
труда,
угнетающее и
обедняющее
личность,
благодетельно
для всего
общества в целом,
либо, как
Шиллер,
надеялись,
будто результаты
разделения
труда,
уродующие
личность, могут
быть
ослаблены
или даже
вовсе устранены
посредством
эстетического
воспитания
личности, т. е.
способом,
ничего не
трогающим и
не
изменяющим в
существующих
формах разделения
труда. В
отличие от
всех этих авторов
Толстой не
находит
оправдания
существующего
зла в
признании
его
полезности
для общества
в целом. Он не
разделяет и
надежды на то,
что
возникнув в
области
отношений
труда, зло
специализации
может быть
устранено с сохранением
в
неприкосновенности
самих этих
отношений
путем
деятельности,
лежащей, как
эстетическое
воспитание
Шиллера, вне сферы
производительного
труда.
В
возникших и
утвердившихся
формах разделения
труда
предшественники
Толстого видели
роковое и
неотвратимое
зло самой культуры.
Даже Руссо,
не говоря уже
о Шиллере, утверждал
невозможность
уничтожения
укоренившихся
в развитии
нового
буржуазногообщества
форм разделения
труда.
Вольтер
напрасно
потешался над
Руссо,
вычитывая в
его критике
культуры призыв
стать на
четвереньки
и ползти в
первобытные
леса и
пещеры,
вернуться к
докультурному
состоянию. В
письме к
польскому
королю Станиславу,
поясняя свою
мысль, Руссо
говорил, что
если в
настоящее
время
уничтожить
существующие
формы
культуры, то
Европа впадет
в варварство,
но
отрицательные
результаты
культуры все
же останутся.
51
Также и
Шиллер, резко
протестовавший
против
калечащего
личность
разделения
труда,
полагал в то
же время,
будто
источники
этого зла
лежат вне
отношений
между людьми
в самом
существе
культуры и
законов ее
развития. «Я
охотно,
однако,
признаюсь
вам, писал
Шиллер, что и
род никаким
иным путем не
мог совершенствоваться,
как ни должны
были
пострадать
индивиды при
этом
раздроблении
их существа» (7,
215). «Сама
культура,
писал он в
другом месте,
нанесла
новому
человечеству
эту рану» (7, 212).
И от
Руссо, и от
Шиллера, и от
многих
других
критиков
разделения
труда
Толстой
отличается
прежде всего
тем, что он не
верит, будто
в основе
существующих
форм
специализации
лежит
какой-то «имманентный»
культуре,
непреложный
закон ее развития.
Толстой
полагает, что
основой специализации
являются
отношения
между людьми
в обществе, и
прежде всего
отношения
угнетения
работающего
большинства
неработающим
меньшинством.
Толстой
безошибочно
разглядел и
разгадал в
обычных
способах
объяснения
капиталистических
форм
разделения
труда корыстный
способ
оправдания
существующего
в капиталистическом
обществе
угнетения человека
человеком. В
современной
системе разделения
труда
Толстой
обнаружил
нечто
гораздо
более важное,
чем только
черту техниче-ской
или
экономической
организации
труда. В
системе этой
Толстой
увидел
несомненное
доказательство
того, что
основное
отношение капиталистического
общества
есть отношение
насильственного
угнетения
трудящихся,
т. е. не только
разделение
труда, но и
стремление
нерабочих,
«незанятых»,
по
терминологии
Толстого,
классов к
«освобождению
себя от
известных
родов труда,
т. е. захвату
чужого труда,
требующего
насильственного
занятия
специальным
трудом
других людей»
(5, 25, 390).
Толстой
отрицает
разделение
труда не только
потому, что в
ослеплении
не видит его
благодетельных
для общества
результатов
умножения
количества и
усовершенствования
качества
производимых
продуктов.
Толстой отрицает
в
современном
ему
разделении
труда те
основы
общественного
порядка, которые
превращают
само
разделение
труда в способ
порабощения
трудовой
части
общества, а
все выгоды этого
разделения
там, где они
действительно
налицо,
превращают в
выгоды для
одних лишь
поработителей.
Сторонников
и апологетов
существующего
в
капиталистическом
обществе
разделения
труда
Толстой
обвиняет в
том, что они
«под видом
разделения
труда и словом
и, главное,
делом учат
других
пользоваться
посредством
насилия
нищетою и
страданиями
людей для
того, чтобы
освободить
себя от самой
первой и
несомненной
человеческой
обязанности
трудиться
руками в
общей борьбе
человечества
с природою» (5, 25, 354).
С редкой
не только для
художника, но
и для мыслителя
проницательностью
Толстой изобразил,
каким
образом при
общественных
условиях, в
какие был
поставлен
русский крестьянин
пореформенной,
т. е.
капитализировавшейся,
России, все
блага
разделения
труда или
оказываются
для него в
силу
бедности,
угнетения, отсталости
недоступными,
или приносят
ему прямой
вред, ускоряя
и без того
быстрый процесс
его
разорения и
обнищания,
выталкивая
его из
деревни на
фабрику, в
ряды городского
пролетариата.
«Если
рабочий,
рассуждает
Толстой,
может вместо
ходьбы
проехаться
по железной
дороге, то за
то железная
дорога
сожгла его
лес, увезла у
него из-под
носа хлеб и
привела его в
состояние,
близкое к
рабству к
капиталисту.
Если, благодаря
паровым
двигателям и
машинам,
рабочий может
купить
дешево
непрочного
ситцу, то за
то эти
52
двигатели
и машины
лишили его
заработка дома
и привели в
состояние
совершенного
рабства к
фабриканту.
Если есть
телеграфы, которыми
ему не
запрещается
пользоваться,
но которыми
он, по своим
средствам, не
может
пользоваться,
то зато
всякое произведение
его, которое
входит в
цену, скупается
у него под
носом
капиталистами
по дешевой
цене,
благодаря
телеграфу,
прежде чем рабочий
узнает о
требовании
на этот
предмет. Если
есть
телефоны и
телескопы,
стихи, романы,
театры,
балеты,
симфонии,
оперы, картинные
галереи и т. п.,
то жизнь
рабочего от
этого всего
не
улучшилась,
потому что
все это... недоступно
ему» (5, 25,355).
С особой
силой
Толстой
настаивает
на том, что изобретения,
осуществляемые
на основе разделения
труда и
специализации,
в условиях капитализма
обычно
придумываются
и вводятся не
в интересах
народа, а в
интересах его
поработителей.
«...Все мы знаем,
говорит Толстой,
мотивы, по
которым
строятся
дороги и
фабрики и
добываются
керосин и
спички. Техник
строит
дорогу для
правительства,
для военных
целей или для
капиталистов,
для финансовых
целей. Он
делает
машины для
фабриканта,
для наживы
своей и
капиталиста.
Все, что он
делает и
выдумывает,
он делает и
выдумывает
для целей
правительства,
для целей
капиталиста
и богатых
людей. Самые
хитрые
изобретения
техники
направлены
прямо или на
вред народа,
как пушки,
торпеды,
одиночные
тюрьмы,
приборы для
акциза,
телеграфы и
т. п., или на
предметы,
которые не
могут быть не
только
полезны, но и
приложимы
для народа:
электрический
свет,
телефоны и
все бесчисленные
усовершенствования
комфорта, или,
наконец, на
те предметы,
которыми
можно развращать
народ и
выманивать у
него последние
деньги, т. е.
последний труд:
таковы прежде
всеговодка,
пиво, вино,
опиум, табак,
потом ситцы,
платки и
всякие
безделушки» (5, 25,
356).
Если же
случается,
рассуждает
Толстой, что изобретения,
делаемые на
основе
разделения
труда,
«иногда
нечаянно
пригодятся и
народу, как
железная
дорога, ситец,
чугуны, косы,
то это
доказывает
только то, что
на свете все
связано и из
каждой
вредной деятельности
может
выходить и
случайная польза
для тех, кому
деятельность
эта вредна» (5, 25, 356).
Все эти
утверждения
кажутся
парадоксальными.
Частично они
глубоко ошибочны.
Никто не
согласится с
Толстым в его
утверждении,
будто ситцы и
платки производятся
в целях
развращения
народа. Но
важно здесь
другое.
Несмотря на
все свои
парадоксы,
Толстой
правильно
определил и
указал
глубокую
связь,
существующую
в капиталистическом
обществе
между
формами
разделения труда
и всем строем
этого
общества,
основанного
на угнетении.
Толстой
совершенно
прав, когда
утверждает,
что в
условиях
капитализма
лучшие плоды
труда и
творчества
остаются
недоступными
народу.
Как раз
имея в виду
судьбу
произведений
самого Льва
Толстого, Ленин
разъяснял,
что до тех
пор, пока
существует
капиталистическое
общество,
произведения
эти
останутся,
несмотря на
гениальность
Толстого,
неизвестными
громадному большинству
трудящихся.
«Толстой-художник,
писал Ленин,
известен
ничтожному
меньшинству
даже в
России. Чтобы
сделать его
великие произведения
действительно
достоянием всех,
нужна
борьба и
борьба
против
такого общественного
строя,
который
осудил
миллионы и десятки
миллионов на
темноту,
забитость, каторжный
труд и
нищету, нужен
социалистический
переворот» (2, 20, 19).
Но,
правильно
поняв тесную
связь между
формами
разделения
труда в
капиталистическом
обществе и
теми чертами
его строения,
которые
53
делают
его
обществом,
основанным
на порабощении
и на угнетении
трудящихся,
Толстой
делает из
этого
открывшегося
ему
понимания
совершенно превратные
выводы. Он
ошибочно
превращает
связь
разделения
труда с
капиталистическим
строем
связь,
исторически
возникшую и
имеющую
исторически
ограниченную
длительность,
в
существенный
признак
самого
разделения труда.
Враждебность
интересам
народа, вытекающую
из
капиталистических
форм разделения
труда и
обреченную
на
устранение
вместе с
падением
капитализма,
Толстой приписывает
самому
разделению
труда как
таковому
независимо
от того, в
какой
общественно-политической
системе это
разделение
осуществляется,
какому
общественному
классу оно
служит.
Вывод
этот
большая
ошибка
Толстого. Но
как она
характерна!
Она прямо
вытекает из
взгляда
Толстого на
все явления и
обнаружения капитализма,
надвигавшегося
на жизнь
пореформенного
русского
общества, в
том числе на
жизнь
пореформенной
деревни.
Толстому был
глубоко чужд
исторический
взгляд на действительность.
«...Для
Толстого,
пояснял Ленин,
...определенная,
конкретно-историческая
постановка
вопроса есть
нечто
совершенно
чуждое. Он
рассуждает
отвлеченно,
он допускает
только точку
зрения
«вечных»
начал нравственности,
вечных истин
религии, не
сознавая
того, что эта
точка зрения
есть лишь идеологическое
отражение
старого
(«переворотившегося»)
строя, строя
крепостного,
строя жизни
восточных
народов» (2, 20, 101).
Толстой
не исследует,
даже не
пытается исследовать
ни реальных
исторических
условий, из
которых
возникло и
возникает
разделение
труда, ни тех
реальных
исторических
условий, при
которых оно
из средства
угнетения и
ограбления
трудящихся,
каким оно
оказывается
при
капитализме,
становится
средством, повышающим
не только
производительность
труда, но и
благосостояние
трудовых
классов в
общестзе,
освобожденном
от капиталистического
рабства.
Толстой
не пошел в
решении
противоречий
разделения
труда по
этому
единственно
верному пути.
Преодоления
вредных для
крестьян и
для рабочих
последствий
капиталистических
форм
разделения
труда
Толстой ищет
не в реальных
условиях
развития
существующего
общества, а в
отрицании
самого
принципа разделения
труда.
Таким
образом,
реальности
Толстой
противопоставляет
мечту, будто
развитие
одного из
важнейших
явлений в
жизни
действительного
общества
может быть
отменено
простым
противопоставлением
этому
явлению
труда, еще не
разделенного
на отрасли,
труда,
существовавшего
в далеком
прошлом и,
как все
прошлое,
невозвратимого.
3.
ПРОТИВОРЕЧИЕ
В КРИТИКЕ
НАУКИ
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА
Толстовский
анализ
вопроса о
разделении труда
ключ к
пониманию
аналогичных
противоречий
мышления
Толстого в
развиваемой
им критике
различных
сторон и
явлений культурной
истории
общества, в
критике науки,
философии,
искусства,
государства,
апологии
войны и т. д.
В
критике этой
Толстой
обнаруживает
замечательно
верное,
только
крупнейшему
художнику и
мыслителю
доступное понимание
отрицательных
последствий,
какими
оборачивается
культура для
крестьянских
масс,
подпадающих
под пяту
капитализма.
Во всех своих
нападках на
культуру
современного
общества он
даже
разъясняет,
что он не
имеет в виду
отвергать
культуру как
таковую: «Я не только
не отрицаю
науку
54
и
искусство, но
я только во
имя того, что
есть
истинная
наука и
истинное
искусство, и
говорю то,
что я говорю...».
«Наука и
искусство,
поясняет
Толстой, так
же
необходимы
для людей,
как пища, и
питье, и
одежда, даже
необходимее;
но они
делаются
таковыми не
потому, что мы
решим, что то,
что мы
называем
наукой и искусством,необходимо,
а только
потому, что они
действительно
необходимы
людям» (6,25,364).
Толстой
был искренне
убежден в
том, что его
критика,
например
критика науки,
есть не
отрицание
науки в
принципе, но
лишь
отрицание
той науки,
которая не
поставлена
на службу
действительным
интересам народа.
Такова,
например,
толстовская
критика
медицины. В
ряде
рассуждений
Толстой нападает
на медицину
не за то, что
ее учения и
понятия
ложны, и не за
то, что ее
методы будто
.вообще не
дают
результата.
Он критикует
медицину за
то, что в
социальных
условиях
современного
общества ее
учения и
методы не могут
быть
применены к
оздоровлению
и лечению
крестьян и
рабочих, так
как в условиях
современного
общества
наука служит
только
богатым и
праздным
людям.
По
разъяснению
Толстого,
медицинская
наука вся так
поставлена,
что врач
«умеет лечить
только тех
людей,
которые
ничего не
делают й
могут пользоваться
трудами
других» (5, 25, 358).
«Наука вся
пристроилась
к богатым
классам и
своей
задачей ставит,
как лечить
тех людей,
которые все
могут
достать себе,
и посылает
лечить тех, у
которых
ничего нет
лишнего, теми
же средствами».
«Что же
выходит?
спрашивает
Толстой.
Выходит то,
что главное
бедствие
народа, от
которого
происходят и
распространяются
и не
излечиваются
болезни, это
недостаточность
средств для
жизни» (5, 25, 359).
Пока
народ так
беден, как он
беден сейчас,
рассуждает
Толстой,
медицина не только
не доступна
ему, но может
стать доступной
только при
условии еще
большего его обеднения
и ограбления.
Защитники
медицины
объясняют
отсутствие
пользы от
медицины для
народа тем,
что до
настоящего
времени
медицинское
дело
недостаточно
развилось.
«Очевидно,
замечает
Толстой, что
мало
развилось,
потому что
если бы,
избави бог,
оно развилось
и на шею
народа
вместо 2-х
докторов,
акушерок и
фельдшеров в
уезде
посадили бы 20,
как они хотят
этого, то
половина
народа
перемерла бы
от тяжести
содержания
этого
медицинского
штата, и
скоро бы и
лечить некого
было» '(5, 25, 359).
До сих
пор все эти
доводы
Толстого
оказываются
доводами не
против
существа
медицины как
науки, а
только
против
общественного
порядка, при
котором
медицина не
может, как бы
того ни
хотели ее
работники,
выполнять
свое
общественное
назначениеслужить
массам
рабочих людей.
Но
Толстой не
ограничивается
этими правильными
доводами. Сам
того не
замечая, он
смешивает
вопрос об
условиях
доступности
науки для
трудящихся с
вопросом об
истинности
самой науки
независимо
от того, кому
она доступна
в
современных
условиях.
Речь идет уже
не о том,
каким
образом
добиться
того, чтобы результаты
науки,
недоступные
народу в его
теперешнем
положении,
стали
доступными для
него. Речь
идет уже о
том,
действительно
ли эта наука,
сделайся она
ему
доступной, могла
бы принести
пользу этому
народу. Речь
идет о том,
действительно
ли знание,
добываемое
наукой и
предлагаемое
ею обществу в
качестве
истинного,
является и с
т и н н ы м знанием.
Ответ на
этот вопрос
предрешен у
Толстого его
критикой
разделения
труда. Развитие
науки в
современном
обществе основывается
на
разделении
труда. Но, по
Толстому,
разделение
труда
насильственно
расчленяет
всю область
работы на
части, не имеющие
между собой
связи,
лишенные
естественного
подчинения и
соподчинения.
А так как это-
55
му
расчленению,
раз оно
однажды
началось, в принципе
не может быть
предела, то
отсюда Толстой
выводит, что
результатом
столь специализированной
науки не
может быть
истинное
знание.
Наука, по
Толстому,
оправдывает
разделение
труда не
только в
экономической
области. Она
оправдывает
и отстаивает
разделение
труда прежде
всего в своей
собственной
области в
области
научного исследования.
Больше того.
Разделение
труда не
только
условие
самого
существования
современной
науки, но
также
условие
нынешнего
содержания
ее учений.
Толстой
прямо
говорит, что
«разделение
труда, т. е.
захват
чужого труда»,
стало в наше
время
«условием
деятельности
людей науки» (5,
25, 362). Но именно
поэтому
Толстой
считает
современную
науку не
только
направленной
ко вреду
трудящихся,
но
неистинной в
самом
содержании и
существе ее
утверждений.
В
литературе о
Толстом до
сих пор,
насколько
известно
пишущему эти
строки, не
было обращено
достаточное
внимание на
связь, существующую
между
социальными
мотивами
толстовской
критики
разделения
труда и
гносеологической
мотивировкой
толстовской
критики
науки. Но
связь эта существует.
Как ни
странно
может
показаться,
но для Толстого
существует
только один
вопрос познания
это вопрос о
том, в чем
назначение и
благо
человека.
Может быть,
после
Сократа
никто не
пытался с
такой силой,
как это сделал
Толстой,
свести всю
философию к
этому вопросу.
Но
вопрос этот
не требует,
как кажется
Толстому,
никакого
разделения
труда,
никакой специализации,
и может быть
решен только
во всей его
неделимости
и целостности.
Сравнительно
с этим
вопросом все
другие
вопросы
знания
представляются
Толстому не
только
частностями,
но в своей
частности
настолько
случайными и
многочисленными,
чго без
подчинения
главному
вопросу о
назначении
жизни и о
благе
превращаются
в бесплодные
исследования,
которые
никогда не
могут ни
закончиться,
ни привести к
истине.
Современная
наука
утратила, по
Толстому, сознание
вопроса,
ответ на
который один
только мог бы
быть
оправданием
ее
существования,
вопроса о
том, в чем
назначение и
благо людей.
«С тех пор,
говорит
Толстой, как
существуют
люди, в среде
их
зарождались
великие умы,
которые в
борьбе с
требованиями
разума и совести
задавали
себе вопросы
о том, в чем состоит
благо,
назначение и
благо не
одного меня,
а всякого
человека.
Чего хочет от
меня и от
всякого
человека та
сила, которая
произвела и
ведет меня? И
что мне нужно
делать, чтобы
удовлетворить
вложенным в
меня
требованиям
личного и
общего блага?
Они
спрашивали
себя: я целое
и частица чего-то
необъятного,
бесконечного.
Какие мои
отношения к
таким же
подобным мне
частицам
людям и ко
всему целому
к миру?» (5, 25, 367).
Чтобы
знание было
знанием,
способным
дать истину,
оно должно,
по Толстому,
придерживаться
руководящей
нити,
определяющей
как отбор
вопросов
исследования,
так и их
последовательность
и подчинение.
«...Область
знания
вообще всего
человечества,
писал
Толстой, так
многообразна
от знания,
как добывать
железо, до
знания
движения
светил, что
человек
теряется в
этой многочисленности
существующих
и в бесконечности
возможных
знаний, если
у него нет
руководящей
нити, по
которой бы он
мог
располагать
эти знания,
распределять
их по степени
их значения и
важности» (5, 25, 365).
«Изучать же
все... без соображения
о том, что
выйдет из
этого
изучения,
прямо
невозможно,
потому что
число
предметов
изучения бесконечно,
и потому,
сколько бы и
какие бы
предметы мы ни
изучали,
изучение их
не может
иметь никакого
значения и
смысла» (5, 25, 365).
56
На
единственно
важный
вопрос
знания ответ
может быть
получен (так
думал
Толстой) только
из разума и
из совести,
но никак не
из частных и
специальных
научных
исследований,
не имеющих
прямого,
непосредственного
отношения к
самому
вопросу.
Напротив,
современная
наука лишена,
по Толстому,
руководящей
нити. Она или
не признает
вопроса,
который один
мог бы
оправдать ее
исследования,
или если и
признает его,
то думает,
что ответ на этот
вопрос может
получиться
только в результате
бесконечного
множества
специальных
исследований,
не только не
подчиненных
главному
вопросу
знания, но
даже не
имеющих к
нему
никакого
прямого
отношения.
Толстой
отвергает
самую суть
современного
научного
метода. Этот
метод
состоит, по Толстому,
в том, что
вопросы,
ответ на
которые
может быть
получен, как
думал
Толстой, только
из источников
разума и
моральной
интуиции, наука
пытается
решать по
аналогии с
явлениями,
происходящими
не в духовном
мире человека,
а в области
внешней
природы. По
Толстому,
наука будто
бы
рассуждает
так: «...если вы хотите
знать, в чем
ваше
назначение и
благо и
назначение и
благо всего
человечества
и всего мира,
то вы прежде
всего должны
перестать
слышать
голос и
требования
своей совести
и разума,
заявляющие
себя и в вас
самих и в
подобных вам,
вы должны
перестать верить
всему тому,
что говорили
великие учители
человечества
о своем
разуме и
совести, считать
все это
пустяками и
начать все
сначала. И,
чтобы понять
все сначала,
вам надо смотреть
в микроскоп
на движение
амеб и клеточек
в глистах или
еще покойнее
верить во все
то, что вам
будут
говорить об
этом люди с
дипломом
непогрешимости
... Вы должны, чтобы
понять себя,
изучать не
только
глисту, которую
вы видите, но
и
микроскопические
существа,
которых вы
почти что не
видите, и трансформации
из одних
существ в
другие, которых
никто
никогда не
видел, и вы
наверное
никогда не
увидите» (5,25, 368).
Метод
современной
науки идет от
познания низшего
к познанию
высшего.
Этому методу
Толстой
противопоставляет
совершенно
иную
лестницу
ступеней
познаваемости.
Повторяя
мысль
Сократа,
Толстой
утверждает,
будто ответ
на вопрос,
который
человек, как
высшее
существо, ставит
перед собой о
смысле своей
жизни, не может
быть получен
ни из каких
исследований
низших
сравнительно
с человеком
явлений и
фактов жизни.
Познание
всех
предметов, выходящих
за круг
нравственного
самосознания,
не только не
приближает
нас, по Толстому,
к ответу на
вопросы,
возникающие
из источников
этого
самосознания,
но даже вообще
невозможно,
неосуществимо,
недоступно. И
так же, как
Сократ,
Толстой
полагает, что
чем дальше
познаваемый
предмет
отстоит от предметов
нравственного
самосознания,
тем менее
доступен он
познанию.
Так,
жизнь может
быть, по
Толстому,
предметом
познания
только в
своей
неделимой
целостности,
которая
открывается
лишь непосредственному
самосознанию
разумного
живого
существа. Но
именно такого
рода
познание,
единственно,
в глазах
Толстого,
возможное и
доступное,
недоступно
науке.
«Ложная
наука, изучая
явления, сопутствующие
жизни, и
предполагая
изучать самую
жизнь, этим
предположением
извращает
понятие
жизни; и
потому, чем
дольше она изучает
явление,
того, что она
называет жизнью,
тем больше
она
удаляется от
понятия жизни,
которое она
хочет
изучать» (5, 26,437).
Последовательность
вопросов, в
какой наука
изучает
проявления
жизни, ища
разгадки сложного
в простом,
высших форм
организации
в низших,
живого в
мертвом,
представляется
Толстому не
приближением,
а отдалением
от
действительного
познания
жизни.
«Сначала
изучаются
животные
млекопитающие,
потом другие,
позвоночные,
рыбы,
57
растения,
кораллы,
клеточки,
микроскопические
организмы, и
дело доходит
до того, что
теряется различие
между живыми
и неживыми,
между пределами
организма и
неорганизма,
между пределами
одного
организма и
другого.
Доходит до
того, что
самым важным
предметом
исследования
и наблюдения
представляется
то, что уже не
может быть
наблюдаемо» (5, 26,
437). Объяснение
всего наука
ищет «в тех
существах,
которые содержатся
в
микроскопических
существах, и
тех, которые
еще в этих...
содержатся, и
т. д. до бесконечности,
как будто
бесконечная
делимость
малого не
есть бесконечность
такая же, как
и
бесконечность
великого». По
Толстому,
ученые не
видят того,
что само их
представление,
будто вопрос
получает
разрешение в
бесконечно
малом, «есть
несомненное
доказательство
того, что
вопрос
поставлен
неправильно»
(5, 26,437).
Противоречивость
толстовской
критики
науки очевидна.
В критике
этой
сказался
замечательно
сильный,
смелый,
искренний
протест крупнейшего
художника-мыслителя
против того
общественного
строя,
который
самое науку
превращает в
средство
порабощения
человека
человеком.
Под личиной
объективности
и служения
всему
человечеству
Толстой в
науке
капиталистического
общества
разглядел
прислужничество
науки
богатству и
богатым,
пренебрежение
к вопросам,
имеющим
прямой
жизненный
интерес для
бедных, для
трудовых
классов.
Толстой прав,
когда
доказывает,
что в
условиях
капитализма
ученые,
занятые в
большинстве
обслуживанием
запросов
господствующей
части
общества,
оставляют
без внимания
ряд жизненно
важных
вопросов,
ответ на
которые могла
бы дать
только наука,
но над
которыми она
не задумывается,
так как не
видит в
разрешении
этих
вопросов той
выгоды,
которую ей
приносит
обслуживание
интересов
богатых. «Область
медицины, как
область
техники,
писал Толстой,
лежит еще
непочатая.
Все вопросы в
том, как
лучше
разделять
время труда,
как лучше
питаться,
чем, в каком
виде, когда,
как лучше
одеваться,
обуваться,
противодействовать
сырости,
холоду, как
лучше мыться,
кормить
детей,
пеленать и т.
п , именно в
тех условиях,
в которых
находится
рабочий
народ, все
эти вопросы
еще не
поставлены» (5, 25,
359 360). То же, по
Толстому,
происходит и
с деятельностью
педагоги-ческой.
Наука,
утверждает
Толстой,
поставила
это дело так,
чго «учить по
науке можно
только
богатых
людей, и учителя,
как техники и
врачи,
невольно
льнут к деньгам,
у нас особенно
к
правительству»
(5, 25,360).
Критика
Толстого
отразила
реальное
противоречие
в положении
науки при
капитализме.
От фактов
развития
медицины и
микробиологии,
изображенных
в книгах Поля
де Крюи, вплоть
до истории
создания
атомной
бомбы все
развитие
науки в
капиталистическом
обществе
подтверждает
правильность
утверждения
Толстого.
Но эта
верная мысль
выступает у
Толстого в неразрывной
связи с рядом
поразительных
заблуждений.
Заблуждения
эти
показывают, чго
самого
существа
науки
Толстой
зачастую не
видит и не
понимает. Он
отрицает
всякую
ценность, например,
за
спектральным
анализом
звезд, за
микробиологическими
исследованиями,
за
гистологией
и т. п.
Отрицает он
все это потому,
что и на
науку, так же
как и на
разделение
труда,
Толстой
смотрит не
глазами
человека,
движущего
науку, и не
глазами
передового
класса
современного
общества, а
скептическим
взором
патриархального
крестьянина,
отождествляющего
бесполезность
или, вернее,
недостаточную
пользу,
приносимую ему
наукой при
капитализме,
с
бесполезностью
и даже ложностью
науки по
существу ее
содержания.
58
Толстой
не доверяет
науке, так
как, во-первых,
не видит и не
находит
прямой,
непосредственной
пользы от ее
часто
неторопливых,
часто
имеющих в
виду дальнее
действие и
дальний
прицел
изысканий;
во-вторых,
потому, что
верит только
тому, что им
самим испытано,
проверено в
то время как
наука, по безмерному
разнообразию
и объему
своих исследований,
предметов и
обоснований,
никогда не
может стать
личным
достоянием
только одного
человека и
потому
предполагает
доверие к
истинности
того, что
дознано,
доказано и
обосновано
другими.
Еще в
педагогических
статьях 60-х
годов Толстой
доказывал,
что мерилом
ценности и
даже истинности
научных
знаний
должны быть
не гносеологические
или
логические
критерии, а
взгляд на эти
знания и
оценки этих
знаний,
свойственные
миллионам
неученой
неграмотной
массы крестьянства.
Толстой
заранее и
безоговорочно
признает
истиной
только то
мнение о
науке, которое
имеет народ.
«...Предлагая
народу, писал
Толстой,
известные
знания, в
нашей власти
находящиеся,
и замечая
дурное
влияние, производимое
ими на него, я
заключаю ... не
то, что народ
не дорос до
того, чтобы
воспринять и
пользоваться
этими
знаниями так
же, как и мы, но
то, что
знания эти
нехороши,
ненормальны,
и что нам
надо с
помощью народа
выработать
новые,
соответственные
всем нам, и
обществу и
народу,
знания» (5, 8, 112).
Толстой
не признает
существующих
наук науками,
во-первых,
потому, что
науки эти не
занимаются и
не
интересуются
вопросом,
который, по
Толстому,
составляет
единственное
содержание
подлинной
науки:
вопросом о том,
как должен
поступать
человек,
чтобы хорошо
жить. «Наукой
в наше время
считается и называется,
поясняет
Толстой, как
ни странно
это сказать,
знание всего,
всего на
свете, кроме
того одного,
что нужно
знать каждому
человеку для
того, чтобы
жить хорошей
жизнью» (5,38, 137).
Толстой
не признает
существующих
наук науками
еще и потому,
что полагает,
будто науки
эти не могут
дать ответа
не только на
тот вопрос о
должном
поведении,
которым они
должны были
бы заниматься
и которым они
не
занимаются,
но также не могут
дать ответа и
на те
вопросы,
которые они
сами перед
собой ставят.
Мотивировка
этого
последнего
утверждения
Толстого
скептическая.
Науки,
полагает Толстой,
не могут
ответить на
вопросы, которые
они сами перед
собой ставят,
потому что,
исследуя
явления,
происходящие
в мире
неорганическом,
а также в
мире
растительном
и животном,
науки эти
строят все
свои
исследования
на неверной с
точки зрения
Толстого
предпосылке.
(Состоит эта
предпосылка
в допущении,
будто «все то,
что
представляется
человеку
известным
образом,
действительно
существует так,
как оно ему
представляется»
(5, 38, 140).
Но мир,
каким он нам
представляется,
и мир, каким
он
существует
сам по себе,
не одно и то же.
Быть может,
под влиянием
Шопенгауэра,
увлечение
которым
Толстой
пережил в 60-х
годах и
которое
отразилось в
его переписке
с Фетом,
Толстой
отделяет
наше
представление
о мире от
мира в его
сущности. По
Толстому,
предположение,
будто мир
«действительно
таков, каким
он познается
одним из бесчисленных
существ мира
человеком,
теми внешними
чувствами:
зрением,
обонянием,
слухом,
осязанием,
которыми
одарено это
существо
(человек),
совершенно
произвольно
и неверно» (5, 38, 140).
Произвольным
же и неверным
Толстой это
допущение
считает
потому, что
«для всякого
существа,
одаренного
другими
чувствами,
как,
например, для
рака или микроскопического
насекомого и
для многих и
многих, как
известных,
так и
неизвестных
нам существ,
мир будет
совершенно
иной» (5, 38, 140).
59
Но даже
предположив,
что мир
действительно
таков, каким
он
представляется
человеку,
одному из
бесчисленных
существ,
различающихся
по
устройству
органов
чувств, мы не
можем,
согласно
Толстому, допустить,
что
существующие
науки
способны понять
этот
открытый и
доступный
нашим чувствам
мир. Если, не
имея
возможности
понять мир,
каков он в
действительности,
мы
ограничимся изучением
того мира,
который
представляется
человеку, то
и в том
объеме, в
этих пределах
познание
мира не может
быть
достигнуто
существующими
науками.
«Потому,
рассуждает
Толстой, что
все явления
этого мира
представляются
человеку не
иначе, как в
бесконечном
времени и
бесконечном
пространстве».
Но именно
поэтому
Толстой
полагает, что
«как причины,
так и
последствия
каждого явления,
а также и
отношения
каждого
предмета к
окружающим
его
предметам
никогда не
могут быть
действительно
постигнуты»
(б, 38, 1401141).
Вникая в
суть
толстовской
критики
науки, мы
видим, что то,
что Толстой
называет
истинной
наукой в
отличие от
существующей,
ложной, по
его мнению,
науки, есть вовсе
не наука, а
вера. Это не
знание того,
что есть, а
вера в то, что
ответ на
вопрос о
назначении
человека и об
истинном
благе уже давно
известен
многомиллионному
крестьянскому
народу и что
главная
задача
сознавшей
себя
личности
состоит в
усвоении
этой народной
мудрости и
веры.
Не
удивительно
поэтому, что
настоящими
деятелями
«науки» (в
толстовском
смысле этого понятия)
Толстой
считает не
ученых, а
великих
моралистов и
основателей
больших религий,
имеющих
разработанные
этические
учения, а
истинной
наукой
учение о
назначении
человека, о
должном поведении
и о
вытекающем
из них благе.
«Наука,
утверждает
он, ...есть
знание
необходимейших
и важнейших
для жизни
человеческой
предметов
знания» (5, 38, 135).
«Таким
знанием,
поясняет Толстой,
как это и не
может быть
иначе, было
всегда, есть
и теперь
одно: знание
того, что
нужно делать
всякому
человеку для
того, чтобы
как можно
лучше прожить
в этом мире
тот короткий
срок жизни, который
определен
ему богом,
судьбой, законами
природы, как
хотите» (5, 38, 135).
Так как,
согласно
Толстому,
вопрос о
должном
поведении
всегда стоял
перед всеми
людьми так
же, как он
стоит теперь
перед нами,
то и у всех
народов и с
самых давних
времен, утверждает
Толстой, были
люди,
высказывавшие
свои мысли о
том, в чем
должна состоять
эта хорошая
жизнь, т. е. что
должны и чего
не должны
делать люди
для своего
блага: «Такие
люди были
везде: в
Индии были
Кришна и Будда,
в Китае
Конфуций и
Лаотсе, в
Греции и Риме
Сократ,
Эпиктет, Марк
Аврелий, в
Палестине
Христос, в
Аравии
Магомет» (5, 38, 136). По
Толстому,
знать мысли
этих людей о
том, как
должны для
своего
истинного
блага жить
люди и каким
должно быть
отношение
человека к
главным
условиям
человеческой
жизни, «в этом
и только в
этом
истинная
настоящая
наука» (5, 38, 136).
Из этой
толстовской
критики
науки и из
толстовского
определения
существа
истинной
науки видно,
что понятие
науки
подменяется
у Толстого
другим
понятием
понятием
этики. То, что
Толстой
называет
«истинной
настоящей наукой»учение
о том, как
человек
должен поступать
относительно
других людей
для того,
чтобы правильно
и хорошо
жить, есть, в
сущности, этика.
В свою
очередь,
этика
совпадает у
Толстого с
тем, что он
называет
религией.
Совпадение это
явствует уже
из перечня
лиц, которых
Толстой
считает
деятелями и
представителями
истинной
науки эго
Кришна,
Будда, Христос,
Магомет.
Больше того.
Перечень этих
мифо-
60
логических
(или
полумифологических)
имен сопровождается
у Толстого
прямым
призывом
поверить в
истину
народной
мудрости, провозвестниками,
учителями
которой были,
по Толстому,
эти лица и
которая заменяет
все вопросы
знания
вопросом о
том, как следует
жить.
В этом
своем
значении
«наука»
совпадает у
Толстого с
его религией.
Учение
Толстого не есть
ни
религиозная
онтология
(хотя в нем есть
бледные
следы
идеалистической,
весьма
путаной
онтологии,
колеблющейся
между
крайностями
солипсизма и
объективного
идеализма),
ни теория
познания
(хотя в нем
есть слабо
намеченные и
беспомощно
выраженные
элементы,
точнее
фрагменты
идеалистической
и
скептической
теории
познания).
Учение
Толстого не
есть
собственно
даже религия.
Это «религия»,
сведенная
почти целиком
к этике.
III
ГЛАВНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ
РЕЛИГИИ
ТОЛСТОГО.
СВЕДЕНИЕ
РЕЛИГИИ К
ЭТИКЕ
Значение,
какое сам
Толстой
приписывает
религиозной
мотивировке
и
религиозному
оформлению своих
этических
понятий,
привело к
тому, что
учение
Толстого
предстало в
неверном свете.
Толстой сам
подал повод к
тому, чтобы его
учение было
понято,
обсуждалось
и принималось
прежде всего
как учение
религиозное.
Неудивительно
поэтому, что
в буржуазном
обществе
последней
четверти XIX и
начала XX века за
Толстым
стала
устанавливаться
репутация
религиозного
деятеля, чуть
ли не религиозного
реформатора.
Взгляд
этот на
религию
Толстого
господствует
в буржуазной
литературе, в
сущности, и в
настоящее
время. Хорошей
иллюстрацией
сказанного
может быть вышедшее
в I960 году в
Париже
исследование
Николая
Вейсбейна
«Религиозная
эволюция Толстого»
(Nicolas Weisbein. L'evolution religieuse de Tolstoi, 524 pp.).
Автор
поставил
перед собой
задачу
проследить
развитие
религиозного
мировоззрения
Толстого на
протяжении
всей его
жизни и
деятельности:
художественной,
публицистической,
проповеднической.
Автор
тщательно
изучил под
этим углом
зрения
переписку
Толстого и
его корреспондентов,
его дневники,
воспоминания
родных и современников,
художественные
и религиозно-философские
произведения
Толстого, официальные
постановления
Синода и
циркуляры
правительства.
Читатель
книги
Вейсбейна
может
проследить
всю эволюцию
религиозных
взглядов
Толстого во
всех их
оттенках.
Добросовестность
труда
Вейсбейна,
осведомленность
автора вне
всякого
сомнения.
Но все
эти
достоинства
исследования
не могут
устранить
основной
порок книги и
основное
заблуждение
ее автора.
Заблуждение
это в том, что
автор
рассматривает
духовное
развитие
Толстого как
явление
исключительно
личное, вне
какой бы то
ни было связи
с реальным
общественным
миром, к
которому
Толстой
принадлежал
и исторические
судьбы
которого не
могли не участвовать
в
формировании
самой
личности Толстого
и его
мировоззрения.
Книга Вейсбейна
написана так,
как если бы
на свете
существовали
только бог и
ищущая бога
душа Льва
Толстого. Эта
ложная
предпосылка
привела к
смещению и
даже
искажению
всех
аспектов
исследования.
Толстовская
критика
церкви,
церковного
обмана,
угодничества
церкви перед
имущими
классами и их
государственной
властью осталась
в тени. Зато
на первый
план
выступили
точки
соприкосновения
между
религиозным
рационализмом
Толстого и
Фомы Аквинского
(см. 9, 217);
религиозная
61
проблема
провозглашается
проблемой,
имеющей для
Толстого абсолютно
необходимое
значение (см. 9,
95); в толстовском
рассмотрении
вопросов
экономических
и социальных,
обнищания
деревни и городских
масс,
капитализма,
социального
рабства
подчеркивается
не их
реальное, а
чисто
духовное,
религиозное
значение (см. 9, 268)
и т. д. Автора
совершенно
не
интересует
социальное
значение и
содержание
борьбы Толстого
против
церкви как
учреждения,
поддерживающего
социальное
рабство
капиталистического
общества.
Зато автор со
всей тщательностью
подбирает
данные, чтобы
доказать, что
обнародованный
Синодом
текст
отлучения Толстого
от церкви
гораздо
умереннее,
сдержаннее,
легче, чем
предшествующее
ему конфиденциальное
циркуляционное
предписание
Синода,
обращенное
ко всем
духовным консисториям
по тому же
вопросу (см. 9, 370374).
В результате
отсутствия
правильной
перспективы
и критерия
оценки
рассматриваемых
фактов
духовный
облик
Толстого-бунтаря,
Толстого
обличителя,
Толстого-критика
страшно
принижается,
мельчает и
ослабляется.
Похоже, что
одна из
главных
задач автора
доказать,
будто
расхождения
между
Толстым и
православной
церковью
были вовсе не
так уже
велики и непримиримы.
Такое
представление
о
мировоззрении
Толстого не
верно и
преувеличено.
Спору нет, вопросы
религии
привлекали
страстное
внимание
Толстого. В
учении
Толстого
есть и
некоторое
понятие о
боге, и
признание за
религией
значения
важнейшего
вопроса жизни,
и даже
некоторые,
правда
слабые и
неразвитые,
следы
мистического
элемента.
Отчасти через
христианскую
веру, в
которой
Толстой был
воспитан в
детстве и
которая
вновь сталана
короткое
время
этапом его
идейно-морального
развития в
эпоху так
называемого
«кризиса»
мировоззрения
Толстого в 70-х
годах, отчасти
вследствие
некоторых
особенностей
своего
художественного
мышления
Толстой был
склонен
представлять
отношение человека
к миру, как
отношение
«работника» к
пославшему
его в жизнь
«хозяину», или
как
отношение «сына»
к «отцу».
Религиозная
окраска этих
представлений
несомненна.
Однако
все подобные
представления
имели для
Толстого
отнюдь не
буквальный
религиозный
смысл и
понимались
им не как
мистические
догматы, но
скорее были
метафорами,
посредством
которых Толстой
пытался
уяснить для
самого себя
воззрение на
жизнь, не
поддававшееся
усилиям
выразить это
воззрение в
отвлеченных
понятиях.
Философские
искания
Толстого в 70-х
годах были
сосредоточены
не на вопросе
религиозном
в прямом
смысле слова.
Искания эти
были
продолжением
этических и
социальных
исканий,
которые
смолоду
занимали ум
Толстого и
составляли
предмет
своеобразного
художественно-философского
экспериментирования
в ранних
повестях,
рассказах и в
больших
романах зрелого
периода.
Ленинский
анализ
вскрыл и в
религии
Толстого уже
известное
нам
противоречие
между отразившимися
в мысли
Толстого
особенностями
и
противоречиями
развития
пореформенной
России и
субъективной
неспособностью
Толстого
найти
действительное
разрешение
этих
противоречий.
Толстовское
понятие
религии
прежде всего
отрицательно:
это критика
духовного
состояния
современного
Толстому
капиталистического
общества
пореформенного
и предреволюционного
периода. Толстой
не столько
пытается
раскрыть или
обосновать
положительное
понятие о
боге, сколько
осуждает и
обличает тот
строй
духовной
жизни
современного
ему общества,
при котором
члены этого
общества
утрачивают
всякое
сознание
разумного
смысла жизни.
Религия
Толстого не
столько вера
(хотя в ней,
конечно, есть
и элемент
религиоз-
62
ной веры),
сколько
протест. Это
протест против
безыдейности
беспринципности
интеллигенции
капиталистического
общества, против
утраты
господствующей
частью этого
общества
представления
о высоких
задачах, способных
руководить
жизнью и
действием.
В
атеизме, в безверии,
в
религиозном
равнодушии и
безразличии
современного
общества
Толстой осуждает,
как это ни
странно
может показаться,не
столько
отсутствие
веры в бога или
отрицание
существования
бога, сколько
признание
существующего
порядка,
примирение
со всем
существующим,
как оно
существует.
Сам Толстой
выразил эту
мысль с
полной
ясностью.
«Религия людей,
не
признающих
религии,
писал
Толстой, есть
религия
покорности
всему тому,
что делает
сильное
большинство,
т. е. короче,
религия
повиновения
существующей
власти» (5, 23, 445).
Но
именно
потому, что
толстовская
религия есть
больше
социальная
критика, чем
догма богословия
или
мистическое
настроение, Толстой
на первый
план в
понятии веры
выдвигает не
собственно
религиозное
ее содержание,
а
способность
веры быть
силой жизни.
«...Я понял,
писал
Толстой, что
вера... не есть
только
«обличение
вещей
невидимых» и
т. д., не есть
откровение
(это есть
только
описание
одного из
признаков
веры), не есть
только
отношение
человека к
богу (надо
определить
веру, а потом
бога, а не
через бога
определять
веру), не есть
только согласие
с тем, что
сказали
человеку, как
чаще всего
понимается
вера, вера
есть знание
смысла
человеческой
жизни,
вследствие
которого
человек не
уничтожает
себя, а живет. Вера
есть сила
жизни. ...Без
веры нельзя
жить» (5, 23, 35).
В центре
вопросов
толстовского
мировоззрения,
а потому и в
центре
понятия веры
стало
противоречие
между
конечным,
преходящим,
мимолетным
существованием
личности и
бесконечным
существованием
мира. Толстой
искал такого
решения
противоречия,
при котором
смысл
конечного и
преходящего
существования
личности не
уничтожался
бы, не
превращался
бы в
бессмыслицу
неизбежно
предстоящим
уничтожением
личности, ее
погашением в
бесконечности
мирового
целого.
Это
противоречие
не было для
Толстого лишь
отвлеченным
противоречием
личного и всеобщего,
конечного и
бесконечного.
Толстой
осознавал
это
противоречие
как жизненное
противоречие,
захватывающее
наиболее глубокое
ядро его
личного
существования
и сознания.
Уже в конце
«Анны
(Карениной»,
но еще
сильнее в
«Исповеди»
Толстой
выразил
охватившее
его в 70-х годах
смятение и
ужас перед
неизбежностью
смерти, перед
«нирваной» в
сознании
бессмысленной
жизни,
неумолимо
обреченной
на
уничтожение.
Именно в
связи со
страхом
смерти
Толстой очень
точно
сформулировал
в «Исповеди»
основную
цель своих
религиозных
исканий:
«Нужно и
дорого,
писал он
здесь,
разрешение
противоречия
конечного с
бесконечным
и ответ на
вопрос жизни
такой, при котором
возможна
жизнь» (5, 23, 37).
Тем
самым
толстовская
вера
оказывается
только
синонимом
силы жизни,
осмысленности
существования,
условием
понимающей
свое
назначение
деятельности.
Особенность
Толстого в
том, что это
стремление
вернуть жизни
утерянное сознание
ее
оправданности
и
осмысленности,
потрясенное
предвидением
неизбежно
предстоящей
смерти,
связывается
у Толстого с понятием
не
социальной
философии и
даже не
этики,
которой оно
должно было
бы принадлежать,
а с понятием
религии.
Стремление
укрепить корень
жизни,
расшатанный
страхом
перед смертью,
Толстой
черпает не в
силах самой
жизни, а в
религиозной
традиции.
63
Здесь в
мышлении
Толстого
явное
противоречие.
Значительность
этого
противоречия
оттеняется
тем, что
понятие
религиозной
веры, как это
было ясно
самому
Толстому, не
выдерживает
критики
разума. «Все
эти понятия,
писал Толстой,
при которых
приравнивается
конечное к бесконечному
и получается
смысл жизни,
понятие бога,
свободы,
добра, мы
подвергаем
логическому
исследованию.
И эти понятия
не
выдерживают
критики
разума» (5, 23, 36).
И все же,
несмотря на
это
противоречие
с началами
разума,
Толстой
считает
необходимым
принять
религиозное
мировоззрение.
В этом
вопросе, как
и в уже нами
рассмотренных,
он
становится
на точку
зрения
патриархального
крестьянина
с его наивной
и
некритической
верой.
Безыдейности
господствующих
классов
капиталистического
общества,
отсутствию у
них сознания
смысла жизни
и своего назначения
Толстой
противопоставляет
не те понятия
о целях жизни
и борьбы,
которые в его
время уже
были
выработаны
великими
мыслителями
и вождями
рабочего
класса, но те
понятия о
духовном
смысле жизни,
которые в
значительной
мере
совпадали с
точкой
зрения религиозно
мотивированной
этики,
сходной с некоторыми
этическими
учениями
народов древнего
Востока.
Хотя
Толстой
пришел к
убеждению,
что смысл и
сила жизни
могут быть
почерпнуты
только в
народной
вере, это
убеждение
немедленно вступило
в нем в
противоречие
с другим убеждением,
которое
запрещает
считать
истинным все
несовместимое
с началами
разума и
знания.
Противоречие
это
приобрело
особую остроту
вследствие
того, что
народная,
крестьянская
вера, как это
знал Толстой,
вовсе не была
единственной
формой
религиозного
отношения к
жизни. На
роль учения,
будто бы разрешающего
все
философские
противоречия
и трудные
вопросы,
претендовала
церковная
богословская
вера. Больше
того.
Церковная
богословская
форма
религии
притязала на
роль
учительницы,
наставницы и
руководительницы
народа в
вопросах и
делах веры.
Поэтому
Толстой
признал для
себя
необходимым
изучить и
исследовать
содержание и
обоснование
церковного
богословского
вероучения.
По мере
того как
Толстой
углублялся в
это исследование,
ему все
очевиднее
становилось,
что догматы,
к которым
церковное
вероучение
сводило
содержание
христианской
религии, не
только не
могли быть
«силой жизни»,
выводящей
личность из
тупика
одолевающих
ее противоречий,
но что
поверить в
эти догматы
можно только
ценой отказа
от
элементарнейших
неустранимых
условий и
законов
логики, разума,
знания.
Вместе с
тем
обнаружилось,
что система
церковного
богословского
вероучения
не только
противоречит
логике, знанию,
разуму.
Выяснилось,
что система
догматического
богословия
вся
построена на
стремлении
во что бы то
ни стало
оправдать
сложившиеся
в церкви за
долгое время
ее существования
понятия о
религии.
Понятия же
эти
поддерживают
существующий,
основанный
на насилии и угнетении
общественный
порядок и
прежде всего
оправдывают
то место и ту
роль, какие в
этом порядке
принадлежат
самой церкви.
Свои
критические
исследования
Толстой выполнил
в «Критике
догматического
богословия».
Предшествующей
«Критике...»
работой была
«Исповедь»
философско-религиозная
автобиография
Толстого. К
«Исповеди» и к
«Критике
догматического
богословия»
примыкают
сочинения «В
чем моя вера»
и «Царство
божие внутри
вас». В них
Толстой
излагает
собственные
взгляды на
религию,
сложившиеся
в результате
критики
официального
учения
православной
церкви.
Однако в этих
трактатах,
тема которых
позитивные
религиозные
воззрения Толстого,
64
на
первое место
выдвинуто не
положительное,
а
полемическое
их
содержание. И
в религиозных
сочинениях
Толстой
выступает
прежде всего
как критик,
полемист и
как антагонист
признанного
богословского
вероучения.
Иначе не
могло и быть.
Призыв
Толстого к
восстановлению
религиозности
был, как сказано
выше,
своеобразной
формой
протеста против
этической
беспринципности
господствующих
классов
капиталистического
общества,
хотя к одному
лишь этому
протесту он не
сводится:
одновременно
он есть и
выражение
слабости,
непоследовательности
толстовской
мысли,
архаичности
ее
устремлений.
При
таких
предпосылках
Толстой
естественно
должен был
искать в
догматическом
богословии
обоснования
практической
этики. По
мысли
Толстого,
христианство,
как и всякое
религиозное
учение,
заключает в
себе две
стороны: 1)
учение о
жизни людей
о том, как
надо жить
каждому отдельно
и всем вместе
учение
этическое, и 2)
объяснение,
почему людям
надо жить
именно так, а
не иначе,
метафизическое
учение (см. 5, 23, 437).
Эти две
стороны
«этическая» и,
по терминологии
Толстого,
«метафизическая»
могут быть
найдены, по
Толстому, во
всех
религиях
мира. Такова
религия браминов,
Конфуция,
Будды,
Моисея,
такова же и христианская
религия: «Она
учит жизни,
как жить, и
дает
объяснение,
почему
именно надо так
жить» (5, 23, 437).
Но
историческое
изучение
показывает,
по Толстому,
что все
религии,
развив
двойственное
«этически-метафизическое»
содержание
своих учений,
подверглись
со временем
перерождению.
По свойственной
им слабости
люди
отступали от
«этического»
учения
религии, и
тогда из их среды
являлись
лица, которые
брались
оправдать
это
отступление.
Лица эти
старались так
разъяснить
«метафизическую»
сторону религиозного
учения, чтобы
этические
требования
становились
необязательными
и чтобы они
заменялись
чисто
внешним
богопочитанием
обрядами.
Это, по
Толстому,
общее всем
религиям
изменение
первоначального
этического
содержания
религиозного
учения ни в
одной из них не
выразилось
так резко,
как в
христианстве.
В
первоначальном
христианстве,
каким его
представляет
Толстой,
«метафизика»
и «этика»,
во-первых, «до
такой
степени
неразрывно
связаны и
определяются
одна другою,
что отделить
одну от
другой
нельзя, не
лишив все
учение его
смысла».
Во-вторых,
первоначальное
христианство,
как его
понимает
Толстой, уже
само по себе
есть
отрицание «не
только
обрядных
постановлений
иудаизма, но
и всякого
внешнего
богопочитания»
(5, 23, 438).
Но
именно
поэтому
происшедший
в христианстве
и общий для
позднейшего
христианства
с другими
позднейшими,
изменившимися
религиями
разрыв между
«метафизикой»
и «этикой»
должен был,
как полагал
Толстой,
совершенно
извратить
христианское
учение и
«лишить его
всякого
смысла» (5,23,438). Так
оно, по
Толстому, и случилось.
Разрыв между
«этическим»
учением о
жизни и
«метафизическим»
объяснением
жизни
начался с
проповеди
Павла, не
знавшего
этического
учения,
выраженного
в Евангелии
Матфея и
проповедовавшего
чуждую
Христу
метафизическо-каббалистическую
теорию.
Окончательно
же осуществился
этот разрыв
во времена
императора
Константина,
когда
начались
вселенские
соборы и
когда центр
тяжести
христианства
переместился
«на одну
метафизическую
сторону
учения» (5, 23, 438).
В
результате
этого
смещения
центра тяжести
христианство
в большей
степени, чем
какая-либо
другая из
великих
исторических
религий,
утратило
составлявшее
некогда его главную
часть
этическое
учение.
65
Толстой
доказывает
эту мысль,
сопоставляя
христианство
с другими
религиями. Все
религии, за
исключением
церковно-христианской,
«требуют от
исповедующих
их, кроме обрядов,
исполнения
еще
известных
хороших поступков
и воздержания
от дурных» (5, 23, 438).
Так, иудаизм
требует обрезания,
соблюдения
субботы,
милостыни, юбилейного
года и еще
многого
другого. Магометанство
требует
обрезания,
ежедневной пятикратной
молитвы,
поклонения
гробу пророка
и многого
другого. И
так обстоит
дело со всеми
религиями.
«Хороши ли,
дурны ли эти
требования,
но это
требования
поступков» (5, 23, 439).
Напротив,
официальное
церковное
христианство
не
предъявляет
никаких
этических требований.
«Нет ничего,
говорит
Толстой, что
бы
обязательно
должен был
делать
христианин и
от чего он
должен был бы
обязательно
воздержаться,
если не считать
постов и
молитв, самою
церковью
признаваемых
необязательными».
Со времен
Константина
христианская
церковь «не
потребовала
никаких
поступков от
своих членов.
Она даже не
заявляла
никаких
требований
воздержания
от чего бы то
ни было» \(5, 23, 439).
Вместо
того чтобы
руководить
людьми в их жизненных
действиях,
церковь
«перетолковала
метафизическое
учение
Христа так,
чтобы оно не
мешало людям
жить так, как
они жили».
«Церковь
раз уступила
миру, а раз
уступив миру,
она пошла за
ним. Мир
делал все,
что хотел, предоставляя
церкви, как
она умеет,
поспевать за
ним в своих
объяснениях
смысла
жизни». Мир
устанавливал
свою во всем
противную этическому
учению
христианства
жизнь, а
церковь
«придумывала
иносказания,
по которым бы
выходило, что
люди, живя
противно закону
Христа, живут
согласно с
ним» (5, 23, 439).
В
результате
церковь
признала и
даже освятила
все, что было
в языческом
мире. «Она признала
и освятила и
развод, и
рабство, и
суды, и все те
власти,
которые были,
и войны, и
казни, и
требовала
при крещении
только словесного,
и то только
сначала,
отречения от зла;
потом при
крещении
младенцев
перестали
требовать
даже и этого» (5,
23, 439).
Но
именно
потому,
указывает
Толстой, что
учение
церкви
сложилось
как оправдание
исторически
определенного
общественно-политического
порядка, со
временем, с
изменением
форм
общественной
жизни, церковное
учение
начало
отставать.
Придуманное для
оправдания
древней
формы
рабства, оно уже
не годилось
для общества,
отменившего
эту древнюю форму
и сменившего
ее на другую.
С другой
стороны,
несмотря «а
все свои
старания
скрыть от
верующих
истинное
этическое
учение
Христа,
вопреки
запрещению
переводов
Библии на
национальные
языки пришло время,
когда
истинное
учение
Христа
через
вольнодумцев
и через
сектантов
стало
проникать в
народ. Так
как народ не
мог жить без
этического
учения и так
как церковь
извратила и
даже старалась
скрыть
этическое
учение христианства,
то «учение о
жизни
эмансипировалось
от церкви и
установилось
независимо
от нее» (5, 23, 440).
«Так, сами
люди помимо
церкви
уничтожили
рабство,
оправдываемое
церковью ...
религиозные
казни,
уничтожили
освященную
церковью власть
императоров,
пап, и теперь
начали стоящее
на очереди
уничтожение
собственности
и государств»
(5, 23, 440).
«Все, что
точно живет,
утверждает
Толстой, а не
уныло
злобится, не
живя, а
только мешая
жить другим,
все живое в
нашем
европейском
мире отпало
от церкви и
всяких
церквей и живет
своей жизнью
независимо
от церкви» (5, 23, 440).
Так,
государственная
власть основывается
«на предании,
на науке, на
народном избрании,
на грубой
силе, на чем
хотите, но только
не на церкви» (5,
23, 441). «Войны и
отно-
66
шения
государств
устанавливаются
на принципе
народности,
равновесии,
на чем
хотите,
только не на
церковных
началах» (5, 23, 441).
Государственные
учреждения
по сути
игнорируют
церковь,
«мысль о том, чтобы
церковь
могла быть
основой суда,
собственности,
в наше время
только
смешна». Наука
не только не
находится в
согласии с
учением
церкви, но
«нечаянно,
невольно в
своем
развитии
всегда
враждебна
церкви». Даже
искусство,
некогда
служившее
церкви,
«теперь все
ушло от нее» (5, 23,441).
Но
церковь, по
Толстому, не
только
извратила и
забросила
этическое
учение
христианства.
Так как
«этическое»
учение
каждой
религии неразрывно
связано, как
думает
Толстой, с учением
«метафизическим»,
то порча
первого неминуемо
вызвала
порчу и
второго,
породила в
церкви
стремление
превратить
религию в
оправдание
существующего
порядка и прежде
всего в
оправдание
существующего
социального
зла.
Мысль
эту Толстой
доказывает в
«Критике догматического
богословия»
одном из
самых страстных
своих
произведений.
Книга эта дышит
гневом,
негодованием,
чувством
оскорбленной
и обманутой
страдающей
человечности.
Шаг за шагом,
параграф за
параграфом
Толстой
излагает
догматическое
вероучение
православной
церкви.
Одновременно
он рассказывает
о своих
попытках
понять это вероучение,
найти в нем
разумный
смысл и обоснование
нравственного
поведения. Но
во множестве мест
книги
терпение
автора
иссякает,
оскорбленное
достоинство
мыслителя и
нравственного
существа
возвышает
голос, и
тогда из уст
Толстого
слетают
исполненные
страдания
слова.
В
догматическом
богословии
Толстого оскорбляет
все: и
содержание
учения, и
практическая
цель, к
которой оно
клонится, и
приемы
изложения и
убеждения. В
приемах
изложения
Толстой
всюду
находит
«неясность
выражений,
противоречия,
облеченные
словами, ничего
не
разъясняющими,
принижение
предмета,
сведение его
в самую
низменную
область, пренебрежение
к
требованиям
разума и то
же одно
постоянное
стремление
связать
внешним,
словесным
путем самые
разнообразные
суждения о
боге, начиная
от Авраама до
отцов церкви,
и на этом
одном
предании
основать все
сваи
доказательства»
(5, 23, 98).
Изложение
богословия
Толстой
находит не
только не истинным
по существу
его
содержания,
но в значительной
части
случаев
попросту
лишенным
всякого
смысла.
«Очевидно,
пишет Толстой,
слова тут
уже
совершенно
оторвались
от мысли, с
которой были
связаны, и не
вызывают уже
никакой
мысли» (5, 23, 98). Так,
Толстой
«долго делал
страшные
усилия, чтобы
понять, что
разумеется,
например, под
духовными
естествами, под
различением
свойств, под
умом и волей
бога». И все же
он не мог
добиться
понимания и убедился
наконец, что
автору
догматического
богословия
«нужно только
связать
внешним
образом все
тексты, а что
разумной
связи между
его словами
нет и для
него самого» (5,
23, 9899). Но
решающая в
глазах Толстого
черта
догматов их
практическая
неприложимость,
невозможность
вывести из
них какие бы
то ни было
нравственные
правила. При
этом чем
дальше
отстоит
догмат от возможности
практического
нравственного
его
применения,
тем больше
значение, какое
приписывает
ему церковь.
«Догматы:
исхождения
духа,
естества
Христа,
таинство причащения,
чем дальше
они были от
возможности
какого-нибудь
нравственного
приложения,
тем более они
волновали
церкви» (5, 23, 177178).
Толстой
не
ограничился
одной лишь
теоретической,
логической и
практической
критикой
догматов
церковного
богословия.
Для Толстого
первостепенное
значение при
критике
каждого
догмата имел
также вопрос
о том, какой
практический
повод
«заставил
церковь
исповедывать
67
этот
бессмысленный
догмат и так
старательно
подбирать
вымышленные
доказательства
его» (5,23, 122).
Исследование
этого
вопроса
привело
Толстого к
выводу, что
церковное
толкование
догматов
имеет два
основания.
Первое из них
состоит
попросту в
грубости и в
примитивности
свойственного
церковным
писателям
понимания
текстов
писания,
которыми
обосновываются
догматы. «...Выписки
из писания,
разъяснял
Толстой, показывают,
что
утверждение
этих
бессмыслиц происходит
не
произвольно,
но вытекает...
из ложного,
большей
частью
просто
грубого понимания
слов писания»
(5, 23, 186).
Второе,
по Толстому,
основание
церковного толкования
догматоз
состоит в
утверждаемой
церковью
непогрешимости
собственных
учений. В
свою очередь,
собственную
непогрешимость
церковь
выводит из
непогрешимости
церковной
иерархии.
Понятием об
этой иерархии
в богословии
незаметно
подменяется
понятие
церкви.
В
конечном
счете учение
церкви, «как
его преподает
богословие,
все основано
на том, чтобы,
установив
понятие
церкви как
единой истинной
хранительницы
божеской
истины, подменить
под это
понятие
понятие
одной известной,
определенной
иерархии...» (5, 23, 219).
Но этого
мало. В
системе
догматов и
учений богословия
Толстой
обнаруживает,
кроме грубости
понимания
текстов
писания и
кроме гордости
и самомнения
иерархии,
отождествившей
себя с
церковью, а
свои учения
с самой
истиной, еще
и прямую
практическую
цель. Эта
цель
внушение
верующим
таких
верований и
представлений,
которые
благоприятствуют
корыстным
материальным
интересам иерархии.
Например,
важное для
всей системы христианского
богословия
учение о
благодати
«есть, с одной
стороны,
неизбежное
следствие ложной
посылки, что
Христос
искуплением
изменил мир,
а с другой
стороны, оно
же и есть основа
тех
жреческих
обрядов,
которые
нужны для
верующих,
чтобы
отводить им
глаза, а для
иерархии
чтобы
пользоваться
выгодами жреческого
звания» (5, 23, 229).
Введение
безнравственного
учения о
благодати с
логической
неизбежностью
повлекло за
собой введение
целого ряда
еще более
безнравственных
и грубых
учений.
Обманное
учение церкви
о том, что
человек
всегда
порочен и бессилен
и что все его
личные
стремления к
добру бесполезны
до тех пор,
пока он не
усвоит себе
благодати,
учение это
«под корень
подсекает все,
что есть
лучшего в
природе
человека» (5, 23, 230). За
признанием
благодати
последовало
учение,
сводящее
веру к
доверию ко
всему, о чем учит
иерархия, и к
послушанию,
за учением о
вере как о
послушании
учение о
механическом
действии
таинств:
крещения,
миропомазания,
причащения и
т. д. В свою очередь,
необходимость
побуждать
людей к исполнению
отправляемых
иерархами
таинств
привела к
учению о
загробном
наказании тех,
кто при жизни
не исполнял
таинств.
Итогом
исследования
Толстого,
посвященного
догматическому
богословию,
стало полное
отрицание
церкви как
установления
и полное
отрицание ее
учений. «Как
же я могу, спрашивает
Толстой,
верить этой
церкви и верить
ей тогда,
когда на
глубочайшие
вопросы
человека о
своей душе
она отвечает
жалкими
обманами и
нелепостями
и еще
утверждает,
что иначе
отвечать на
эти вопросы
никто не
должен сметь,
что во всем
том, что
составляет
самое
драгоценное
в моей жизни,
я не должен
сметь
руководиться
ничем иным,
как только ее
указанием.
Цвет
панталон я
могу выбрать,
жену могу
выбрать... но
остальное, то
самое, в чем я чувствую
себя
человеком, во
всем том я
должен
спроситься у
них у этих
праздных,
обманывающих
и
невежественных
людей» (5, 23, 296).
68
С
огромной
силой
негодования
Толстой бичует
лицемерие
церкви,
разительное
расхождение
ее
современных
учений с
первоначальным
нравственным
учением
христианства.
Отступив от
духа
христианства,
церковь, доказывает
Толстой,
извратила
христианское
учение до
полного
отрицания
его всей своей
нынешней
жизнью:
«...вместо
уничижения величие,
вместо
бедности
роскошь,
вместо неосуждения
осуждение
жесточайшее
всех, вместо
прощения
обидненависть,
войны, вместо
терпения зла
казни» (5, 23, 301).
Всем
этим
лицемерием
прикрывается
главный и
непростительный,
в глазах
Толстого, грех
церкви ее
участие в
общественном
порядке,
основанном
на угнетении
и ограблении
трудящихся. В
конечном
счете для
Толстого слово
«церковь»
«название
обмана,
посредством
которого
одни люди
хотят
властвовать
над другими» (5,
23, 301).
Сила
толстовской
критики
церкви не в
новизне
доводов,
которыми
Толстой
доказывал несостоятельность
церковного
догматического
учения.
Задолго до
Толстого
догматы эти
были
подвергнуты
такой же или
подобной
рационалистической
критике
деистами,
рационалистами,
вольнодумцами,
сектантами
различных
мастей.
Толстой только
применил эти
доводы, уже
использованные
против
католичества
и против
протестантизма,
к
православию.
Однако в
80-х годах,
когда Толстой
писал свои
богословские
сочинения, развитая
им критика
догматического
богословия
сыграла
несомненно
положительную
роль.
Оригинальной,
неповторимой,
самобытной
критику
Толстого
сделала
зоркость, с
которой
Толстой
разглядел
связь,
существовавшую
между учениями
церкви и
социальным
строем
современного
капиталистического
общества.
«Крестьянский»
взгляд
Толстого и в
церкви разгадал
одну из сил,
разоряющих и
порабощающих
крестьянство,
узаконивающих
и освящающих
бедствия
надвигавшегося
на крестьянина
нового и непонятного
для него
врага
капитализма.
В своих
суждениях о
Толстом
Ленин всегда
отмечал силу,
убежденность
и
искренность
толстовской
критики
церкви.
Отмечая как
достоинство
Толстого
«замечательно
сильный,
непосредственный
и искренний
протест против
общественной
лжи и фальши»,
Ленин тут же
замечал, что
протест этот
был
направлен
Толстым прежде
всего против
церкви. И во
взглядах Толстого
на церковь
Ленин также
ценил, как и в других
сторонах его
воззрений,
«самый трезвый
реализм,
срывание
всех и
всяческих масок...»
(2, 17, '209). В
толстовской
критике
церкви Ленин,
как и в
других
частях
учения
Толстого, видел
выражение
настроений
«примитивной
крестьянской
демократии, в
которой
века... церковного
иезуитизма,
обмана и
мошенничества
накопили
горы злобы и
ненависти» (2,20,20).
В этом
отношении
Ленин
особенно
выделял позднейшие
произведения
Толстого.
Именно в них
Толстой, как
показал
Ленин,
«обрушился с
страстной
критикой на
все
современные
государственные,
церковные,
общественные,
экономические
порядки,
основанные
на
порабощении
масс, на
нищете их, на
разорении
крестьян и
мелких
хозяев
вообще, на насилии
и лицемерии,
которые
сверху
донизу пропитывают
всю
современную
жизнь»
(разрядка
моя.В. А.) (2,20,40).
Толстовская
критика
церкви и
церковного богословия
стала предметом
внимания и
вызвала
сочувствие
широких
кругов
русского
общества.
Волна этого
сочувствия
поднялась
особенно
высоко, когда
Синод
опубликовал
во всеобщее
сведение
специальный
акт об
отлучении
Толстого от
православной
церкви. В
день
опубликования
постановления
Синода
Толстой стал,
в сознании
культурных
людей всего
мира, в один
69
ряд с
такими
борцами и
деятелями
независимой
мысли, каким
был Спиноза,
какими были
французские
просветители.
Однако в
русской (и не
только в
русской) буржуазной
идеалистической
литературе
религия
Толстого
была подвергнута
истолкованию,
притуплявшему
ее социальную
направленность
и
сглаживавшему
противоречия
толстовской
критики
церкви и
православия.
Широкое
распространение
получил
взгляд, по
которому
Толстой
будто бы
всеобщая совесть
современного
мира, творец
общечеловеческой
религии,
аз-тор
философско-религиозного
мировоззрения.
Взгляд этот
развивали и
некоторые
авторы,
считавшие
себя марксистами
или близкими
к марксизму.
Так, В. Базаров
в статье,
появившейся
в журнале «Наша
заря» (1910, № 10),
утверждал,
будто
Толстой
впервые «объективировал»,
т.е. создал не
только для
себя, но и для
других, ту
чисто
человеческую
религию, о
которой Кант,
Фейербах и
другие представители
современной
культуры
могли только
субъективно
мечтать.
Безусловную
ложность
этого
понимания
религии Толстого
вскрыл Ленин.
В статье
«Герои «оговорочки»»
Ленин
показал, что
взгляд
Базарова и
многих
других
публицистов
на религию Толстого
и на ее
значение в
идейном
развитии русского
общества
основан на
извращении действительности.
«Более
полувека
тому назад,
писал Ленин,
Фейербах, не
умея «найти
синтеза» в
своем миросозерцании,
представлявшем
во многих отношениях
«последнее
слово»
немецкой
классической
философии,
запутался в
тех «субъективных
мечтах»,
отрицательное
значение
которых
давно уже
было оценено
действительно
передовыми
«представителями
современной
культуры».
Объявить
теперь,
продолжает
Ленин, что
Толстой
«впервые объективировал»
эти
«субъективные
мечтания», значит
уходить в
лагерь
поворачивающих
вспять,
значит
льстить
обывательщине,
значит подпевать
веховщине» (2, 20,
9192).
Особенно
ошибочным
извращением
действительной
сути религии
и
мировоззрения
Толстого
Ленин считал
утверждение
Базарова, будто
«идеализация
патриархально-крестьянского
быта,
тяготение к
натуральному
хозяйству и
многие другие
утопические
черты
толстовства,
которые в
настоящее
время
выпячиваются
(!) на первый
план и
кажутся
самым
существенным,
в действительности
являются как
раз
субъективными
элементами,
не
связанными
необходимой
связью с
основой
толстовской
«религии» (2,20, 92).
«Итак,
иронизирует
Ленин по
поводу этого
утверждения
Базарова,
«субъективные
мечты» Фейербаха
Толстой
«объективировал»,
а то, что
Толстой
отразил и в
своих
гениальных
художественных
произведениях
и в своем полном
противоречий
учении,
отмеченные
Базаровым
экономические
особенности
России
прошлого
века, это «как
раз
субъективные
элементы» в
его учении.
Вот что
называется попасть
пальцем в
небо» (2,20,92).
Напротив,
ленинский
анализ
вскрыл и в
религии
Толстого противоречие
между
отраженными
в мысли Толстого
особенностями
развития
пореформенной
России и
субъективной
неспособностью
Толстого
найти
действительное
разрешение
или «синтез»
этих
противоречий.
«Именно
синтеза,
писал Ленин,
ни в
философских
основах своего
миросозерцания,
ни в своем
общественно-политическом
учении
Толстой не
сумел, вернее:
не мог найти» (2,
20, 91).
Как ни
искренна
была
толстовская
критика церковной
религии и как
ни сильно
было ее действие,
критика эта
таила в себе
глубокое противоречие.
Толстой
отвергает
церковную
форму веры, но
лишь для
того, чтобы
очистить и,
очистив, укрепить
самый
принцип веры.
Он отвергает
70
церковное
учение о
боге, но лишь
для того, чтобы
на его место
поставить
духовно
утолченное,
нравственно
очищенное
новое понятие
о боге. Он
осуждает
поддержку,
какую церковь
оказывает
капиталистическому
угнетению, но
не для
действительной
борьбы с капиталистическим
порядком, а
для проповеди
непротивления
злу насилием.
Так,
Толстой
отрицает все
развиваемые
богословием
доказательства
существования
бога,
ссылается
при критике
этих
доказательств
на критику их
у Канта, но
делает все
это не для
того, чтобы
отвергнуть в
принципе
всякое
доказательство
бытия бога, а
для того,
чтобы,
отвергнув богословские
доказательства,
как нелепые, выдвинуть,
точнее,
повторить,
сохранить
другие
деистические,
которые
кажутся ему
истинными.
Упрекая
богословов
за нарушение
основных
законов
логики и
разума,
Толстой, сам
того не
замечая,
отрекается
от логики в
собственном
доказательстве
бытия бога и
души: «Бога и
душу я знаю
так же, как я
знаю бесконечность,
не путем
определения,
но совершенно
другим путем.
Определения
же разрушают
во мне это
знание» (5, 23,132).
Толстой
горячо и
гневно
протестует
против
участия
церкви в
капиталистическом
насилии. Но в
то же время, в
той же
«Критике
догматического
богословия»
он
доказывает,
будто
христианское
учение,
освобожденное
от церковных
софизмов,
истинно и
будто истина
его в заповеди,
запрещающей
всякую
борьбу с
насилием при
помощи
насилия. В
учении
Толстого средоточием
всех усилий
провозглашается
личное, и
только
личное,
спасение и
совершенствование.
Условие его,
по сути,
«неделание» (1е
nоn agir),
воздержание
от всякой
деятельности,
полный покой,
квиетизм.
«Все учение
Иисуса, говорит
Толстой,
только в том, что
простыми
словами
повторяет
народ: спаси
свою душу, но
направляй
силы только
на свою, потому
что она все.
Страдай,
терпи зло, не
суди все
только
говорит одно.
При всяком же
прикосновении
к делам мира
Иисус учит
нас примером
полного
равнодушия,
если не
презрения...
Все, что не
твоя душа,
все это не твое
дело. Ищите
царства
небесного и
правды его в
своей душе, и
все будет
хорошо» (5, 23, 302303).
Во всех
этих чертах
толстовской
критики церковного
учения мы
узнаем не
только отражение
крестьянского
протеста и
накопившейся
столетиями
ненависти к угнетавшему
крестьян
порядку, но
вместе с тем
и отражение
указанной
Лениным
другой черты
бессилия
патриархального
крестьянства,
его
наивности,
юродства в
выборе средств
для борьбы
против зла.
По словам
Ленина, Толстой
отражает
настроение
крестьянских
масс так
верно, что
сам в свое
учение
вносит их
наивность, их
отчуждение
от политики,
их мистицизм,
желание уйти
от мира,
«непротивление
злу»,
бессильные
проклятья по
адресу капитализма
и «власти
денег».
И в своей
критике
церковной
религии и в
своем
обосновании
«очищенной»
от
церковного
обмана и
лицемерия
«истинной»
религии
Толстой, как
указал Ленин,
неспособен
стать на
конкретно-историческую
точку зрения.
«Он
рассуждает,
писал по
этому поводу
Ленин,
отвлеченно,
он допускает
только точку
зрения
«вечных» начал
нравственности,
вечных истин
религии...» (2, 20, 101).
Это
отсутствие
конкретно-исторической
точки зрения
имело
результатом
то, что Толстой
не заметил,
как, подменив
церковную
религию
«очищенной»
нравственной
религией, он
на деле
вместо
грубого,
открытого
оправдания
существующего
порядка предлагал,
по сути,
также
примирение с
этим порядком,
но
примирение
неявное,
утонченное н
поэтому
несравненно
более
опасное.
Развивая
точку зрения
«вечных»
71
истин
религии, Толстой,
говоря
словами
Ленина, не
сознавал «того,
что эта точка
зрения есть
лишь идеологическое
отражение
старого
(«переворотившегося»)
строя, строя
крепостного,
строя жизни
восточных
народов» (2,20, 101).
Дело
здесь, как
показал
Ленин, не в
личных нравственных
чертах или
качествах
тех, кто
субъективно
нуждается в
«очищенной»
религии и эту
религию
проповедует.
Религию
Толстого, так
же как и
религию
богоискателей,
Ленин рассматривает
и оценивает
не как факт
лично-го психологического
и морального
развития Толстого
и
богоискателей.
Религию эту
Ленин рассматривает
и оценивает
исключительно
как факт
общественной
психологии и
общественного
поведения.
Именно с этой
не личной, а
общественной
точки
зрения Ленин
бичевал не
самого
Толстого, как
личность, а
«толстовство»,
как
выражение
общественной
слабости, бессилия
и
расхлябанности
известной
части
русской
интеллигенции.
B
«толстовстве»
Толстого и
шедших за ним
интеллигентов
Ленин видел
одно из
обнаружений
столь
характерного
для Толстого
противоречия
его личности
и деятельности,
отражавшего
противоречивый
характер
пореформенного
развития
России.
IV
КРИТИКА
НАСИЛИЯ И
УЧЕНИЕ О
НЕПРОТИВЛЕНИИ
ЗЛУ НАСИЛИЕМ.
АНАРХИЗМ
В числе
обвинений,
предъявляемых
Толстым церкви,
одно из
глазных
состоит в
указании на
поддержку,
какую находит
в учении и в
проповеди
церкви
насилие насилие
господствующих
классов
современного
капиталистического
общества.
Проблема
насилия,
вопрос об
источниках
его
возникновения,
о его формах,
о его значении
в
общественной
жизни, о его
действии на
нравственную
жизнь людей,
о его
правомерности
или неправомерности,
целесообразности
или нецелесообразности
всегда была
одной из
центральных
в
мировоззрении
Толстого. Уже
в ранних
художественных
вещах,
посвященных
изображению
войны,
например в
«Набеге»,
Толстой
заявлял, что
война
интересует
его не с
исторической
или
стратегической,
но только с
этической
точки зрения:
«...интересовал
меня самый факт
войныубийство.
Мне
интереснее
знать, каким
образом и под
влиянием
какого чувства
убил один
солдат
другого, чем
расположение
войск при
Аустерлицкой
или
Бородинской
битве» (5, 2, 5).
В
педагогических
статьях 60-х
годов
основным
принципом, на
котором
строилась
вся практика
яснополянской
школы,
Толстой
провозглашает
решительное
и
безоговорочное
отрицание
насилия в
воспитании и в
обучении.
Отрицание
насилия в
этих статьях
Толстой выводил
из
недоступности
человеку
знания о том,
что
составляет
предмет
необходимого
для человека
знания. «Мы не
знаем, писал
Толстой, чем
должно быть
образование
и воспитание,
не признаем
всей философии
педагогики,
потому что не
признаем
возможности
человеку
знать то, что
нужно знать человеку»
(5,8,24).
Но
Толстой не
только
ссылался на
незнание. Он
доказывал,
будто
насилие в
деле образования
невозможно,
будто оно не
приводит ни к
каким
результатам,
кроме
плачевных, и
будто
насилие
воспитателя не
может иметь
никакого
основания,
кроме произвола.
«Права
воспитания
не
существует. Я
не признаю
его, не
признает, не
признавало
72
и не
будет
признавать
его все
воспитываемое
молодое
поколение,
всегда и
везде возмущающееся
против
насилия
воспитания» (5, 8,
217).
Проблема
насилия
вновь
ставится в
центре внимания
в романе
«Война и мир» и
в художественном
изображении
и в
философско-исторических
рассуждениях
в
изображении
плена Пьера
Безухоза. И
здесь
внимание Толстого
приковало к
вопросу
каким образом
возможно,
чтобы один
человек
повиновался
насилию,
совершаемому
над ним
другими людьми.
Но в
«Войне и мире»,
в отличие от
педагогических
статей,
вопрос этот
приводится к
другому
вопросу о
существе
власти. В
противоречии
со всем
художественным
содержанием
романа,
изображающего
доблесть и
героизм
всенародной
борьбы
против
нашествия
Наполеона,
здесь, в
изображении
сцен французского
плена,
выдвигается
мысль, будто
единственным
жизненно
правильным
образом
действий человека,
испытывающего
на себе самом
насилие
власти,
должно быть
терпение и
покорность,
т. е.
непротивление.
«Вот оно!..
Опять оно!»
сказал себе
Пьер, и
невольный
холод
пробежал по
его спине. В
измененном
лице капрала,
в звуке его
голоса, в
возбуждающем
и заглушающем
треске
барабанов
Пьер узнал ту
таинственную,
безучастную
силу, которая
заставляла
людей против
своей воли
умерщвлять
себе
подобных, ту
силу,
действие которой
он видел во
время казни.
Бояться,
стараться
избегать
этой силы,
обращаться с
просьбами
или
увещаниями к
людям,
которые
служили орудиями
ее, было
бесполезно.
Это знал
Пьер. Надо
было ждать и
терпеть» (5, 12, 100).
B то же
время
явление
власти и
отношение
власти
представляется
Толстому
чрезвычайно
важным
понятием
исторического
познания.
Будучи, по
словам
Толстого,
«единственным»
понятием,
«известным
историкам»,
понятие
власти есть
вместе с тем
«единственная
ручка, посредством
которой
можно
владеть
материалом истории»
(б, 12, 305).
Толстой
отверг
взгляд, по
которому
власть есть
совокупная
воля масс,
перенесенная
на
исторические
лица. В этом
взгляде он
видит
простую
тавтологию, вернее
повторение
термина,
смысл
которого не
поддается
постижению.
«Какая
причина исторических
событий?
Власть. Что
есть власть?Власть
есть
совокупность
воль, перенесенных
на одно лицо.
При каких
условиях
переносятся
воли масс на
одно лицо?
При условиях
выражения
лицом воли
всех людей. Т.
е. власть
есть власть.
Т. е. власть
есть слово,
значение
которого нам
непонятно» (5, 12,314).
Но каким
бы
непостижимым
для ума ни представлялось
Толстому в
«Войне и мире»
явление
власти, все
же в эпоху, к
которой относится
работа над
этим романом,
Толстой был убежден
в том, что
соответствие
между совокупными
действием
масс и
соображениями
и решениями
исторических
деятелей все
же в принципе
возможно.
Поэтому
власть
Толстой определяет
здесь как
«такое
отношение
известного
лица к другим
лицам, в
котором лицо
это тем менее
принимает
участие в
действии, чем
более оно
выражает
мнений,
предложений
и оправданий
совершающегося
совокупного
действия» (5, 12, 322).
Другими
словами, по
Толстому,
доблесть
исторического
лица не в
поиске
личного
решения
вопроса и не
в
действовании,
руководимом
личным
пониманием и
личной оценкой
исторической
ситуации.
Доблесть
исторического
лица в
способности
так поставить
себя и так
определить
свое поведение,
чтобы все его
действия
только
выражали
совокупное
действие
масс, или
равнодействующую
поведения
масс,
составляющую
подлинную
ткань
исторического
процесса. Поэтому
для Толстого
Кутузов
истинный
исторический
деятель,
выразитель
народного
смысла войны
73
1812 года, в
то время как
Наполеон
деятель мнимый,
деятель
только в
своем
субъективном
представлении.
В
произведениях,
написанных в
80-х годах и позже,
Толстой
развивает
критику
общественного
строя,
основанного
на
порабощении
большинства
меньшинством.
В связи с
этим он
изменяет
постановку
вопроса о
власти. Он не
только
гораздо
подробнее,
чем в
предшествующих
сочинениях,
пытается
исследовать
связь,
существующую
между властью
и насилием.
Теперь
Толстого
занимает не
вопрос о
власти
вообще, но
главным образом
вопрос о
власти
государственной,
и не о насилии
вообще, но о
насилии,
осуществляемом
учреждениями
государственными
и лицами,
представляющими
государственную
власть.
B работах
этого
периода
Толстой
развивает учение
этического
анархизма. Он
отрицает не
только
государство
со всеми его
учреждениями
и
установлениями,
не только
отвергает
всякое
насилие,
совершаемое
государством,
но вместе с
тем пытается
доказать,
будто
единственным
средством
радикального
уничтожения
зла может
быть только
непротивление
злу насилием,
т. е. полный
отказ от
насилия как
от средства
борьбы с
насилием.
Анархизм
и доктрина
непротивления
злу насилием
наиболее
характерные
черты общественных
и этических
взглядов
Толстого. Именно
в анархизме и
в учении о
непротивлении
всего
сильнее сказалось
не раз уже
обрисованное
в предшествующем
изложении
противоречие
мировоззрения
Толстого
противоречие
между сильной,
смелой,
страстной
критикой
капитализма
и наивной
беспомощной,
юродивой
патриархальной
крестьянской
точкой
зрения, с
которой
Толстой
рассматривает
отрицательные
явления надвигавшегося
на Россию и
утвердившегося
в ней
капитализма.
Предпосылку
толстовской
критики
капитализма
образует
убеждение
Толстого,
будто общественные
отношения
между людьми
складываются
отнюдь не на
основе
экономических
отношений.
«...Такое
утверждение,
говорит
Толстой,
есть только
установка,
вместо
очевидной и
ясной
причины
явления,
одного из его
последствий».
По Толстому,
«причина тех
или иных
экономических
условий
всегда была и
не может быть
ни в чем ином,
как только в
насилии
одних людей
над другими;
экономические
же условия
суть
последствия
насилия и
потому никак
не.могут быть
причиной отношений
между людьми»
(5, 36, 318).
|С того
времени как
возникла
борьба между
людьми, т. е.
противление
насилием
тому, что
каждый из
борющихся
считал злом,
возник и
вопрос,
следует или
не следует
противиться
злу насилием.
Вопрос этот,
по Толстому,
неустраним и
непременно
должен быть
решен. «...Это
вопрос самою
жизнью
поставленный
перед всеми
людьми и
перед всяким
мыслящим человеком
и неизбежно
требующий
своего разрешения»
(5,28,447).
Условием
решения
этого
вопроса
Толстой считает
освобождение
людей от ряда
иллюзий,
господствующих
над их
сознанием.
Первая в ряду
этих иллюзий
состоит, думает
Толстой, в
вере, будто
последовательная
смена
общественных
форм и форм
государственного
устройства
привела к
уменьшению
существующего
в обществе
насилия. Несмотря
на всю
значительность
изменений,
происшедших
в
западноевропейском
и русском обществе
с переходом
от
крепостнических
форм к формам
капиталистическим,
действительным
характером
общественных
отношений и
при капитализме
осталось, по
Толстому,
насилие, насильственное
угнетение
трудящегося
большинства
нетрудящимся
меньшинством.
Более
того. Вся
предшествующая
история
общества
была, по Толстому,
историей
смены
различных
форм насилия
человека над
челове-
74
ком.
Менялись
только формы,
«о сущность
оставалась
та
же.«Человечество
перепробовало
все
возможные
формы
насильственного
правления, и
везде, от самой
усовершенствованной
республиканской
до самой
грубой
деспотической,
зло насилия
остается то
же самое и
качественно
и количественно.
Нет
произвола
главы
деспотического
правительства,
есть
линчевание и самоуправство
республиканской
толпы; нет
рабства личного
... нет
самовластных
падишахов,
есть самовластные
короли,
императоры,
миллиардеры,
министры,
партии» (5, 36, 200).
Как бы ни
менялись
общественные
формы, повсюду
жизнь
общества,
утверждает
Толстой, представляла
до сих пор и
представляет
в настоящее
время
картину
порабощения
большинства
меньшинством
насильников,
захвативших
власть над
большинством.
«Положение
нашего христианского
мира теперь
таково: одна,
малая часть
людей
владеет
большей
частью земли и
огромными
богатствами,
которые все
больше и
больше
сосредоточиваются
в одних руках
и употребляются
на
устройство
роскошной,
изнеженной,
неестественной
жизни
небольшого
числа семей» (5,
36, 192).
Напротив,
«другая,
большая
часть людей,
лишенная
права и
потому
возможности
свободно пользоваться
землей, обремененная
податями,
наложенными
на все необходимые
предметы,
задавленная
вследствие
этого
неестественной,
нездоровой
работой на
принадлежащих
богачам
фабриках, часто
не имея ни
удобных
жилищ, ни
одежд, ни здоровой
пищи, ни
необходимого
для
умственной,
духовной
жизни досуга,
живет и
умирает в
зависимости
и ненависти к
тем, которые,
пользуясь их
трудом,
принуждают
их жить так» (б,
36, 192193).
Но жизнь
современного
общества, как
полагал
Толстой,
состоит не
только в
насилии, которое
большинство
терпит от
меньшинства.
Жизнь, кроме
того, состоит
в непрерывной
борьбе
меньшинства
с
большинством
и, наоборот,
большинства
с
меньшинством.
«И те и другие,
утверждает
Толстой,
боятся друг друга
и, когда
могут,
насилуют,
обманывают, грабят
и убивают
друг друга.
Главная доля
деятельности
и тех и
других
тратится не
на
производительный
труд, а на
борьбу. Борются
капиталисты
с
капиталистами,
рабочие с
рабочими,
капиталисты
с рабочими» (5, 36, 193).
Основным
проявлением
господствующего
в общественной
жизни
насилия
Толстой считает
отнятие
земли у
большинства
народа, необходимой
ему для
производительного
труда.
«...Вглядитесь,
говорит
Толстой, во
все ужасы
нужды и во
все
страдания,
происходящие
от очевидной
причины: у
земледельческого
народа
отнята земля.
Половина
русского крестьянства
живет так,
что для него
вопрос не в
том, как
улучшить
свое
положение, а
только в том,
как не
умереть с
семьей от
голода, и
только
оттого, что у
них нет
земли» (5, 36, 209).
Но народ
не только
насильственно
лишен земли.
Он, кроме
того,
страдает от
непрекращающегося
насилия
богатых и на
тех клочках
земли,
которые у
него еще остались.
«...Не говоря
уже о
главном, о
недостатке земли,
чтобы
кормиться,
большинство
из них не
может не
чувствовать
себя в
рабстве у тех
помещиков,
купцов,
землевладельцев,
которые
окружили
своими
землями их
малые, недостаточные
наделы, и они
не могут не
думать, не
чувствовать
этого,
потому, что
всякую
минуту за
мешок травы,
за охапку
дров, без которой
им жить
нельзя, за
ушедшую
лошадь с их
земли на
господскую
терпят, не
переставая,
штрафы,
побои,
унижения» (5, 36, 209).
Внимание
Толстого
естественно
направлено
прежде всего
на то
насилие,
которому подвергается
русское
крестьянство.
Но не в лучшем,
но Толстому,
положении
находятся и
рабочие.
«Несмотря на
75
все
притворные
старания
высших
классов
облегчить
положение
рабочих, все
рабочие
нашего мира,
говорит
Толстой,
подчинены
неизменному
железному
закону, по
которому они
имеют только
столько,
сколько им
нужно, чтобы
быть
постоянно
понуждаемыми
нуждой к
работе и быть
в силе работать
на своих
хозяев, т. е.
завоевателей»
(5, 28, 135).
При этом
насильственное
порабощение
в сущности
мало зависит,
по Толстому,
от тех форм
правления, в
которых жили
и живут
порабощенные
массы народа.
«Разница
только в том,
что при
деспотической
форме
правления
власть
сосредоточивается
в малом числе
насилующих и
форма
насилия более
резкая; при
конституционных
монархиях и
республиках,
как во
Франции и
Америке, власть
распределяется
между
большим
количеством
насилующих и
формы ее
выражения
менее резки; но
дело насилия,
при котором
невыгоды
власти
больше выгод
ее, и процесс
его,
доводящий
насилуемых
до
последнего
предела
ослабления,
до которого
они могут
быть
доведены для
выгоды
насилующих,
всегда одни и
те же» (5, 28, 136).
Толстой
разглядел и
те формы насилия
господствующего
класса
капиталистического
общества,
которые
характеризуют
эпоху
империализма.
Даже
происшедшее в
последние
столетия
«ограничение
власти среди
западных
народов и
распространение
ее во всем
народе не
облегчило,
по Толстому,
бедствий
народа, а
только
привело
людей этик
народов и к
развращению
и к тому
положению, в
котором они
должны жить
обманом и
грабежом других
народов» (5, 36, 332).
Так,
западные
народы, кроме
своих
внутренних
бедствий и
развращения
большей
части своего
населения вследствие
его участия
во власти,
приведены к
необходимости
«обманом и
насилием
отнимать для
своего
пропитания
труды
восточных
народов».
Напротив,
восточные
народы в большинстве
своем до сих
пор
«продолжают
повиноваться
своим
правительствам
и, отставая в
выработке
средств
борьбы с
западными
народами,
приведены к
необходимости
покоряться
им» (5, 36, 331). Но зло,
причиняемое
насилием
угнетателей
над
угнетенными,
не
ограничивается,
по Толстому,
одним лишь
прямым
подавлением
и
ограблением
большей
части народа.
Насильственно
подавляя
народ, власть
угнетателей,
кроме того,
как
утверждает
Толстой,
развращает
угнетаемый
ею народ.
Главным
последствием
участия во
власти
большинства
людей
западных
народов
Толстой считает
то, что люди,
«все более и
более
отвлекаясь
от прямого
труда
земледелия и
все более и
более
вовлекаясь в
самые
разнообразные
приемы
пользования
чужими
трудами,
лишились и своей
независимости
и уже самым
положением
своим
приведены к
необходимости
безнравственной
жизни. Не
имея охоты и
привычки кормиться
трудами с
своей земли,
западные
народы неизбежно
должны были
приобретать
средства для
своего
существования
от других
народов» (5, 36, 327).
Таково,
по Толстому,
положение
городских классов,
покинувших
земледельческий
труд в
Германии,
Австрии,
Италии, Франции,
Соединенных
Штатах
Америки и в
Великобритании.
«Почти все
люди этих
народов,
сделавшись
сознательными
участниками
насилия,
отдают свои
силы и
внимание на
деятельность
правительственную,
промышленную
и торговую,
имеющую
главной
целью
удовлетворение
потребностей
роскоши
богатых, и
становятся
людьми
отчасти
прямой
властью,
отчасти деньгами
властвующими
над
земледельческими
народами,
которые
доставляют
им предметы первой
необходимости...»
(5, 36, 327).
Толстой
не дал себя
обольстить
внешне смягченными
и прикрытыми
формами, за
которыми в
капиталистическом
обществе
прячется со-
76
циальное
зло,
угнетение,
колониальное
притеснение
и грабеж,
милитаризм. С
неукротимой
и
неотступной
решительностью
Толстой клеймит
лицемерие
буржуазного
общества, срывает
маску с
бесчеловечной
сущности
господствующих
в нем
отношений,
разоблачает
иллюзии и необоснованные
надежды,
которыми
тешат себя
его
апологеты.
В
критике
капиталистических
форм насилия
и угнетения
сказались
сильнейшие и
лучшие
стороны
мировоззрения
Толстого: горячее
сочувствие
народу,
превосходное
знание
реальных
экономических
условий и отношений
крестьянской
жизни,
свобода от обольщений
и
предрассудков
либерализма,
умение
разоблачать
софизмы
публицистической,
фи-лософско-исторической
и экономической
апологетики
капитализма.
Однако
даже
соединенное
действие
всех этих
качеств,
сообщивших
деятельности
Толстого
мировое
значение, не
могло
сделать толстовскую
критику
капитализма
свободной от
заблуждений.
Независимость
от предрассудков
либерализма
и свобода от
обольщений
либеральных
теорий
прогресса
отнюдь не
знаменовали
у Толстого
освобождения
от всех
вообще
социальных
иллюзий и
заблуждений.
В вопросах об
общественном
устройстве и
о путях
общественного
развития
Толстой сам
оставался в
плену
глубоких
заблуждений
и во власти
иллюзий.
Толстой
ошибочно
считал
всякую
власть злом.
Он не
допускал
возможности
власти, не противостоящей
народу, а
служащей
народу и ведущей
народ к
жизни, в
которой нет и
не может быть
насилия
меньшинства
над большинством.
Общим
источником
ошибок толстовской
критики
капитализма
была неспособность
Толстого
стать при
рассмотрении
капитализма
на
конкретно-историческую
точку зрения.
Толстой не
мог понять,
какой класс
современного
капиталистического
общества и
при каких
условиях
может вывести
человечество
из новой
капиталистической
формы
порабощения.
В бессильном
ужасе
Толстого
перед сменившим
крепостническое
угнетение
угнетением
капиталистическим
отразился ужас,
с каким
многомиллионная
русская
деревня
пореформенного
и
дореволюционного
периода
глядела на
свое
обнищание,
разорение,
ограбление, порождаемое
новым
капиталистическим
порядком.
Всем этим
фактам и
процессам
русская
патриархальная
деревня
могла
противопоставить
не столько
свою веками
накоплявшуюся
ненависть,
сколько свою
веками длившуюся
покорность.
Из этого
противоречия
родилось и
основное
противоречие
толстовского
протеста. Беспощадное
и в высшей
степени
конкретное (особенно
в
художественных
произведениях)
изображение
ужасов
капиталистического
угнетения,
разоблачение
обмана и
иллюзий правящих
классов,
постановка
конкретных
вопросов
демократии и
даже
социализма
сочетаются у
Толстого с
наивным
предрассудком
и иллюзией
идеалистической
этики с
мыслью, будто
господствовавшее
до сих пор в
отношениях
между людьми
насилие
может быть
изжито и
побеждено не
борьбой
угнетенных
против
угнетающих, а
только
непротивлением,
т. е. полным и безусловным
отказом от
какого бы то
ни было насилия,
от всякой
борьбы как
средства преодолеть
господствующее
зло.
V
ВЗГЛЯД
НА РЕВОЛЮЦИЮ
Толстой
не понимал,
что догма,
или, точнее,
предрассудок
непротивления,
есть выражение
слабости,
бессилия,
недостаточной
политической
зрелости
русского
крестьянства.
Предрассудок
этот владел
мыш-
77
лением
Толстого как
аксиома
нравственного
и
социального
мировоззрения.
Вместе с тем
Толстой
чувствовал
связь своего
учения о
непротивлении
с
многовековым
образом
мыслей и образом
действий
патриархального
русского
крестьянства.
«Русскому
народу,
писал Толстой,
большинству
его,
крестьянам,
нужно
продолжать
жить, как они
всегда жили,
своей земледельческой,
мирской,
общинной
жизнью и без
борьбы
подчиняться
всякому, как
правительственному,
так
неправительственному
насилию...» (5, 36, 259).
Толстой
попросту
игнорирует
многочисленные
факты и
явления
революционного
брожения и
революционного
действия
(восстания,
уничтожение
и сожжение
усадеб
помещиков) в
истории
русской
крепостнической
деревни.
Согласно
обобщению
Толстого,
верному
только
относительно
патриархального
крестьянства,
русский
народ, в отличие
от других
народов
Запада, будто
бы руководится
в своей жизни
именно
христианской
этикой
непротивления.
«...В русском
народе,
писал Толстой,
во всем
огромном
большинстве
его,
вследствие
ли того, что
Евангелие
стало доступно
ему еще в X
столетии,
вследствие
ли грубости и
тупости
византийско-русской
церкви,
неумело и
потому
неуспешно
старавшейся
скрыть
христианское
учение в его
истинном
смысле,
вследствие
ли особенных
черт
характера
русского
народа и его
земледельческой
жизни
христианское
учение в его
приложении к
жизни не
переставало
и до сих пор продолжает
быть главным
руководителем
жизни
русского
народа в его
огромном
большинстве»
(5, 36, 337).
Уповать
на насилие
как на
средство
борьбы со
злом могут,
по Толстому,
только люди,
которые
верят, будто
усовершенствование
человеческой
жизни может
быть достигнуто
изменением
внешних
общественных
форм. Так как
изменение
это очевидно
возможно и
доступно, то
считается
возможным и усовершенствование
жизни
посредством
насилия.
Взгляд
этот Толстой
отвергает,
как будто бы
в корне
ошибочный. По
Толстому,
освобождение
человечества
от насилия
может быть
достигнуто
только
внутренним
изменением
каждого
отдельного
человека,
«уяснением и
утверждением
в себе разумного,
религиозного
сознания и своей
соответственной
этому
сознанию
жизнью» (5, 36, 205).
«Жизнь
человеческая,
утверждает
Толстой,
изменяется
не от изменения
внешних форм,
а только от
внутренней работы
каждого
человека над
самим собой.
Всякое же
усилие
воздействия
на внешние формы
или на других
людей, не
изменяя
положения
других людей,
только
развращает,
умаляет
жизнь того,
кто...
отдается
этому
губительному
заблуждению»
(5, 36, 161).
В этом
толстовском
запрете
всякой
политической
деятельности
под тем
предлогом, будто
деятельность
эта есть
изменение
одних лишь
внешних |форм
человеческой
жизни и не
затрагивает
внутренней
сути
человеческих
отношений,
сказалась,
как и в
других
вопросах
общественного
мировоззрения
Толстого,
глубокая, впервые
Лениным
раскрытая,
связь между
мировоззрением
Толстого и
мировоззрением
патриархального
крестьянства
с его
аполитичностью,
незнанием
причин
общественных
бедствий, непониманием
условий их
преодоления.
Из этого
незнания
вытекало
глубокое
сомнение в
доступности
для человека
какого бы то
.ни было
знания о том,
какими будут,
-какими
должны быть
формы
будущей
жизни
человеческого
общества. И
действительно,
первый довод,
посредством
которого
Толстой
обосновал
бесплодность
всякой
деятельности,
направленной
на изменение
внешних
общественных
форм, состоял
именно в
утверждении,
будто человеку
не дано
знание, каким
должно быть
будущее
состояние
общества.
78
Толстой
отдает себе
ясный отчет в
том, что среди
людей
распространен
противоположный
взгляд. «...Люди,
говорит
Толстой,
уверившись в
том, что они
могут знать,
каким должно
быть будущее
общество, не
только
отвлеченно
решают, но
действуют,
сражаются,
отнимают
имущество,
запирают в
тюрьмы,
убивают
людей, для
того, чтобы установить
такое
устройство
общества, при
котором, по
их мнению,
люди будут
счастливы» (5, 36, 353).
Люди,
продолжает
Толстой, «не
зная ничего о
том, в чем
благо
отдельного
человека,
воображают,
что знают,
несомненно
знают, что
нужно для
блага всего
общества, так
несомненно
знают, что
для
достижения
этого блага,
как они
понимают его,
совершают
дела насилия,
убийства,
казней,
которые сами
признают
дурными» (5, 36, 353354).
Напротив,
по Толстому,
условия, в
которые станут
между собой
люди и те
формы, в
какие сложится
общество,
зависят
«только от
внутренних
свойств
людей, а
никак не от
предвидения
людьми той
или иной
формы жизни,
в которую им
желательно
сложиться» (5, 36, 353).
Другой
довод, при
помощи
которого
Толстой хочет
доказать
бесплодность
всякой деятельности,
направленной
на изменение
общественных
форм, состоит
в
утверждении,
что даже в
случае, если
бы люди
действительно
знали, каким
должно быть
наилучшее
устройство
общества,
устройство
это будто не
могло бы быть
достигнуто
посредством
политической
деятельности.
Оно не могло
бы быть, по
Толстому,
достигнуто,
так как
политическая
деятельность
всегда
предполагает
насилие одной
части
общества над
другой, а
насилие, так
утверждает
Толстой, не
устраняет
рабства и зла,
но лишь
заменяет
одну форму
рабства и зла
другой.
На этом
ошибочном
доводе
Толстой
построил
столь же
ошибочное
отрицание
благотворности
революции, в
частности
отрицание исторической
благотворности
первой русской
революции.
Толстой
ни в малейшей
степени не
отрицает истинности
принципов,
которыми
воодушевлялись
идеологи
Французской
буржуазной революции.
«Деятели
революции,
писал Толстой,
ясно
выставили те
идеалы
равенства, свободы,
братства, во
имя которых
они намеревались
перестроить
общество. Из
принципов
этих,
продолжает
Толстой,
вытекали
практические
меры:
уничтожение
сословий,
уравнение
имуществ,
упразднение
чинов, титулов,
уничтожение
земельной
собственности,
распущение
постоянной
армии, подоходный
налог, пенсии
рабочим,
отделение
церкви от
государства,
даже
установление
общего всем
разумного
религиозного
учения» (5, 36, 194195).
Толстой признает,
что все это
были
«разумные и
благодетельные
меры,
вытекавшие
из
выставленных
революцией
несомненных,
истинных
принципов
равенства,
свободы,
братства» (5, 36, 195).
Принципы эти,
признает
Толстой, а
также и вытекавшие
из них меры
«как были, так
и остались и
останутся
истинными и
до тех пор
будут стоять
как идеалы
перед
человечеством,
пока не будут
достигнуты» (5, 36,
196). Но
достигнуты
эти идеалы,
утверждает
Толстой,
«никогда не
могли быть
насилием» (5, 36, 195).
Непонимание
этой
несомненной,
как кажется
Толстому,
истины было
проявлено не
только
деятелями
французской
революции XVIII
века. По
Толстому, это
непонимание
лежит также в
основе
теоретических
понятий и
практической
деятельности
русских
революционеров
.1905 года. «То
противоречие,
полагает
Толстой,
которое так
ярко и грубо
выразилось в
большой
французской
революции и
вместо блага
привело к
величайшему
бедствию,
таким же
осталось и
теперь. И
теперь,
утверждает
Толстой, это
противоречие
проникает
все
современные
попытки улучшения
общественного
строя. Все
общественные
улучшения
79
предполагается
осуществить
посредством
правительства,
то есть насилия»
(5,36,195).
Чрезвычайно
интересно и
знаменательно,
что в своих
размышлениях
о будущем
ходе развития
русского
общества
Толстой
нисколько не
сомневался в
том, что в
начавшейся в
1905 году борьбе
между
революцией и
самодержавным
правительством
победит в
конечном
итоге не
правительство,
не самодержавие,
а революция.
«...Вам,с такими
словами обращался
Толстой к
правительству,
не устоять
против
революции с
вашим
знаменем самодержавия,
хотя бы и с
конституционными
поправками, и
извращенного
христианства,
называемого
православием,
хотя бы и с
патриархатом
и всякого
рода
мистическими
толкованиями.
Все это
отжило и не
может быть восстановлено»
(5, 36, 304).
Не
сочувствуя
методам
революционного
преобразования
общества,
Толстой
сочувствовал
тому
отрицанию
существующего
социального
и
политического
строя,
которым
руководились
деятели
революционного
движения.
Поэтому не
прав известный
датский
историк
русской
литературы Стендер-Петерсен,
когда он
пишет: «В
действительности
же все
толстовство,
как было названо
его учение,
толстовское
отрицание
существующего
общественного
порядка, его
требование непротивления
злу и его
рационализированная
религия не
что иное, как
мощная попытка
перетолковать
по-своему
движение
народников,
постепенно
становившееся
все более
революционным
и
террористическим,
а также
преградить
путь новому,
марксистски-социалистическому
учению о
борьбе
классов» (8, II, 368).
Но, не
считая ни
правым, ни
просто
разумным самодержавное
правительство
в его борьбе
с революцией,
Толстой все
же
решительно осуждает
деятельность
революционеров.
Возражения,
выдвинутые
им против
революционного
разрешения
назревшего в
жизни русского
народа
кризиса, в
высшей
степени характерны
для
патриархально-«крестьянского»
способа
мышления
Толстого.
Главное его возражение
исходит из
мысли, что в
отличие от
революций,
происходивших
в странах
Запада,
русскую
революцию
будут
осуществлять
не городские
рабочие и не
городская
интеллигенция,
а главным образом
многомиллионное
крестьянство:
«Участники
прежних
революций
это
преимущественно
люди высших,
освобожденных
от
физического
труда
профессий и
руководимые
этими людьми
городские
рабочие;
участники же
предстоящего
переворота
должны быть и
будут преимущественно
народные
земледельческие
массы. Места,
в которых
начинались и
происходили
прежние
революции,
были города;
местом
теперешней
революции
должна быть
преимущественно
деревня.
Количество
участников
прежних революций
10, 20 процентов
всего народа;
количество
участников
теперешней
совершающейся
в России
революции
должно быть 80, 90
процентов» (5, 36, 258).
Толстовское
понимание
русской
революции 1905
года как
крестьянской
революции
отразило
одну,
действительно
важную, черту
этой революции.
На это
значение
толстовского
понимания
нашей первой
революции
указал Ленин.
«Толстой,
писал Ленин,
велик, как
выразитель
тех идей и
тех настроений,
которые
сложились у
миллионов
русского
крестьянства
ко времени
наступления
буржуазной
революции в
России.
Толстой оригинален,
ибо
совокупность
его взглядов,
взятых как
целое,
выражает как
раз особенности
нашей
революции,
как крестьянской
буржуазной
революции» (2, 17, 210).
Крестьянский,
по
представлению
Толстого, характер
русской
революции не
только исключает,
как думает
Толстой,
возможность
направления
русской
революции на
путь, по которому
совершались
революции
80
на
Западе, но
делает в
условиях
России всякое
подражание
западным
революциям
вредным и
опасным.
«Опасность,
пояснял
Толстой, в том,
что русский
народ, по
своему
особенному
положению
призванный к
указанию
мирного и
верного пути
освобождения,
вместо этого
будет
вовлечен
людьми, не
понимающими
всего
значения
совершающегося
переворота, в
рабское
подражание
прежде бывшим
революциям...» (5,
36, 258).
Второе
возражение
Толстого
против деятельности
революционеров
состоит в
утверждении,
будто
деятельность
эта, даже в
странах, где
революцию
совершают
городские
рабочие и
городская
интеллигенция,
никогда не
приводит к
достижению
поставленной
цели. Не
приводит же
она к ней
потому, что
революционная
деятельность,
будучи
основана на
насилии,
непременно ведет,
так
утверждает
Толстой, к
установлению
новых форм
насилия, не
менее
бедственных
для
человечества,
чем прежние.
Революция
может
установить
новый общественный
порядок,
только
заменив
прежнюю форму
государства
новой. Но так
как всякое государство
держится на
насилии,
всякое же
насилие, по
Толстому, есть
только зло и
будто бы не
может быть
источником
или условием
блага, то
отсюда Толстой
заключает,
что не может
быть таким
источником и
государство,
которое
будет создано
революцией.
«Меняются
формы, писал
Толстой,но
сущность
отношения
людей не
изменяется, и
потому
идеалы
равенства,
свободы, братства
ни на шаг не
приближаются
к осуществлению»
(5,36, 198).
В своих
взглядах на
государство
и на политические
пути
развития
общества
Толстой верно
отразил
точку зрения
патриархального
крестьянства
пореформенной
поры. Но из
того, что он
верно отразил
ее, отнюдь,
разумеется,
не следовало,
будто сама
эта точка
зрения была
истинна по
существу
своего
содержания.
То, что так
верно отразил
Толстой в
своем учении
о неосуществимости
революции,
было именно
непониманием
роли
политической
борьбы и, в
частности, борьбы
революционной.
И оттого, что
это непонимание
было
свойственно
в начале XX
века еще
значительной
патриархальной
части русских
крестьян,
оно, конечно,
нe переставало
быть тем, чем
оно в
действительности
и было, т. е.
заблуждением,
ошибочным и в
своих выводах
вредным
учением.
В
толстовском
политическом
скептицизме, в
недоверии ко
всякой
власти, ко
всякой форме
государственного
устройства,
ко всяко-м у
применению
насилия в
общественной
жизни еще раз
отразилось
отношение
патриархального
крестьянства
к новому,
формально
«освободившему»
его, фактически
же еще более
разорившему
и поработившему
общественному
порядку
пореформенной
капиталистической
России.
Явная и
огромная ошибка
Толстого в
том, что опыт
прошлого и
наблюдения
над
настоящим он
догматически
перенес на
все будущее.
Из того, что
все революции,
имевшие
место до
начала XX
столетия, не могли
устранить
неравенство
и угнетение трудящихся,
Толстой
заключал,
будто и впредь
невозможна
никакая
форма
государственного
устройства,
которая
отвечала бы
интересам
рабочих и
крестьянских
масс.
Толстой
отрицает
возможность
создания такой
формы
государства,
так как
полагает, будто
в
соответствии
с самой сутью
государства
добиваться власти,
захватывать
власть и
удерживать
власть
никогда не
могут лучшие
(т. е., по понятию
Толстого,
добрые люди),
но всегда
лишь худшие
(т. е., по
Толстому,
злые,
жестокие,
склонные к
насилию
люди).
81
Став на
эту точку
зрения,
подробно
развитую в
книге «Царство
бо-жие внутри
вас», Толстой
последовательно
пришел к
полному и
безусловному
отрицанию
государства,
т. е. к учению
анархизма.
По мысли
Толстого,
бедствия и
противоречия,
во власти
которых
находится
нынешнее человечество
и прежде
всего
русский
крестьянский
народ,
прекратятся
только тогда,
когда будет
упразднено
государство
со всем необходимым
для него
аппаратом
насилия, принуждения
и устранения
правительством,
администрацией,
армией,
полицией,
судами, чиновниками
и т. д.
При этом
учение
Толстого об упразднении
государства
отличается
важной
чертой от многих
других
анархических
учений. Анархизм
Толстого не
революционен.
По мысли Толстого,
безгосударственная
форма
общественного
устройства
не должна
быть установлена
посредством
насильственного
переворота или
насильственного
разрушения
существовавшего
государства.
Упразднение
государства
может и
должно
произойти,
думал Толстой,
только путем
непротивления,
т. е. путем
мирного и
пассивного
воздержания
или уклонения,
отказа
каждого
члена
общества от всех
государственных
обязанностей
военной,
податной,
судебной, от
всех видов
государственных
должностей,
от
пользования
государственными
учреждениями
и
установлениями
и от всякого
участия в
какой бы то
ни было легальной
или
революционной
политической
деятельности.
Это
учение
Толстого об
обществе и о
политических
формах его
развития, как
показал Ленин,
«безусловно
утопично и,
по своему
содержанию,
реакционно в
самом точном
и в самом глубоком
значении
этого слова» (2,
20, 103). Реакционность
доктрины
Толстого в
том, что
критические
и даже
социалистические
элементы,
которые,
согласно
анализу Ленина,
безусловно
были в учении
Толстого, не выражали
идеологии
класса,
«идущего на
смену
буржуазии»,
но
соответствовали
«идеологии
классов,
которым идет
на смену
буржуазия» (2, 20, 103).
Если
поэтому еще в
конце 70-х
годов
прошлого века
«критические
элементы
учения
Толстого
могли на
практике
приносить
иногда пользу
некоторым
слоям
населения вопреки
реакционным
и
утопическим
чертам
толстовства»
(2, 20, 104), то уже в
первом десятилетии
XX века,, как
показал
Ленин, «всякая
попытка
идеализации
учения
Толстого, оправдания
или
смягчения
его
«непротивленства»,
его
апелляций к
«Духу», его
призывов к
«нравственному
самоусовершенствованию»,
его доктрины
«совести» и
всеобщей
«любви», его
проповеди
аскетизма и
квиетизма и
т. п. приносит
самый
непосредственный
и самый глубокий
вред» (2, 20, 104). Все
это значение
толстовства
впервые было
выяснено в
гениальных
статьях
Ленина о
Толстом.
Вместе с тем
статьи эти
пролили
новый свет на
требования,
какие должно
предъявлять
к исследованиям
духовного
достояния и
духовного
мира таких
сложных
художников и
мыслителей,
каким был
Толстой.
Статьи
Ленина о
Толстом
опровергают
основное
положение
вульгарно-социологического
метода в
литературной
критике, в истории
литературы и
философии.
Статьи эти показали
воочию,
насколько
несостоятельна
и примитивна
точка зрения
историков, которые
утверждают,
будто
идеология
большого
художника
есть
непосредственное
отражение
непосредственных
социальных
условий его
происхождения,
окружения,
общественного
положения и
т. д. Решающей
для оценки
характера
идеологии
писателя
оказалась
точка зрения,
на которую
становится
писатель в
своем изображении
жизни и
которая
отнюдь не
необходимо
должна
совпадать с
точкой
зрения, свойственной
людям его
социального
происхождения
и положения.
«По рождению
и воспи-
82
танию
Толстой,
писал Ленин,
принадлежал
к высшей
помещичьей
знати в
России, он
порвал со
всеми
привычными
взглядами
этой среды и,
в своих
последних
произведениях,
обрушился с
страстной
критикой на
все
современные
государственные,
церковные,
общественные,
экономические
порядки,
основанные
на порабощении
масс, на
нищете их, и а
разорении крестьян
и мелких
хозяев
вообще, на
насилии и
лицемерии,
которые
сверху
донизу
пропитывают
всю
современную
жизнь» (2, 20, 3940).
Именно
это
несовпадение
точки зрения,
с которой
Толстой
рассматривает,
изображает и
обсуждает
явления и
отношения
современной
ему русской
жизни, с
точкой
зрения, которая,
казалось бы,
естественно
и даже необходимо
подсказывалась
ему всеми
обстоятельствами
его
происхождения
и всеми
отношениями
его
социального
круга,
позволило
Толстому, как
показал
Ленин,
увидеть в
явлениях
русской
жизни то,
чего в ней до
него не видел
никто из
писателей,
рассматривавших
русскую жизнь
с другой
точки зрения.
Отсюда это
поразившее
Максима
Горького, по
существу
глубоко верное
утверждение
Ленина,
сказавшего,
что «до этого
графа
подлинного
мужика в
литературе
не было» (3, 17, 39).
Но если
решающим для
результатов
творчества
большого
художника
является не
непосредственное
социальное
положение
художника, а
точка зрения,
с какой этот
художник
будет
рассматривать
и изображать
явления
доступной
для людей его
круга или для
него лично
действительности,
то подлинно
значительным
его
творчество
может стать
не при любых
условиях.
Действительное
общественное
значение
сообщает
творчеству
не всякая
точка зрения,
на которую
может стать
данный
художник.
Такое
значение получает
творчество
только того
писателя или
художника,
точка зрения
которого
есть не
просто его
личный угол
зрения, но
позиция,
выражающая
взгляды,
настроения,
чаяния
трудовых классов,
представляющих
значительную
часть народа.
Творчество
Толстого
приобрело
принадлежащее
ему значение
не просто
потому, что
Толстой
порвал со
всеми
привычными
взглядами
своей среды,
а потому, что,
порвав со
своей средой,
Толстой стал
на точку
зрения, представлявшую
взгляды и
настроения
многомиллионного
русского
крестьянства,
т. е. взгляды и
настроения
хотя
«патриархальной»,
архаической,
отсталой, но
все же
заключавшей в
себе и
подлинно
демократическую
часть массы
русского
крестьянства.
«Противоречия
во взглядах
Толстого,
писал Ленин,
не
противоречия
его только
личной мысли,
а отражение
тех в высшей
степени сложных,
противоречивых
условий,
социальных влияний,
исторических
традиций,
которые
определяли
психологию
различных
классов и
различных
слоев
русского
общества в
пореформенную,
но дореволюционную
эпоху» (2, 20, 22).
Толстой
велик не тем,
что он
выразил в
своих
художественных
и
философско-публицистических
произведениях
учение,
которое
должно стать
руководством
к
практическому
действию и
которое само
по себе
истинно.
Верное
изображение
и выражение
идеологии не
есть еще тем
самым изображение
и выражение
верной
идеологии. Толстой,
как показал
Ленин, «не мог
абсолютно понять
ни рабочего
движения и
его роли в
борьбе за
социализм, ни
русской
революции...» (2, 17,
210). Толстой
велик потому,
что в его
искусстве и в
его учении
отразилось
«великое
народное море,
взволновавшееся
до самых
глубин, со всеми
своими
слабостями и
всеми
сильными
своими
сторонами...» (2, 20,
71). Величие Толстого
именно в
рельефности,
силе, с какими
в худо-
83
жественных
произведениях
и в учении
Толстого
запечатлены
задолго
подготовлявшиеся
черты первой
русской
революции.
Самые
ошибки и
заблуждения Толстого,
породив
необходимость
их опровержения,
далив этом
опроверженииположительный
результат.
Ленин
разъяснил,
что для движения
вперед часто
оказывается
необходимым
понять, какие
недостатки и
слабости
препятствовали
до сих пор
поступательному
движению. Но
именно эту
роль сыграли
заблуждения
Толстого.
«Изучая
художественные
произведения
Льва
Толстого,
разъяснял
Ленин, русский
рабочий
класс узнает
лучше своих
врагов, а
разбираясь в учении
Толстого,
весь русский
народ должен
будет понять,
в чем заключалась
его
собственная
слабость, не
позволившая
ему довести
до конца дело
своего
освобождения.
Это нужно
понять, чтобы
идти вперед» (2,
20, 71).
Вся
история
России после
революции 1005
года была
подтверждением
ленинской
оценки мировоззрения
Льва
Толстого.
VI
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ
ВЗГЛЯДЫ
I.
ИСКУССТВО
КАК
НЕОБХОДИМОЕ
УСЛОВИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ЖИЗНИ
Рассмотренные
нами главные
черты мировоззрения
Толстого, как
это не раз
подчеркивал
Ленин,
выступают не
только в
философских
произведениях
Толстого, но
и в его
искусстве. И
в своих
художественных
произведениях
Толстой
обнаружил
великую силу
критики, о
значении
которой
говорит
Ленин.
Чрезвычайная
серьезность
реалистических
задач, какие
Толстой
ставит перед
собой в своем
творчестве,
вызвала в
писателе
острый
интерес к
вопросу об искусстве,
о его
значении в
жизни
общества, о критерии
художественности,
об условиях совершенства
искусства и
об условиях
его упадка.
Интерес этот
стал
обостряться
в последней
четверти XIX
века, по мере
того как Толстой
стал
убеждаться в
том,
насколько он
сам
расходится с
художниками,
в том числе
очень
большими,
которые не
ставили
перед собой
столь
серьезных
задач. Когда
же в художественной
жизни Запада
и России
стали обнаруживаться
явления
декадентства,
протест Толстого
против
декадентского
искусства
стал принимать
все более
резкие формы.
Вместе с тем
в Толстом
созревало
желание ясно
сформулировать
для самого
себя и для
общества свои
понятия об
искусстве, о
его
назначении и
о том, как
современное
искусстзо
выполняет
это свое
назначение.
Так
возникли
работы
Толстого по
вопросам
эстетики. В
центре их
стоит книга
«Что такое
искусство?». К
ним примыкают
небольшие
статьи,
предисловия
к книгам и
собраниям
сочинений
других авторов,
высказывания
по вопросам
искусства во многих
письмах и т. п.
Существующее
мнение, будто
эстетические
взгляды
Толстого всецело
определяются
моральным
учением Толстого,
справедливо
лишь отчасти.
В этом мнении
верно то, что
оценка
содержания
художественного
произведения
обусловливается
у Толстого
соответствием
(или
несоответствием)
этого произведения
моральным
принципам,
которых
Толстой
придерживался.
Но, кроме
решения
вопроса о
ценности
произведения
по его м
о-ральному
содержанию,
Толстой
признавал
необходимым
и весьма важным
решение
другого
вопроса:
насколько
произведение
искусства
84
хорошо
как
произведение
искусства, т.
е. независимо
от
выраженного
в нем
морального
мировоззрения
художника. В
эстетических
высказываниях
Толстого
нетрудно
отделить то,
что
представляет
результат
моральных позиций
и
предрассудков
Толстого, от
того, что
открылось
Толстому в
результате
пристального
внимания к
фактам
самого
искусства и в
первую
очередь к
собственному
способу видения
реальности и
к способу ее
изображения.
Религиозно-моральная
тенденция
Толстого так
же не может
умалить
значение и
ценность его
выработанных
вразрез с
этой
тенденцией
эстетических
идей и
понятий о
реализме, как
не может
умалить
художественную
силу, красоту
и истинность
«Севастопольских
рассказов» и
«Войны и мира»
доктрина о
непротивлении
злу насилием,
зародыши
которой
можно обнаружить
в мышлении
Толстого уже
в то время,
когда писались
эти
произведения,
а частично
даже в самом
их
содержании
(образ
Платона
Каратаева в
«Войне и мире»).
И здесь
художественный
гений
Толстого
сказался
неизмеримо
сильнее,
глубже,
мудрее его
отвлеченной,
рассудочной
идеи
непротивления
идеи, враждебной
жизни. Только
там, где
рассудочная
схема и
рассудочный
суррогат
чувства
подавляли в
Толстом
восприимчивость
необычайно
зоркого
художника,
заглушали
ритм горячего
и страстного
сердца,
притупляли
созвучность
народной
жизни,
мертвая
доктрина
непротивления
злу насилием
проповедь
квиетизма,
бездеятельного
и покорного
растворения
личности в
целом брала
верх, и тогда
с уст Толстого
слетали
неубедительные,
бескровные, далекие
от
действительности,
жизни и истории
слова
осуждения
всякой войны,
всякой
борьбы, всякого
насилия.
Но там,
где как это
было в
«Набеге», в
«Рубке леса», в
«Казаках», в
«Севастопольских
рассказах», в
«Войне и мире»
мудрость и
непосредственная
искренность
великого
реалистического
художника, сознание
сложности и
противоречивости
жизни, а
главноегорячее
чувство
любви к своему
народу,
гордости его
прошлым, веры
в его великое
и славное
будущее
побеждали
мораль
непротивления,
Толстой
изображал
явления
войны не
только с
неподражаемой
художественной
силой и
правдой, но и
осознавал
эти явления как
подлинный
русский
патриот, как
русский
человек,
страстно
заинтересованный
в судьбе
своей родины
и своего
народа,
ненавидящий
врагов,
посягающих
на свободу,
независимость
русского
народа и
русского
государства.
Только
сила, глубина
и чистота
толстовского
патриотизма
раскрыли
художнику-Толстому
глаза на
такие
стороны
Отечественной
войны 1812 года,
для
изображения
которых недостаточно
одного
художественного
дарования,
даже и
толстовского
масштаба. В
изображении
войны 1812 года (а
также сцен
обороны
Севастополя
в войне 1855 года)
реализм
искусства
Толстого не
может быть
отделен от
сознательности
и
убежденности,
с какими
Толстой как
великий
патриот не
только
изображает,
но и осмысливает
эти великие
события
русской военной
истории.
В «(Войне и
мире» Толстой
описал, в
сущности, две
войны: войну 1805
года с
центральным
для нее событием
Аустерлицкого
сражения и
войну 1812 года с
таким же
центральным
для нее
событием
Бородинского
сражения. В
то время как
первая
кампания 1805
года была в
глазах
Толстого
войной ненародной,
т. е. такой,
цели которой
были чужды народу,
далеки от его
жизненных
интересов и потому
для него
непонятны,
вторая
кампания война
1812 года
показана
Толстым как
война подлинно
отечественная,
как война
всего
русского
народа,
поднявшегося
на защиту
своих
священнейших
человеческих
и
национальных
прав и
интересов:
своей свободы,
своей земли,
своих очагов,
своего духовного
и морального
достояния.
85
Гениальное
уразумение
народного
характера
войны 1812 года
позволило
Толстому
подметить в
партизанском
движении,
сопровождавшем
борьбу с
иностранными
захватчиками,
такие черты,
которых не
замечали
многие
историки и специалисты
военного
дела,
судившие о
фактах
партизанской
борьбы лишь с
точки зрения сложившихся
у них
теоретических
представлений,
не учитывавшие
народного
характера,
народных целей
борьбы.
Толстой
понял то
новое, никакими
теориями не
предвиденное,
что внесла партизанская
война в опыт
русской и
мировой
военной
истории.
Страстность,
нетерпимость
Толстого,
упорное
стремление,
став на
известную
точку зрения,
бесстрашно
развивать ее
во всей ее
резкости до
самых
крайних
выводов,
чрезвычайно
облегчают
отделение в
суждениях
Толстого об
искусстве
того, что
связано с
ограниченностью
моральной
доктрины
Толстого, от
того, что
есть
результат
глубокого проникновения
гениального
художника в
сущность
искусства.
Как бы
далеко не
заходил
Толстой в
эпоху своих
религиозно-моральных
исканий в
критике
современного
ему
искусства,
никогда критика
его не
превращалась
в огульное
отрицание
искусства.
Толстой не
мог отрицать
искусства
уже потому,
что в искусстве
он всегда
видел «одно
из условий
человеческой
жизни» (5, 30, 63).
Толстой ясно
и решительно отвергает
взгляд
Платона,
первых
христиан,
строгих
магометан и
буддистов, отрицавших
искусство.
«Такие люди,
отрицавшие
всякое
искусство,
писал
Толстой,
очевидно,
были не
правы, потому
что отрицали
то, чего
нельзя
отрицать,
одно из
необходимых
средств
общения, без
которого не
могло бы жить
человечество»
(5, 30, 67).
Будучи необходимым
условием
человеческой
жизни, а
именно
условием
общения
людей,
искусство,
как
показывает
Толстой, есть
деятельность,
далеко не
ограничивающаяся
теми проявлениями,
за которыми
обычно
признается
право
именоваться
искусством.
«Мы, писал
Толстой,привыкли
понимать под
искусством
только то,
что мы
читаем,
слышим и
видим в
театрах, концертах
и на
выставках,
здания,
статуи, поэмы,
романы... Но
все это есть
только самая
малая доля
того
искусства,
которым мы в
жизни общаемся
между собой.
Вся жизнь
человеческая
наполнена
произведениями
искусства
всякого рода,
от
колыбельной
песни, шутки,
передразнивания,
украшений
жилищ, одежд,
утвари до
церковных
служб,
торжественных
шествий. Все
это
деятельность
искусства» (5, 30,
6667).
В этой
мысли
Толстой
частично предвосхищает
один из
выводов
новейшей лингвистики
и эстетики,
пришедших к
заключению,
что
художественная
деятельность
не есть
изолированная
область и что
искусство возникает
из тех
выразительных
и изобразительных
средств и
элементов,
которые присущи
уже обычной
житейской
речи и
обычному,
повседневному
мышлению.
Признаком,
по которому
известные
проявления
деятельности,
лежащей в
основе
искусства,
'Выделяются
из всей
необозримой
массы подобных
им фактов и
получают
название произведений
искусства,
является, по Толстому,
вызвавшая
эти
произведения
к существованию
потребность
художников
сказать
людям самое
важное, что
они думают о
жизни.
Взгляд
этот Толстой
выразил во
множестве произведений,
но, быть
может, всего
сильнее и
резче в
статье о
Шекспире.
«...Писать драму,
говорит
здесь
Толстой,
может только
тот, кому
есть что
сказать
людям, и
сказать нечто
самое важное
для людей» (5, 35, 267).
Без этого внутреннего
содержания,
без
потребности
высказать
свое
отношение к
самым важным
явлениям и
вопросам
жизни,
«нечего и
браться за
пи-
86
сание».
«Писателю,
говорит
Толстой,
нужны две
вещи: знать
то, что
должно быть в
людях и между
людьми, и так
верить в то,
что должно
быть, и
любить это,
чтобы как
будто видеть
перед собой
то, что
должно быть,
и то, что
отступает от
этого» (5, 64, 36).
«...Чтобы
производить
то, что
называют
произведениями
искусства,
разъяснял он
художнику Н.
Н. Ге, надо ...
чтобы
человек ясно,
несомненно
знал, что
добро, что
зло, тонко видел
разделяющую
черту...» (5, 64, 15),
Искусство,
так поучал
Толстой
маленького
писателя Ф. Ф.
Тищенко,
«великое дело
и нельзя его
делать шутя
или из-за
целей вне
искусства» (5, 63, 425).
Но и большому
писателю
Бернарду Шоу,
талант
которого Толстой
очень ценил и
даже любил,
он не прощал недостаточно
серьезного,
как казалось
ему,
отношения к
самым важным
вопросам
жизни,
которых
касался Шоу. «Dear
M-r Shaw, писал
Толстой,
жизнь
большое и
серьезное дело,
и нам всем
вообще в этот
короткий
промежуток
данного нам
времени надо
стараться найти
свое
назначение и
насколько
возможно
лучше
исполнить
его ... Нельзя
шуточно
говорить о
таком
предмете, как
назначение
человеческой
жизни и о
причинах его
извращения и
того зла,
которое наполняет
жизнь нашего
человечества»
(5, 78, 202).
«Мыслитель
и художник,
писал
Толстой в
трактате «Так
что же нам
делать?»,
никогда не
будут
спокойно
сидеть на
олимпийских
высотах, как
мы привыкли
воображать;
мыслитель и
художник
должен
страдать
вместе с людьми
для того,
чтобы найти
спасение или
утешение.
Кроме того,
он страдает
еще потому,
что он
всегда, вечно
в тревоге и
волнении: он
мог решить и
сказать то,
что дало бы
благо людям,
избавило бы
их от
страдания,
дало бы утешение,
а он не так
сказал, не
так изобразил,
как надо; он
вовсе не
решил и не
сказал, а завтра,
может, будет
поздно он
умрет. И
потому
страдание и
самоотвержение
всегда будет
уделом
мыслителя и
художника» (5, 25, 373).
Малейшая
заминка
художника в
этом отношении,
отсутствие
или
ослабление
ясно выраженного
серьезного
отношения к
изображаемым
явлениям
жизни
представлялись
Толстому
крупным
недостатком
в художнике и
в его
произведении.
Отсутствие
убежденного,
ясно
выраженного,
страстного
отношения
автора к
тому, что он
изображает,
Толстой
находил в
большей части
романов
Мопассана, за
исключением
«Жизни». «В
следующих за
этим романах:
«Pierre et Jean», «Fort comme la mort» и «Notre coeur»,
писал
Толстой,
нравственное
отношение
автора к
своим лицам
еще более
путается и в
последнем
уже совсем
теряется. На
всех этих
романах уже
лежит печать
равнодушия,
поспешности,
выдуманности
и, главное,
опять того
отсутствия
правильного,
нравственного
отношения к
жизни, которое
было в первых
его писаниях»
(5, 30, 11).
Во всех
рассмотренных
случаях под
нравственным
отношением
художника к
жизни Толстой
разумеет то
религиозное
отношение к ней,
которое
составляет
систему
взглядов толстовства
и которое ему
самому
представлялось
единственно
правильным. В
этом Толстой,
конечно,
глубоко
заблуждался.
Главная
мысль
эстетики
Толстого не
связана
необходимо с
содержанием
религиозно-моральной
доктрины самого
Толстого и
состоит в
требовании
не равнодушного,
а страстного,
сознательного,
убежденного
отношения
художника к
серьезным
явлениям
жизни,
изображаемым
им в произведениях.
Именно в этом
смысле
Толстой требовал
от художника
страстной
любви к изображаемому
любви, не
только не
исключающей
ненависть к
тому, что
противоречит
и
противостоит
должному, но
необходимо
эту
ненависть
предполагающей.
«...Чтобы от
87
всей
души
говорить то,
что он
говорит,
писал
Толстой В. А.
Гольце-.ву,
художник
должен любить
свой предмет.
А для этого
нужно не
начинать говорить
о том, к чему
равнодушен и
о чем можешь
молчать, а
говорить
только о том,
...что страстно
любишь... Нерв
искусства
есть страстная
любовь
художника к
своему
предмету, а если
это есть, то
произведение
всегда будет
удовлетворять
и другим
требованиям
содержательности
и красоте:
содержательности
будет
удовлетворять
потому, что невозможно
страстно
любить
ничтожный предмет,
а красоте
потому, что,
любя предмет,
художник не
пожалеет
никаких
трудов для того,
чтобы облечь
любимое
содержание в
наилучшие формы»
(5, 30, 436).
Страстная
любовь к
предмету не
только подсказывает
художнику
выбор
достойных
сюжетов и
объектов: она
и только она
одна делает
возможным
познание
изображаемого.
«Мы знаем то,
что любим
только»,
писал
Толстой Н. Н.
Страхову (5, 62, 290).
«Без силы любви,
писал он
Фету, нет
поэзии... В
«Дыме» (романе Тургенева.
В. А.) нет ни к
чему почти
любви и нет
почти поэзии»
(5, 61, 172).
Вспоминая
уже в 90-х годах
впечатление,
произведенное
на него в
юности
повестью
Григоровича
«Антон Горемыка»,
Толстой силу
этого
впечатления
«умиление и
восторг»
приписывал
прежде всего
силе любви, с
какой
Григорович
изображал
свой предмет
и своего
героя. Для
Толстого,
тогда
шестнадцатилетнего
мальчика,
было «радостным
открытием»,
что русского
мужика «можно
и должно
писать во
весь рост, не
только с любовью,
но с
уважением и
даже
трепетом» (5, 66, 409).
Но та же
«сила любви»,
которой
Толстой
требует
прежде всего
от художника,
обращается в силу
ненависти,
как только предметом
изображения
становится
то, что отступает
от ясного
художнику и
страстно любимого
им образца
совершенства.
Именно в этом
смысле, браня
Тургенева за
вялость и безучастность
в
изображении
отрицательных
персонажей
повести
«Накануне»,
Толстой разъяснял:
«...ежели не
жалеть своих
самых
ничтожных лиц,
надо их уж
ругать так,
чтобы небу
жарко было,
или смеяться
над ними так,
чтобы животики
подвело, а не
так, как
одержимый
хандрою и
диспепсией
Тургенев» (5, 60, 325).
2.
НЕОБХОДИМОСТЬ
НОВОГО В
ИСТИННОМ
ИСКУССТВЕ
Из этого
основного
требования,
предъявляемого
художнику,
Толстой
выводит
тесно связанную
с ним черту
всякого
подлинного
искусства.
Черта
этаспособность
художника видеть
в
изображаемых
им
отношениях и
фактах жизни
нечто новое,
никем ранее
не виденное.
Понятие
«нового»
чрезвычайно
важное понятие
эстетики
Толстого.
Понятие это
стоит в центре
толстовского
определения
художественного
таланта.
Талант есть,
по Толстому, особенный
дар, «который
состоит в
способности
усиленного,
напряженного
внимания, смотря
по вкусам
автора,
направляемого
на тот или другой
предмет,
вследствие
которого
человек,
одаренный
этой
способностью,
видит в тех
предметах, на
которые он
направляет
свое
внимание,
нечто новое,
такое, чего
не видят
другие». По
Толстому,
«для того,
чтобы художник
знал, о чем
ему должно
говорить, нужно,
чтобы он знал
то, что
свойственно
всему
человечеству
и, вместе с
тем, еще
неизвестно
ему, т. е.
человечеству»
(5, 30, 435).
Усмотрение и
показ через
искусство
нового есть,
по мысли Толстого,
вовсе не
такое условие
искусства,
которое
желательно,
но без
которого
можно все же
обойтись: это
условие
совершенно
непреложное,
при отсутствии
которого
произведение
не есть
подлинное
произведение
искусства:
«Как произведение
мысли есть
только тогда
произведение
мысли, когда
оно передает
новые
соображения
и мысли, а не
повторяет
88
то, что
известно,
точно так же
и
произведение
искусства
только тогда
есть
произведение
искусства,
когда оно
вносит новое
чувство (как
бы оно ни
было
незначительно)
в обиход
человеческой
жизни» (5, 30, 85).
Ошибку
всех
господствующих
эстетических
теорий
Толстой
видел именно
в том, что теории
эти, как
думал он,
недооценивают
значение,
какое для
искусства
имеет умение
художника
показать
средствами
своего
искусства то
новое, что
открылось
ему в явлениях
человеческой
жизни. «Все
эти теории,
писал
Толстой,
забывают
одно главное:
что ни
значительность,
ни красота,
ни правдивость
не
составляют
условий
произведения
искусства,
что основное
условие
произведения
есть
сознание
художником
чего-то нового,
важного.
И потому
для
настоящего
художника,
как всегда
было, так и
будет нужно,
чтобы он мог
видеть нечто
совсем новое,
а для того,
чтобы художник
мог видеть
'новое, ему
нужно
смотреть и
думать, не
заниматься в
жизни
пустяками,
которые
мешают
внимательно
вглядываться
и
вдумываться
в явления жизни.
Для того же,
чтобы,
во-первых, то
новое, что он
видит, было
важно для
людей,
художник должен
жить не
эгоистической
жизнью, а
принимать
участие в
общей жизни
человечества»
(5, 30, 224).
«Ни в чем
так не вредит
консерватизм,утверждал
Толстой, как
в искусстве.
Искусство
есть одно из
проявлений духовной
жизни
человека, и
потому, как
если животное
живо, оно
дышит,
выделяет
продукты
дыхания, так
если
человечество
живо, оно проявляет
деятельность
искусства. И
потому в
каждый
данный
момент оно
должно
бытьсовременное,
искусство
нашего
времени.
Только надо
знать, где
оно. (Не в
декадентах
музыки,
поэзии,
романа). Но
искать его
надо не в прошедшем,
а в
настоящем.
Люди,
желающие
себя показать
знатоками
искусства и
для этого
восхваляющие
прошедшее
искусство классическое
и бранящие
современное,
этим только
показывают,
что они
совсем не
чутки к
искусству» (5, 53, 81).
Новизной
выраженного
в
произведении
искусства
чувства,
отношения
художника к
изображаемым
явлениям
определяется,
по Толстому,
сила
действия,
оказываемого
искусством
на людей.
«Только
поэтому,
поясняет
Толстой, и
чувствуются
так сильно
детьми,
юношами,
произведения
искусства, в
первый раз
передающие
им
неиспытанные
еще ими
чувства» (5, 30, 85).
Сознание
своей
способности
открывать
новое и неизвестное
есгь, по
Толстому,
черта,
отличающая подлинного
художника от
дилетанта.
Отличие это
Толстой
изобразил в
«Анне
Карениной».
Настоящий
художник,
Михайлов,
противопоставлен
тут
дилетанту
Вронскому. «О
своей картине,
той, которая
стояла
теперь на его
мольберте, у
него (у
Михайлова. В.
А.) в глубине
души было
одно
суждение то,
что подобной
картины
никто
никогда не
писал. Он не
думал, чтобы
картина его
была лучше,
всех
Рафаэлевых,
но он знал,
что того, что
он хотел
передать и
передал в
этой картине,
никто никогда
не передавал.
Это он знал
твердо и знал
уже давно, с
тех пор как
начал писать
ее...» (5, 19, 3738).
Напротив,
дилетант не
только сам
неспособен к
усмотрению и
передаче
нового,
неизвестного,
но
неспособен и
оценить эти
качества
подлинного
искусства
там, где они
проявляются.
Так, и
Вронский, и
его приятель,
такой же
дилетант,
Голенищев, и
Анна, все
находили, что
картина,
которую писал
Вронский,
«очень
хороша,
потому что была
гораздо
более похожа
на знаменитые
картины, чем
картина
Михайлова» (5, 19, 46).
Неповторимое,
только
данному
художнику открывшееся
видение
жизни
предполагает
неповторимость
средств, при
помощи
которых это
видение
передается в
произведении
искусства.
89
Художник
может узнать,
пройдя курс
художественной
школы, каким
образом решали
свои, особые,
ими одними
поставленные
задачи
другие
художники. Но
как только
перед ним
возникает
своя
собственная
задача, не
совпадающая
ни с одной
задачей,
выдвинутой
другими
художниками,
ему придется
искать для ее
разрешения
своих
собственных,
никем до него
не
испробованных
и не
пройденных
путей.
Подлинное
искусство
поэтому
всегда заключает
в себе долю
риска и
неизвестности,
так как,
принимаясь
за свою
особую, неповторимую
задачу,
художник не
может
наперед в точности
знать, к
какому
результату
его приведут
его поиски и
его движение
по неизведанному
пути. Как бы
ни был труден
и пугающ неизведанный
путь, для
художника,
если он только
подлинный
художник, нет
другого выхода,
кроме
бесстрашного
движения по
своему пути.
«...Делая,
разъяснял
Толстой Е. И.
Попову, мы не
можем знать,
что выйдет...» (5, 65,
90). «Надо смело идти
по
неизвестному
пути, который
открывается,
его узнаешь
только, когда
пойдешь по нем»
(5, 65, 147).
Даже
самым
крупным,
несомненным
художникам Толстой
не прощал
порока
банальности,
отсутствия
той
неповторимости
средств выражения,
которая
требуется
новизной
открывшегося
им и ими
познанного.
«...Меня всегда
удивляет в
Тургеневе,
писал
Толстой, как
он с своим
умом и
поэтическим
чутьем не
умеет удержаться
от
банальности,
даже до
приемов. Больше
всего этой
банальности
в отрицательных
приемах,
напоминающих
Гоголя» (5, 60, 325).
3.
ИСКУССТВО
КАК
ИЗОБРАЖЕНИЕ
ЖИЗНИ
ТРУДОВОГО
НАРОДА
Требуя
от художника
самоотверженного
поиска
нового,
Толстой был
далек от
мысли, будто
новые, никем
еще не
испытанные
средства
изображения
и выражения
могут быть
найдены при
помощи
расширения
одних лишь
художественных
приемов,
независимо от
способности
художника
найти в самой
изображаемой
им жизни
новое и
достойное
изображения
содержание.
Неоскудевающим
источником
содержания, обновляющего
приемы и
средства
выражения, Толстой
признал
жизнь народа
во всей полноте
и во всем
разнообразии
ее
проявлений.
Этот
свой взгляд
коренной для
эстетики и для
всего
мировоззрения
Толстой с сознательной
резкостью
противопоставлял
взгляду
эстетиков
«высших
классов», не
подозревавших
даже всего
богатства
содержания,
представляемого
поэту,
художнику
жизнью
народной.
«Люди нашего
кружка,
эстетики, писал
Толстой,
обыкновенно
думают и
юворят противное.
Помню, как
писатель
Гончаров,
умный, образованный,
но
совершенно
городской человек,
эстетик,
говорил мне,
что из
народной
жизни после
«Записок
охотника»
Тургенева писать
уже нечего.
Все
исчерпано.
Жизнь рабочего
народа
казалась ему
так проста,
что после
народных
рассказов
Тургенева
описывать
там было уже
нечего. Жизнь
же богатых людей,
с ее
влюблениями
и
недовольством
собою, ему
казалась
полною
бесконечного
содержания.
Один герой
поцеловал
свою даму в
ладонь, а
другой в
локоть, а
третий еще
как-нибудь.
Один тоскует
от лени, а
другой
оттого, что его
не любят. И
ему казалось,
что в этой
области нет
конца
разнообразию.
И мнение это
о том, что
жизнь
рабочего
народа бедна
содержанием,
а наша жизнь,
праздных
людей, полна
интереса,
разделяется
очень
многими людьми
нашего круга.
Жизнь
трудового
человека с
его
бесконечно
разнообразными
формами
труда и
связанными с
ними
опасностями
на море и под
землею, с его
90
путешествиями,
общением с
хозяевами,
начальниками,
товарищами, с
людьми
других исповеданий
и народностей,
с его борьбою
с природой,
дикими животными,
с его
отношениями
к домашним
животным, с
его трудами в
лесу, в степи,
в поле, в саду,
в огороде, с
его
отношениями
к жене, детям,
не только как
к близким,
любимым
людям, но как
к
сотрудникам,
помощникам, заменителям
в труде, с его
отношениями
ко всем
экономическим
вопросам, не
как к предметам
умствования
или
тщеславия, а
как к вопросам
жизни для
себя и семьи,
с его
гордостью
самодовления
и служения
людям, с его
наслаждениями
отдыха, со
всеми этими
интересами...
нам, не
имеющим этих
интересов...
нам эта жизнь
кажется
однообразной
в сравнении с
этими
маленькими
наслаждениями,
ничтожными
заботами
нашей жизни
не труда и не
творчества,
но
пользования
и разрушения
того, что сделали
для нас
другие» (5, 30, 8687).
Но если
подлинно
новым может
быть только содержание,
почерпнутое
из жизни
народа, и если
значение
искусства в
его
способности быть
средством
общения
людей, то
отсюда следует,
что
подлинное
искусство не
может быть ни
искусством
исключительным,
т.е. средством
выражения и
общения
особой
группы или
класса,
людей,
отделенных
от народа
своим положением
и особыми
условиями
жизни, ни искусством,
непонятным
для народа,
доступным
только
узкому кругу
людей,
поставленных
в особые
условия,
отделяющие
их от условий
жизни народа.
Вся
страсть и
сила критики
Толстого, с
какой он
обрушивается
на
современное
ему искусство,
т. е.
искусство
высших
классов
конца XIX и
начала XX века,
направлена
не против
новаторов
искусства, но
против
исключительности
и
непонятности
ненародного,
группового,
кружкового
искусства,
которое
ошибочно
отождествлялось
с новаторством
в искусстве.
Гениальность
Толстого
проявляется
здесь в самом
направлении
его критики.
Толстой метит
не в те или
другие
частные,
особенные и
потому
всегда
спорные
случаи или
обнаружения
исключительности
и непонятности:
его критика
вскрывает
самый глубокий,
общий корень
наблюдаемой
им в искусстве
исключительности
и
непонятности
отрыв
искусства от
жизни
народной,
превращение
большого и
серьезного
всенародного
дела
искусства в
деятельность,
имеющую
целью
доставлять наибольшее
наслаждение
известному,
обособленному
от народа
условиями
господства,
роскоши и
праздности
кругу людей.
Толстой
далек от
того, чтобы
объявить
антипатичное
ему лично
искусство,
например искусство
декадентов,
дурным
только
потому, что
оно
непонятно тому
поколению и
тому кругу
людей, к
которому он
сам
принадлежал
и которое
было воспитано
на искусстве
начала XIX века.
Дело не в
той или иной,
всегда
относительной,
степени
непонятности,
а в той общей
тенденции развития
искусства,
которая
своей
основой имеет
исключительность
искусства
высших
классов,
обособленных
от жизни
народа.
«Как
только
искусство
высших
классов,
писал
Толстой,
выделилось
из
всенародного
искусства,
так явилось
убеждение о
том, что искусство
может быть
искусством и
вместе с тем
быть непонятно
массам» (5,30, 107).
Убеждение
это Толстой
считает
одной из самых
превратных и
губительных
для искусства
ошибок
эстетики.
Если только
допустить, что
искусство
может быть
искусством,
будучи
непонятным в то
же время
людям, «так
нет никакой
причины какому
бы то ни было
кружку
извращенных
людей не
сочинять
произведения,
щекочущие их
извращенные
91
чувства
и непонятные
никому, кроме
их самих,
называя эти
произведения
искусством,
что
собственно и
делается теперь
так
называемыми
декадентами»
(5, 30, 111).
По мысли
Толстого,
«великие
предметы
искусства
только
потому и
велики, что
они доступны
и понятны
всем» (5, 30, 109). «Все
дело
искусства,
разъяснял
Толстой,
состоит
только в том,
чтобы быть
понятным, чтобы
сделать
непонятное
понятным, или
полупонятное
вполне
понятным тем
его особенным,
непосредственным
путем
заражения
чувством,
которое
составляет
особенность
деятельности
искусства.
Все усилия
художника
должны быть
направлены
на то, чтобы
быть понятным
всем» (6, 67).
Самое
допущение,
будто
произведение
искусства,
будучи
непонятным,
может быть
замечательным
произведением
искусства,
есть, по
Толстому,
противоречие,
явная
бессмыслица:
«...сказать, что
произведение
искусства хорошо,
но непонятно,
все равно что
сказать про
какую-нибудь
пищу, что она
очень хороша,
но люди не
могут есть
ее. Люди могут
не любить
гнилой сыр,
протухлых
рябчиков и т.
п. кушаний,
ценимых
гастрономами
с извращенным
вкусом, но
хлеб, плоды
хороши только
тогда, когда
они нравятся
людям. То же и
с искусством:
извращенное
искусство может
быть
непонятно
людям, но
хорошее искусство
всегда
понятно всем»
(5, 30, 108).
Глубокая
связь между
качеством
понятности и
качеством
правдивости
превращает
понятность в
признак,
граничащий с
моральной
характеристикой
его автора.
В основе
требования
понятности
стоит тесно
связанное с
ним
требование
правдивости.
Понятное
искусство
правдиво, а
правдивость
необходимейшее
условие
жизни и искусства.
В искусстве,
так думает
Толстой,
правдивость
даже еще
более необходима,
чем в жизни. «В
жизни, писал
Толстой Страхову,
ложь гадка,
но не
уничтожает
ее гадостью,
но под ней
все-таки
правда жизни
потому, что
чего-нибудь
всегда
кому-нибудь
хочется, от
чего-нибудь
больно и
радостно, но
в искусстве
ложь
уничтожает
всю связь
между
явлениями:
порошком все
рассыпается».
Правдивость,
верность
действительному
существу
изображаемого
есть
свойство, до
такой
степени
присущее
искусству,
что самый
процесс
создания
художественного
образа
Толстой, в
духе
известной
мысли
Микеланджело,
запечатленной
в его
сонетах,
рассматривает
как снятие
слоев или
покрова,
скрывающего
фигуру,
которая
существует
независимо от
глаз
художника и
его
искусства в
самом мраморе.
Так, художник
Михайлов,
уловив при помощи
счастливой
случайности
сущность рисуемой
им фигуры,
понимает, что
вся его
работа над образом
какие бы
изменения он
ни внес затем
в те или иные
подробности
ее движения
состоит в
«откидывании»
того, что
закрывало фигуру
от взоров
наблюдающего:
«Можно было
поправить
рисунок
сообразно с
требованиями
этой фигуры,
можно и
должно даже
было иначе
расставить
ноги, совсем
переменить положение
левой руки,
откинуть
волосы. Но, делая
эти поправки,
он не изменял
фигуры, а только
откидывал то,
что скрывало
фигуру. Он как
бы снимал с
нее те
покровы,
из-за которых
она не вся
была видна...» (5, 19,
37).
4. О
РЕАЛИЗМЕ В
ИСКУССТВЕ
Взгляд
Толстого, по
которому
предмет, изображаемый
художником в
произведении,
как бы
существует
уже в натуре,
в материале
искусства
так что
задача
художника
состоит только
в том, чтобы
умеючи и
92
осторожно
освободить
предмет от
облекающего
его покрова,
взгляд этот
непосредственно
приводил
Толстого к
вопросу о
реализме, к
вопросу об
отношении
искусства к
реальности.
Особенность
толстовского
реализма
состоит в
том, что это
реализм, не
столько
прямо
изображающий
предмет или
явление,
сколько
изображающий
их посредством
передачи
чувства,
вызываемого
предметом у
автора.
Знаменитое
толстовское
определение
искусства
как
деятельности,
состоящей в
намеренном
воспроизведении
особыми для
каждого
искусства
средствами
однажды
испытанных
автором
чувств с
целью
передачи этих
чувств
другим людям,
очень точно
выражает
свойственное
Толстому
понимание
реализма.
Толстовское
искусство
великолепно
и с
исключительной
иллюзией
реальности
изображает
природу,
внешность
человека, его
внутреннюю
жизнь, но
изображает
все это в
границах
того, что
может быть
показано
через призму
чувства.
Самый ум
Толстого,
если
пользоваться
условным
термином
переписки
между
Толстым и Фетом,
был не «умом
ума», но «умом
сердца».
Односторонность
и
недостаточность
толстовского
определения
искусства
давно уже выяснены
эстетикой и
критикой.
Общеизвестно,
что узость
этого
определения
привела Толстого
к недооценке
познавательной
силы
искусства, к
пренебрежению
интеллектуальными
средствами
искусства.
Значение
искусства не
только в том,
как ошибочно
думал
Толстой, что
искусство
«заражает»
людей
чувствами,
которые
художник
пережил и,
пережив,
намеренно
воспроизвел
их в своем
произведении.
Кроме того
действия, которое
искусство
оказывает на
чувство и
которое
Толстой
особенно
подчеркивает,
искусство
воздействует
посредством
своих
образов на
всю область
наших представлений
и идей.
Искусство
способно изменять
в нас не
только строй
наших чувств,
но и строй
наших мыслей.
Искусство
изменяет степень
и глубину
наших знаний
о жизни и ее
явлениях.
Более того:
искусство
располагает
особыми, ему
одному
принадлежащими
средствами
познания,
сила которых
в известных
отношениях
даже
превосходит
то, что может
быть дано
познанием
научным. На
это
преимущество
художественного
познания
указывал
Энгельс. Так,
Энгельс
разъяснял,
что из чтения
и изучения
«Человеческой
комедии»
Бальзака он
«узнал больше
(например, о
перераспределении
движимого и
недвижимого
имущества после
революции),
чем из книг
всех
специалистов
историков,
экономистов,
статистиков
этого
периода,
вместе
взятых» (1, 37, 36).
Познавательная
сила
искусства
делает
искусство
одним из
важнейших и
могущественнейших
средств идейного
воспитания.
Толстой
говорит и об
этой
познавательной
стороне
искусства. Но,
увлеченный
доказательством
важности действия
искусства на
чувства,
Толстой недооценил
познавательную
функцию
искусства
не в своей
художественной
деятельности,
а в своих
эстетических
высказываниях.
Недостаток
этот был в
свое время
отмечен Плехановым.
Плехановская
критика
толстовского
определения
искусства
указала на
односторонность
теоретических
взглядов
Толстого на искусство.
Ошибка
Толстого не в
том, что он подчеркивает
способность
искусства
действовать
на чувства, а
в том, что,
правильно подчеркивая
эту
способность,
Толстой
недостаточно
подчеркивает
в статьях об
искусствето
новое, что
искусство
вносит также
и в область
познания. Но
эта
односторонность,
явно выступающая
в
эстетических
формулах
Толстого, несравненно
менее
присутствует
и ощущается в
практике
реалистического
искусства
Толстого.
Произведения
Толстого
богатейший
источник
художественного
познавательного
опыта, далеко
выходящего
за пределы
93
воздействия
на одни лишь
чувства.
Художественный
талант
Толстого
оказался
мудрее его
рассудочной
формулы.
Как
реалист
Толстой
требует,
чтобы произведение
искусства
порождало
иллюзию подлинной
жизни. В
работе «О
Шекспире и о
драме» он
даже
определяет
иллюзию как
«главное условие
искусства»:
«Художественное,
поэтическое
произведение,
в
особенности
драма, прежде
всего должно
вызывать в
читателе или
зрителе
иллюзию того,
что
переживаемое,
испытываемое
действующими
лицами переживается,
испытывается
им самим. А
для этого
столь же
важно
драматургу
знать, что
именно
заставить и
делать и
говорить
свои действующие
лица, сколько
и то, чего не
заставить их и
говорить и
делать, чтобы
не нарушить
иллюзию
читателя или
зрителя» (5, 35, 250).
Художественная
иллюзия
предполагает
полную
победу «ад
всеми
слишком
личными, субъективными,
предвзятыми
пристрастиями
художника и
означает
способность
открыть в
изображаемом
самый
предмет
таким, каков
он есть. «Художник,
писал
Толстой в
предисловии
к сочинениям
Мопассана,только
потому и
художник, что
он видит
предметы не так,
как он хочет
их видеть, а так,
как они есть.
Носитель
таланта
человек
может
ошибаться, но
талант, если
ему только
будет дан
ход, как
давал ему ход
Мопассан в
своих
рассказах,
откроет,
обнажит
предмет и
заставит
полюбить его,
если он
достоин
любви, и
возненавидеть
его, если он
достоин
ненависти» (5, 30, 20).
5.
КРИТИКА
НАТУРАЛИЗМА
В ИСКУССТВЕ.
РОЛЬ
ДЕТАЛИ В
ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ПРОИЗВЕДЕНИИ
Требование
полноты и
совершенства
иллюзии
вовсе не
означает, что
в самом
изображении
предмета
художник
должен
стремиться закрепить
все, что есть
в предмете, и
закрепить
таким, какова
оно есть.
Увидеть
предмет так,
как он есть,
не значит еще
изобразить
его в произведении
искусства
таким, каков
он есть, натуралистически.
Художник
должен
победить и
искоренить
из своей
субъективности
то, что
заслоняет от
него предмет,
мешает ему видеть
предмет. Но
это не
значит, что
художник
должен или
вправе
отрешиться
от осознания
и выявления
своего
отношения к
увиденному и
показанному
через
искусство
предмету.
Напротив, та
иллюзия
реальности,
без которой
нет
искусства,
только тогда
и может возникнуть
такова
мысль
Толстого
если у автора
имеется
твердое,
нравственное,
как его называет
Толстой,
отношение к
предмету. «...Цемент,
писал
Толстой,
который
связывает всякое
художественное
произведение
в одно целое
и оттого
производит
иллюзию
отражения
жизни, есть
не единство
лиц и
положений, а
единство
самобытного
нравственного
отношения
автора к
предмету» (5,30, 1819).
Но
именно
поэтому,
победив в
себе
субъективную
предвзятость,
увидев
предмет
таким, каков
он есть,
художник не
может
удовлетвориться
изображением
его, каков он
есть. Ибо не все
из того, что
есть,
существует
таким, каким
оно должно бы
было быть.
«Все
словесные
сочинения и
хороши, и
нужны, пояснял
Толстой,не
тогда, когда
они описывают
что было, а
когда
показывают,
что должно
быть; не
тогда, когда
они
рассказывают
то, что делали
люди, а когда
оценивают
хорошее и
дурное...» (5, 26, 308).
«...Нельзя
описывать
только то,
что бывает в
мире. Мир
лежит во зле
и соблазнах.
Если будешь
описывать
много лжи, и в
словах твоих
не будет
правды. Чтобы
была правда в
том, что
описываешь,
надо писать
не то, что
есть,
94
а то, что
должно быть...
От этого и
бывает то, что
есть горы
книг, в
которых
говорится о
том, что
точно было
или могло
быть, но
книги эти всё
ложь, если те,
кто их пишут,
не знают сами,
что хорошо,
что дурно...». «И
бывает то,
что есть
сказки,
притчи,
басни,
легенды, в
которых описывается
чудесное,
такое, чего
никогда не
бывало и не
могло быть, и
легенды,
сказки, басни
эти правда...» (5, 26,
308). «Такая
история вся
невероятная,
потому что
ничего того,
что
описывается,
не бывало и
не могло
быть; но она
вся правда,
потому что в
ней
показывается
то, что
всегда
должно быть,
в чем добро, в
чем зло...» (5, 26, 309).
«...Для того,
чтобы производить
то, что
называется
произведениями
искусства,
надо ... чтобы
человек ясно,
несомненно
знал, что
добро, что
зло, тонко
видел
разделяющую черту
и потому
писал бы не
то, что есть, а
то, что
должно быть» (5,64,
19).
Именно
потому, что
талант, как
его понимает Толстой,
есть
способность
«видеть вещи
в их сущности»,
подлинное
искусство не
может быть
натуралистическим.
Способность
видеть сущность
предмета
предполагает,
что все второстепенное,
побочное, т. е.
как раз то,
что в
непосредственном
натуралистическом
восприятии
часто
выдвигается
на первый план
и заслоняет
сущность,
должно быть
подчинено главному,
основному,
решающему.
Поэтому художественное
произведение,
заслуживающее
этого
названия,
есть не
натуралистическая
копия, но
всегда и
непременно
определенное
подчинение
или, как
выражается
Толстой, «иерархия»,
т. е.
гармоническая
правильность
в распределении
изображаемых
в
произведении
предметов.
Именно
за высокое
совершенство
в осуществлении
этой
«иерархии»
Толстой
ценил прозу Пушкина,
особенно
«Повести
Белкина», а
также ценил
эпос Гомера.
«Область
поэзии бесконечна,
как жизнь,
писал
Толстой
Голохвастову,
но все
предметы
поэзии
предвечно распределены
по известной
иерархии и
смешение
низших с
высшими или
принятие
низшего за
высший есть
один из
главных
камней преткновения.
У великих
поэтов, у
Пушкина, эта гармоническая
правильность
распределения
предметов
доведена до
совершенства...
Чтение
даровитых, но
не
гармонических
писателей (то
же музыка,
живопись)
раздражает и
как будто
поощряет к
работе и
расширяет
область; но
это ошибочно;
а чтение
Гомера, Пушкина
сжимает
область и,
если
возбуждает к
работе, то
безошибочно»
(5, 62, 22).
Свойство
это Толстой
не только
ценил в великих
поэтах
прошлого.
Этого
свойства
гармонического
распределения
предметов
он прежде
всего
добивался и в
практике
собственного
искусства.
«Глазное,
разъяснял он
Фету, ...в
расположении
частей
относительно
фокуса, и
когда правильно
расположено,
все ненужное,
лишнее само
собою
отпадает, и
все
выигрывает в
огромных
степенях» (5, 62, 441).
Отвергая
натуралистическую
подробность
как несовместимую
с «иерархией»
или
гармоническим
расположением
частей
подлинно
художественного
произведения,
Толстой
отнюдь не отвергал
подробность
как одно из
средств, усиливающих
действие
целого.
Подробность,
так думал
Толстой,
может быть
чрезвычайно
ценным орудием
искусства
при условии,
если она есть
не бессмысленная
натуралистическая
копия, но
черта,
сознательно
выделенная
художником,
так как она
проливает
свет на
целое, помогает
осмыслить то,
что по своему
значению
гораздо
больше, шире
и
значительнее,
чем самая эта
подробность.
Только
поисками
смысла
целого может
быть оправдана
деталь в
искусстве. «В
поэзии эта страсть
к
изображению
того, что
есть, происходит
оттого, что
художник
надеется,
ясно увидав,
закрепить то,
что есть,
понять смысл того,
что есть».
95
Анализируя
сцену из
романа
Поленца
«'Крестьянин»,
Толстой
обращает
внимание на
одну введенную
автором в
сцену деталь.
«Такая подробность,
разъясняет
Толстой,
освещая внутреннюю
жизнь этой
жены и этого
мужа, освещает
для читателя
внутреннюю
жизнь миллионов
таких же
мужей и жен, и
прежде
живших и теперь
живущих...» (5, 34, 272).
Такого рода
подробности
Толстой не
только
допускал, но
чрезвычайно
ценил. В этом
смысле
Толстой
писал Е. И. Попову:
«Чем больше
подробностей,
сцен, тем лучше»
( 5, 67, 122).
Напротив,
всякая
подробность,
отводящая
читателя в
сторону от
основного
смысла сцены,
положения,
действия,
произведения
или заслоняющая
этот смысл,
рассматривалась
Толстым как
непростительная
ошибка
художника и
искусства. «В
повествовании
об Иосифе, разъяснял
Толстой, не
нужно было
описывать
подробно, как
это делают
теперь,
окровавленную
одежду
Иосифа и
жилище и
одежду
Иакова, и
позу и наряд
Пентефриевой
жены, как она,
поправляя
браслет на
левой руке,
сказала:
«Войди ко мне»,
и т. п., потому
что
содержание чувства
в этом
рассказе так
сильно, что
все подробности,
исключая
самых
необходимых, как,
например, то,
что Иосиф
вышел в
другую комнату,
чтобы
заплакать,
что все эти
подробности
излишни и
только
помешали бы
передать
чувство, а
потому
рассказ этот
доступен
всем людям,
трогает
людей всех
наций, сословий,
возрастов,
дошел до нас
и проживет еще
тысячелетия.
Но отнимите у
лучших
романов
нашего
времени
подробности,
и что же останется?»
(5, 30, 162).
Именно
для
достижения
иллюзии
реальности
этого
необходимого
условия
искусства
натуралистическая
деталь
должна быть
изгоняема из
произведения.
«Можно, не
нарушая
иллюзии, не
досказать многого
читатель
или зритель
сам доскажет,
а иногда
вследствие
этого в нем
еще усилится
иллюзия, но
сказать
лишнее все
равно, что,
толкнув,
рассыпать
составленную
из кусочков
статую или
вынуть лампу
из волшебного
фонаря,
внимание
читателя или
зрителя отвлекается,
читатель
видит автора,
зритель актера,
иллюзия
исчезает, и
вновь
восстановить
иллюзию
иногда
бывает уже
невозможно» (5, 35,
267).
Мысли
эти были для
Толстого
мерилом при
оценке работ
самых
крупных
художников.
Так, Лескова,
которого
Толстой и в
старости
очень любил,
восхищаясь
его талантом,
вдохновением,
он упрекал за
«излишек
таланта». «...Ваш
особенный
недостаток,
писал он
Лескову, exuberance
образов,
красок,
характерных
выражений,
которая вас
опьяняет и
увлекает.
Много
лишнего,
несоразмерного...»
(5, 65, 198).
Но не
иным был и
принцип
собственного
творчества
Толстого
реалистического,
но не натуралистического,
творчески
комбинирующего
впечатления,
отбирающего
характерное,
подчиненного
чувству меры,
которому
Толстой
учился и у
греков, и у
французов
классического
периода, и у
Пушкина.
С
гордостью
истинно
великого
художника Толстой
отвергал
наивные
догадки
некоторых читателей
о
портретности
персонажей в
его романах.
«Андрей
Болконский,
разъяснял он
княгине
Волконской,
никто, как и
всякое лицо
романиста, а
не писателя
личностей
или мемуаров.
Я бы стыдился
печататься,
ежели бы весь
мой труд
состоял в
том, чтобы
списать
портрет,
разузнать,
запомнить» (5, 61, 80).
Натуралистическое
копирование
представлялось
Толстому
делом не
только
ложным по существу,
но, кроме
того, слишком
легким, недостойным
той
серьезности
и трудности,
которая
составляет
гордость,
радость и
мучение подлинного
художника.
Напротив, в
произведениях
подлинного
реалистического
искусства
Толстой
ценил их
способность
расширять
опыт, знание
жизни не
показом
ничтожных и
потому
никому не
96
нужных
подробностей,
не простым
повторением
того, что
бывает в жизни,
а таким
изображением,
которое, не
будучи самим
опытом жизни,
приближает
человека к пониманию
ее явлений.
По
разъяснению
Толстого,
удовольствие,
доставляемое
произведениями
искусства,
состоит
«именно в том,
что человек
не
испытывает
всего того
трения жизни,
которое
отравляет и
уменьшает
наслаждения
действительной
жизни, а
между тем получает
все те
волнения
жизни,
которые
составляют
ее сущность и
прелесть и
получает их с
тем большей
силой, что
ничто не
мешает им. Благодаря
искусству
человек
безногий или
дряхлый
испытывает
наслаждение
пляски, глядя
на пляшущего
художника-скомороха;
человек, не
выходивший
из своего
северного
дома,
испытывает
наслаждение
южной
природой, глядя
на картину;
человек
слабый,
кроткий испытывает
наслаждение
силы и
власти, глядя
на картину,
читая или
глядя на
театре
поэтическое
произведение
или слушая
героическую
музыку;
человек
холодный,
сухой,
никогда не жалевший,
не любивший,
испытывает
наслаждение
любви,
жалости» ( 5, 30, 252253).
6. О
СУЩНОСТИ И
ЗНАЧЕНИИ
ФОРМЫ В
ИСКУССТВЕ
Сознание
невозможности
удовлетвориться
в искусстве
простым
перенесением
.в
произведение
черт
предмета
такими,
каковы они в
натуре, в
жизни, а
также
сознание
трудности, с
какой в
искусстве
создается
подлинная
иллюзия
реальности,
выдвигало
перед
Толстым вопрос
о мастерстве,
о технике, о
форме в
искусстве.
Искусство
всегда было в
глазах
Толстого нелегким
делом,
требующим от
художника
самоотверженного
и
неутомимого
труда.
Первым
источником
трудности в
деле искусства
Толстой
признал
своеобразие
той формы
мышления,
какую
представляет
искусство.
Хотя
художник необходимо
передает в
'Произведении
мысли, выражающие
его
отношение к
изображаемым
явлениям
жизни,
произведение
искусства отнюдь
не
равносильно
простому
соединению
мыслей, пусть
даже самых
истинных и
глубоких.
С исключительной
силой это
свое
понимание
своеобразия
художественного
мышления,
невозможность
свести смысл
художественного
произведения
к простому
ряду
суждений
как бы
проницательны
и верны они
ни были
Толстой
выразил в
письме к
Страхову от 26
апреля 1876 года.
«...Ваше
суждение о
моем романе,
писал Толстой
Страхову,
верно, но не
все, т. е. все
верно, но то,
что вы
сказали,
выражает не
все, что я хотел
сказать» (5, 62, 268).
«Если же
бы я хотел
сказать
словами все
то, что имел в
виду
выразить
романом, то я
должен был
написать
роман тот
самый, который
я написал
сначала... Во
всем, почти
во всем, что я
писал, мною
руководила
потребность собрания
мыслей,
сцепленных
между собой для
выражения
себя; но
каждая мысль,
выраженная
словами
особо, теряет
свой смысл, страшно
'понижается,
когда
берется одна
и без того
сцепления, в
котором она
находится. Само
же сцепление
составлено
не мыслью (я
думаю), а
чем-то другим
и выразить
основу этого
сцепления
непосредственно
словами никак
нельзя; а
можно только
посредственно
словами,
описывая
образы,
действия,
положения» (5, 62, 269).
Настоящее
художественное
произведение,
пояснял
Толстой ту же
мысль в
«Предисловии к
роману В. фон
Поленца
«Крестьянин»,
есть «произведение,
в котором
автор
говорит про
то, что ему
нужно
сказать... не
рассуждениями...
а тем
единственным
средством,
которым
можно
передать
художественное
содержание:
поэтическими
образами...» (5, 34, 270).
97
В
художественном
произведении
мысль не перестает
быть мыслью,
но, сохраняя
за собой все
свое
значение
мысли, становится
элементом
неделимого
целого, которое
есть уже не
отвлеченная
только мысль
и которое
действует на
народ не
только непосредственным
содержанием
заключающихся
в нем мыслей.
Поэтому
одно
достоинство
мыслей,
вложенных
драматургом
в уста
действующих
лиц, не
решает еще
вопроса о
достоинстве
драматического
произведения
как
произведения
искусства.
«Мысли и
изречения
можно ценить,
писал
Толстой, в
прозаическом
произведении,
в трактате,
собрании
афоризмов, но
не в
художественном
драматическом
произведении,
цель
которого
вызвать
сочувствие к
тому, что
представляется»
(5, 35, 250). В
драматическом
произведении
мысли
оказываются
неотделимыми
от целого
элементами
драмы, а
условия всякой
драмы
«заключаются
в том, чтобы
действующие
лица были,
вследствие
свойственных
их
характерам
поступков и
естественного
хода событий,
поставлены в
такие положения,
при которых,
находясь в
противоречии
с окружающим
миром, лица
эти боролись
бы с ним и в
этой борьбе
выражали бы
присущие им
свойства» '(5, 35, 237).
Уяснение
своеобразной
функции
мысли в
произведении
искусства
приводит к
уяснению
своеобразных
трудностей,
которые
возникают
перед художником
в процессе
создания
произведения.
Если «основу
сцепления
мыслей»
нельзя
выразить
«непосредственно
словами», а
можно «только
посредственно
словами,
описывая
образы,
действия, положения»,
то это
значит, что в
каждом особом
случае
художник
должен найти
то неповторимое
сочетание
сцен,
событий,
положений, дифференциалов
выражения
брюлловских
«чуть-чуть»,
которое одно
может
выразить задуманное
им «сцепление
мыслей».
Не раз с
искренностью
и
откровенностью
великого
художника
Толстой
говорит о
трудности
этой работы.
«Вы не можете
себе представить,
писал он Фету
в разгаре
трудов над
«Войной и
миром», как
мне трудна
эта
предварительная
работа
глубокой
пахоты того
поля, на
котором я принужден
сеять.
Обдумать и
передумать
все, что
может
случиться со
всеми
будущими людьми
предстоящего
сочинения,
очень большого,
и обдумать
мильоны
возможных
сочетаний,
для того,
чтобы
выбрать из
них 1/1 000 000 ужасно
трудно» (5, 61, 240).
Толстой
знал, что для
победы над
этими трудностями
необходимо
мастерство,
совершенство
формы: «Чтобы
говорить
хорошо то,
что он хочет
говорить (под
словом
«говорить» я
разумею
всякое
художественное
выражение мысли),
художник должен
овладеть
мастерством.
А чтобы овладеть
мастерством,
художник
должен много
и долго
работать».
Толстой
требовал от
искусства
мастерства и
радовался
этому
качеству в
художниках. Ценя
идейные
замыслы
живописца Н.
Н. Ге, Толстой
опасался, как
бы недостатки
техники,
формы не
помешали
дейст-вию его
произведения
на людей.
«...Только бы вы
по технике,
уговаривал
он Ге,
удовлетворили
требованиям
художнической
толпы. Если
уже выставка
и большая
картина, то
ладо
считаться с
этим» (5, 66, 325).
Высоко ценя
Тютчева и
Баратынского,
он все же
находил в Баратынском
сравнительно
с Тютчевым
недостаток
исполнения:
«Баратынский
настоящий, хотя
мало красоты,
изящества...» (,5, 62,
295). Красоту формы
Толстой
включает в
свое
определение трех
основных,
кроме
таланта, условий
истинного
художественного
произведения,
помещая
требование
прекрасной
формы на
втором месте
после
требования
правильного
отношения
автора к
предмету (см. 5,
30, 7).
98
Восхищаясь
качеством
формы в вещах
Мопассана,
Толстой
особенно
выделял в
этом отношении
форму романа
«Жизнь».
«Форма,писал
Толстой о
романе
Мопассана,прекрасная
и в первых
рассказах,
здесь
доведена до
такой высокой
степени
совершенства,
до которой не
доходил, по
моему мнению,
ни один
французский
писатель-прозаик»
(5, 30, 7).
Необходимое
для каждого
художественного
произведения
качество
новизны есть,
по разъяснению
Толстого, не
только
новизна
выражаемого
содержания,
но также и
новизна
формы, посредством
которой
найденное
впервые
содержание
может быть
выражено.
Мысль эту
Толстой,
согласно
свидетельству
А. Б.
Гольденвейзера,
выразил так:
«Я думаю, что
каждый
большой
художник
должен
создавать и
свои формы.
Если содержание
художественных
произведений
может быть
бесконечно
разнообразным,
то так же и их
форма. Как-то
в Париже мы с
Тургеневым -вернулись
домой из
театра и
говорили об
этом, и он
совершенно
согласился
со мной. Мы с ним
припоминали
все лучшее в
русской литературе,
и оказалось,
что в этих
произведениях
форма
совершенно
оригинальная.
Не говоря уже
о Пушкине,
возьмем
«Мертвые
души» Гоголя.
Что это? Ни
роман, ни
повесть.
Нечто совершенно
оригинальное.
«Записки
охотника» лучшее,
что Тургенев
написал.
Достоевского
«Мертвый дом»,
потом,
грешный
человек,
«Детство»,
«Былое и думы»
Герцена,
«Герой нашего
времени»...» (4, 116).
Но как ни
ценил
Толстой
качество
формы в
художественных
произведениях,
он был далек
от мысли, будто
основная
трудность
искусства
нахождение
единственно
правильного
и от произведения
к
произведению
меняющегося
сочетания
характеров,
положений,
сцен, действий
может быть
преодолена
совершенствованием
одной лишь ф
о р-м ы, одной
лишь техники.
Более
того. Так как
каждое
произведение
искусства
есть, по
Толстому,
неделимое
целое, отвечающее
в каждом
случае
совершенно
неповторимой
задаче, и так
как мысли не
могут быть
оторваны в
нем эт
образов,
положений,
действий, нераздельными
элементами
которых
мысли являются,
то и самая
«техника»
каждого
отдельного
произведения
есть, в
сущности, не
что иное, как
само это
произведение,
во всей особенности
и
неповторимости
его
содержания, нераздельно
слитых с ним
и
характерных
для него
средств
выражения,
способов
построения
художественного
целого и т. д.
В «Анне
Карениной»
Толстой с
редкой силой
проникновения
показывает
ошибочность
обычного
взгляда,
противопоставляющего
техни-ку
произведения
его
внутреннему
достоинству,
т. е. содержанию.
Когда
приехавшие к
живописцу
Михайлову
дилетанты
похвалили
технику его
картины,
Михайлов
«вдруг
насупился».
«Он часто слышал
это слово
техника и
решительно
не понимал,
что такое под
этим
разумели. Он
знал, что под
этим словом
разумели
механическую
способность
писать и
рисовать,
совершенно
независимую
от
содержания.
Часто он замечал,
как и в
настоящей
похвале, что
технику противополагали
внутреннему
достоинству,
как будто
можно было
написать
хорошо то, что
было дурно.
Он знал, что
надо было
много внимания
и
осторожности
для того,
чтобы, снимая
покров, не
повредить
самого
произведения,
и для того,
чтобы снять
все покровы;
но искусства
писать,
техники тут
никакой не
было. Если бы
малому
ребенку или
его кухарке
также
открылось то,
что он видел,
то и она сумела
бы вылущить
то, что она
видит. А
самый опытный
и искусный
живописец-техник
одною механическою
способностью
не мог бы
написать
ничего, если
бы ему не
открылись
прежде границы
содержания» (5, 19,
42).
99
Уяснение
невозможности
создать
произведение
подлинного
искусства,
если «не
открылись прежде
границы
содержания»,
особенно
необходимо
потому, что в
дурных или
мнимых произведениях
искусства
качество
отделки, внешней
формы, может
быть и часто
бывает даже лучшим,
чем в
произведениях
настоящего
искусства.
Как же
отличить в
подобных
случаях
подлинное
произведение
от
поддельного?
Отличие возможно
для того, кто,
так же как
настоящий
художник, не
может
.вступить в
общение с произведением
искусства,
прежде чем
ему «не открылись
границы
содержания».
Такой
требовательностью
к
произведениям
искусства и
непогрешимой
чуткостью
мерила
отличается
отношение к
искусству,
свойственное
народу.
Поэтому
искусство
будущего,
которое
представлялось
Толстому как
искусство,
творимое
народом и для
народа, не
испытает, так
думал Толстой,
никакого
ущерба, если
оно
откажется от слишком
сложной
техники,
характерной
для исключительного,
неспособного
быть всенародным
искусства
господствующих
классов
современного
общества.
«Деятельность
художественная,
писал
Толстой,
будет тогда
доступна для
всех людей.
Доступна же
делается эта
деятельность
людям из
всего народа
потому, что... в
искусстве
будущего не
только не
будет
требоваться
та сложная
техника,
которая обезображивает
произведения
искусства нашего
времени и
требует
большого
напряжения и
траты
времени, но
будет
требоваться,
напротив,
ясность,
простота и
краткость,
те условия,
которые
приобретаются
не механическими
упражнениями,
а
воспитанием
вкуса» (5, 30, 180).
7.
ИСКУССТВО
ДОЛЖНО СТАТЬ
ВСЕНАРОДНЫМ
Толстой
не боялся
того, что
предвиденное
им движение
искусства к
народности, к
ясности,
простоте
снизит
«технику»
искусства. С
огромной
верой в
художественную
силу народа,
в его
художественный
вкус и такт
Толстой
предсказывал,
что
известное
ослабление
техники,
неизбежное
при
превращении
искусства в
искусство
всенародное,
не нанесет
никакого
ущерба
действительному
достоинству
и
действительной
силе
искусства.
Строго
говоря, ни о
каком
ослаблении
техники
здесь не
может быть и
речи. Техника
ослабевает лишь
с точки
зрения
требований
эстетов, снобов.
«Она,
несомненно,
ослабеет,
писал Толстой,
если под
техникой
разуметь те
усложнения
искусства,
которые
теперь
считаются достоинством;
но если под
техникой
разуметь ясность,
красоту и
немногосложность,
сжатость
произведений
искусства, то
техника не
только не
ослабеет, как
это
показывает
все народное
искусство, но
в сотни раз
усовершенствуется...
Она
усовершенствуется
потому, что
все
гениальные
художники,
теперь скрытые
в народе,
сделаются
участниками
искусства и
дадут...
образцы
настоящего
искусства, которые
будут, как
всегда,
лучшею
школой техники
для
художников» (5, 30,
181).
Толстой
хорошо знал
искусство,
его внутренние
трудности,
сложные
законы его
развития во
времени.
Утверждая
неизбежность
перехода
искусства к
высшему типу
всенародного
искусства, он
в то же время
думал, что
даже мосле устранения
социальных
причин,
препятствующих
искусству в
обществе,
основанном
на угнетении,
стать
всенародным,
потребуется
известное
время для
того, чтобы
из искусства,
создавшегося
людьми,
поставленными
в исключительные
и отделенные
от народной
жизни условия,
стать
искусством
народным в
действительном
значении
слова. Уже в
начале 70-х годов
Толстой
ощущал
состояние
тогдашней русской
литературы
как упадок,
даже как смерть,
но смерть «с
залогом
возрождения
в народности».
«Заметили ли
вы в наше
время в мире
рус-
100
ской
поэзии,
писал
Толстой
Страхову,
связь между
этими двумя
явлениями,
находящимися
между собой в
обратном
отношении:
упадок
поэтического
творчества
всякого рода
музыки,
живописи,
поэзии и
стремление к
изучению
русской
народной
поэзии всякого
рода музыки,
живописи и
поэзии. Мне
кажется, что
это даже не
упадок, а
смерть с
залогом
возрождения
в народности.
Последняя волна
поэтическая
парабола
была при Пушкине
на высшей
точке, потом
Лермонтов,
Гоголь, мы
грешные, и
ушла под
землю. Другая
линия пошла в
изучение
народа и
выплывет...
Счастливы те,
кто будет
участвовать
в выплывами.
Я надеюсь» (5,61, 274275).
Толстому
не было
суждено
дожить до
исполнения
своего
предсказания
до времени,
когда
возможность
общего
движения
искусства к
всенародности
стала
благодаря
нашей
революции
действительностью.
Современное
искусство
народов
Советского
Союза
развивается
как
искусство
всенародное.
И если
Толстой
радовался счастью
тех, кому
суждено
будет
увидеть уже не
«залог»
только
возрождения,
но самое возрождение
народности,
то мы, люди
Советской страны,
счастливы
сознанием,
что наш
величайший
писатель
предсказал
это
возрождение
искусства в
народности,
страстно
желал его и
наперед
радовался
часу его
приближения.
ГЕТЕ В
«РАЗГОВОРАХ»
ЭККЕРМАНА
I.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Объем и
точность
наших знаний
о самых крупных
людях
искусства
определяются
не только их
объективным
весом, не
только силой
воздействия
оставленных
ими
произведений,
но также
силой и
яркостью
освещения,
бросаемого
на их жизнь
свидетельствами
современников.
От крупных
мастеров
остаются произведения,
дневники,
переписка.
Остаются и воспоминания
современников:
друзей, врагов
и просто
знакомых. В
этих
материалах
изображаются
события и
факты из
жизни
больших
художников,
рисуется их
личность,
воспроизводятся
речения и
афоризмы. Но
редко бывает,
чтобы в этих
материалах и
записях
сохранился на
длительном
протяжении
след живых
бесед и
диалогов,
споров и
поучений. Из
всех проявлений
крупной
личности,
которые
создают ее значение
для
современников
и потомков,
слово, речь,
беседа
наиболее
эфемерные и
преходящие. В
дневники
попадают
события,
мысли, но
редко
диалоги.
Самые
блистательные
речи
забываются,
самые
остроумные
изречения безвозвратно
утрачиваются.
Человеческое
восприятие
не пластинка
фонографа.
Как бы ни был
внимателен
собеседник
великого
человека, как
бы
напряженно
ни ловил он
его слова,
направление
личного
интереса,
ограниченность
личного
понимания
неизбежно
сделают свое дело.
Во всем
услышанном
они
произведут,
быть может,
незаметно
для самого
собеседника,
отбор,
исключение,
перестановку
и что самое
главное
перетолкование
материала. И
это в лучшем
случае, когда
имеется
желание как
можно точнее
запечатлеть
в памяти и передать
другим
услышанное. А
сколько бесед,
и притом
самых
значительных,
протекает без
всякой
специальной
установки на
запоминание
и
воспроизведение!
Когда
предмет разговора
поглощает
все внимание,
а мысль высекает
мысль, как
кремень
огонь, тут не
до запоминания
и не до
точного
сохранения
услышанного.
B итоге
один из
главных
видев
изучения
художественной
энергии
беседа,
разговор,
диалогобычно
лишь
переживается
их участниками
и,
пережившись,
подвергается
забвению. Что
уцелело от
бесед
Пушкина,
Тютчева, Байрона,
Оскара
Уайльда? А
между тем
современники
согласно
свидетельствуют,
что в жизни
этих
художников
беседа была
одной из важнейших
форм
обнаружения
их гения.
Утрата всяких
следов этих
бесед не
только
обедняет в
нашей памяти
образ этих
художников,
но и лишает
нас большого
и
драгоценного
по своему
содержанию
материала.
Среди
случайностей,
которыми
усыпан путь развития
литературы,
одна из самых
счастливых
сохранила
для нас
беседы Гете в
записях
102
Эккермана.
В ряду
дневников и
мемуаров, посвященных
большим
деятелям
литературы,
книга
Эккермана занимает
совершенно
особое место.
Значение ее
определяется
вовсе не
личными
талантами ее
автора. В
книге
Эккермана
нельзя найти
ни глубоких
или
остроумных
суждений о Гете,
ни метких
художественных
зарисовок событий
из жизни
великого
поэта, ни
мастерской
характеристики
его личности.
Но по
странному
капризу
судьбы само
отсутствие
особо ярких и
самобытных
качеств сыграло
в данном
случае
положительную
роль: оно
помогло
Эккерману
создать
книгу на редкость
интересную и
значительную
по материалу.
«Разговоры с
Гете» представляют
добросовестнейшую
запись длинного
ряда бесед
Гете с
Эккерманом,
происходивших
в 18231832 годах, в
годы
знакомства и
дружбы
Эккермана с
Гете.
Благоговейное
отношение
Эккермана к
личности
Гете,
убежденность
в том, что
каждое слово
Гете полно
глубокого
смысла и
представляет
громадную ценность
для
потомства,
скромность,
отсутствие
собственных
резко
выраженных,
индивидуально
очерченных
суждений,
добросовестное
внимание,
умение
слушать и
запоминать
сделали из
Эккермана
незаменимого
секретаря
Гете, нечто
вроде живого
фонографа
при нем. На протяжении
девяти лет
совместной
литературной
работы
Эккерман был
участником
или
слушателем
множества
бесед, в
которых Гете
высказывался
по самым
различным
поводам и по
самым
разнообразным
вопросам.
Политика,
события и
актуальные
вопросы
современности,
история,
естествознание,
философия,
искусство,
театр,
поэзия все
это темы
«Разговоров» Эккермана.
С
исключительной
добросовестностью
Эккерман
превращается
весь в слух, весь
в орган
внимания и
памяти. Есть
что-то трогательное
в любви,
которая
сделала для
него возможной
такую
степень
самоотречения.
В записях
Эккермана
стушевывается
сам их автор,
слышен
только
олимпийский
голос Гете. Изредка
промелькнет
робкое
возражение,
слабая попытка
заявить свое
мнение лишь
для того,
чтобы тотчас
же быть
уничтоженной
могучей
диалектикой
великого
собеседника.
«Объективность»
книги
Эккермана
еще
повышается
вследствие
способа ее
составления.
Высказывания
Гете
записывались
Эккерманом в большинстве
случаев по
свежему
впечатлению,
непосредственно
после самых
бесед. Если
случайно со
времени
разговора
протекало
несколько
дней,
Эккерман
обычно не
решался
довериться
своей памяти,
и беседа
оставалась
незаписанной.
Соединение
всех этих
достоинств и
недостатков
привело к
созданию
книги
поистине замечательной.
Книга
Эккермана
оказалась
полна
отражений
гетевской
мысли. Читатель
«Разговоров с
Гете» не
только
получает представление
о диапазоне
гетевской
тематики, о
разнообразии
интеллектуальных
интересов и
занятий
автора
«Фауста».
Через
несколько
приглушающую
мембрану до
него доходит
подлинный
голос Гете,
ощущаются
тембр и
интонация его
разнообразной
и
содержательной
речи.
Богатство
материала,
сохраненного
в передаче
Эккермана,
делает
«Разговоры с
Гете» одной из
лучших книг о
великом
немецком
поэте. Особенно
ценны в ней
записи
гетевских
суждений об
искусстве:
живописи,
театре и
поэзии. Ценностью
этой
обусловлена
прочная репутация
книги
Эккермана,
восторженные
отзывы о ней
самых
взыскательных
критиков, например
Ницше.
Со всем
тем записи
Эккермана,
разумеется, не
тождественны
с суждениями
Гете. Специальная
установка на
задачу как
можно точнее отразить
мысль Гете в
соединении с
указанными
уже
достоинствами
вниманием,
памятливостью,
добросовестностью
дали возможность
Эккерману
собрать
материал
гораздо
более
богатый, чем
тот, который
обычно удается
накопить в
подобных
случаях. Но
даже
соединен-
103
ное
действие
всех этих
преимуществ
не могло
обеспечить
его записям
значение
подлинно
адекватного
отражения.
Правда,
Эккерман
уберегся от
.привнесения
ярко субъективных
вставок и от
субъективной
тенденциозности
освещения.
Умаляя себя,
как автора
мемуаров, он
сообщал
своему перу
точность и
послушность
искусного
съемщика копий.
И все же
«Разговоры»
воссоздают
перед читателем
образ всего
лишь
эккермановского
Гете. Ведь
интерпретация
даже
скромной и объективной
посредственности
остается все
же
интерпретацией!
А книга
Эккермана,
несмотря на
весь «дух
смиренномудрия»,
есть, конечно,
интерпретация.
Во-первых,
она не доносит
до сознания
читателя
полного
образа Гете.
Восторженный
любитель
искусства
живописи,
театра и
поэзии,
Эккерман не
мог следовать
за Гете в его
философских
и
естественнонаучных
размышлениях.
Уже сам Гете,
великолепно
ощущавший
границу,
внутри
которой общение
с
собеседником
могло быть
для него плодотворно,
не решался
вводить
Эккермана
дальше, чем в
преддверие
своих
естественнонаучных
и
философских
воззрений. Но
и там, где он
посвящал
Эккермана в
суть своих
мнений, как
это было с
теорией
цветов, с
некоторыми метеорологическими,
геологическими
и биологическими
наблюдениями,
результат не оправдывал
ожиданий.
Во-вторых,
даже в
передаче
суждений по
вопросам
искусства, в
которых
Эккерман мог
почитать
себя стоящим
на высоте
понимания, далеко
не все дошло
до нас в действительно
точном
освещении.
Наивность, посредственность,
филистерское
прекраснодушие
Эккермана
притупляют
многие углы,
сглаживают
остроту
многих
деталей в пересказываемых
афоризмах и
суждениях.
Как ни
ценен
поэтому
запечатленный
Эккерманом
образ
гетевой старости,
обращаться к
Эккерману,
как к источнику,
можно лишь с
известными
предосторожностями.
Необходимым
восполнением
и коррективом
к
«Разговорам»
должны
служить письма
Гете, его
поэтическая
автобиография,
«Годы
странствования»
и вторая
часть «Фауста».
В
настоящей
статье
читателям
предлагается
очерк
мировоззрения
Гете, каким
оно рисуется
по
«Разговорам»
Эккермана. Из
огромного
содержания
книги нами
выделены
основные
грани мысли
Гете: его
взгляды на
историю, политику
и
современность
(гл. IIIII); на
естествознание,
философию и
религию (гл. IV);
на эстетику,
искусство и
поэзию (гл. V).
II.
ПРОДУКТИВНОСТЬ
КАК
ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ПОНЯТИЕ ЖИЗНИ,
ПРАКТИКА И
ТЕОРИЯ
В жизни,
поведении и
мировоззрении
Гете огромную
роль играло
понятие,
которое
стало для
Гете одним из
центральных
образов его
философии и
эстетики, понятие
продуктивности
или
плодотворности.
Как это
всегда
бывает в
истории
мысли, понятие
продуктивности
не было
только
личным достоянием
Гете.
Выдвинутое
им с особенной
силой,
разработанное
в
исключительно
богатом и
разнообразном
содержании,
понятие продуктивности
восходит в то
же время к
строю мыслей,
который
объединял
Гете с
передовыми
теоретиками
и
мыслителями
буржуазного
класса.
Превознесение
производительности
труда и
продуктивности
Гете мог
найти в идеях
физиократов,
натурализироваз-ших
категории капиталистического
земледелия и
в то же время
насыщавших
«натуральные»
категории производительности
земледельческого
труда чисто
буржуазным
капиталистическим
содержанием.
В трудах
французских
физиократов
содержалась разнообразная
философия
про-
104
дуктивности,
в основе
которой
лежало резкое
противопоставление
«непроизводительного
класса»,
«предоставленного
самому себе»,
неспособного
«обеспечить
себе какое бы
то ни было
существование
с помощью
одного
своего
непроизводительного
труда»,
производительному
классу
«земледельцев»,
труд которых
и только он
один воспроизводит
не только те
средства
существования,
которые он
сам
уничтожил, но
также и те, которые
уничтожают
все прочие
потребители.
Но если в
передовых
странах
Европы
философия
продуктивности
выступала
как
сложившаяся
доктрина
политической
экономии, как
буржуазная
пропаганда форм
капиталистической
эксплуатации
земли, как
учение об
исключительной
производительности
капиталистического
земледелия,
то в
отсталой, полуфеодальной
Германии
идеи эти
должны были
принять
извращенную,
соответствующую
извращенному
аполитизму
немецкой
жизни форму
пропаганды
чисто духовной
продуктивности,
производительности
главным
образом
идеологического
труда:
философского,
художественного,
научного. На
место
непосредственных
стремлений
буржуазной
мысли,
направленных
на непосредственный
объект
экономической
деятельности,
здесь должны
были стать
стремления,
ограниченные
лишь
производной
сферой
идеологической
деятельности.
Так сложилось
специфически
немецкое
абстрактно-идеологическое
понимание
продуктивности,
наложившее
характерную
печать на все
теоретическое
развитие
Германии. В
возникновении
этого
понимания
Гете
принадлежит
не только видная,
но в то же
время и
своеобразная
роль.
Понятие
продуктивности
не было для
Гете
отвлеченным
лозунгом или
абстракцией:
оно вытекало
из самых
глубоких
основ его
личности и
его разностороннего
жизненного
опыта. Гете
понимал и
ценил жизнь
прежде всего
как жизнь деятельную,
производительную,
плодотворную,
и этому
пониманию он
не только
остался
верен до последних
дней, но
именно в годы
старости, в эпоху
окончания
второй части
«Фауста»,
«Годов
странствования»
и
автобиографии,
мысль эта
достигла у
Гете
наивысшей
убежденности,
а ее
выражения
особой силы и
внушительности.
Раскрывается
не раз эта
мысль и в
записях
Эккермана.
Поэт,
мыслитель,
ученый, Гете
вкладывает в
понятие
продуктивности
содержание
гораздо
более
широкое и,
если так можно
выразиться,
гораздо
более
жизненное, материалистическое,
чем то,
которого мы
вправе были
бы ожидать от
мастера,
пусть даже гения,
идеологического
труда. «Да, да,
дорогой мой,
говорит он
Эккерману,
не только
тот
продуктивен,
кто пишет
стихи или
драматические
произведения,
есть еще
продуктивность
действенная (Productivitat
der Taten), и во
многих
случаях она
стоит
гораздо выше»
(755756). Так
существует,
по Гете,
продуктивность
политической
деятельности,
и деяния ее представителей
в течение
всей жизни
Гете составляли
предмет его
постоянного
размышления,
изучения и
обсуждения. В
этом смысле
он называл
Наполеона
«одним из
продуктивнейших
людей, какие
когда-либо
жили» (755), а его
наиболее
выдающимися
качествами
считал
никогда не
изменявшие
Наполеону
ясность
мысли,
решимость и
энергию,
достаточные
для
приведения в
действие
всего, что он полагал
выгодным и
необходимым.
Почитая продуктивность
источником
всех
творческих
удач, Гете
избежал
столь
естественной
для старости
преувеличенной
оценки зрелости
и
старческого
опыта.
Напротив,
будучи уже
глубоким
стари-ком, он
утверждает,
что своего
полного
обнаружения
и своих
лучших
результатов
продуктивная
сила
достигает в
человеке
лишь в его
юности и что
надо быть
молодым, чтобы
совершить
великое (см. 757).
Он ошеломляет
Эккермана,
утверждая,
что «
управлению
государством
никог-
105
да не
следовало призывать
людей,
которые
медленно и
спокойно
подвигались
вперед по
лестнице
должностей и
старшинства,
и что, если бы
право назначения
принадлежало
ему, Гете, он
выдвигал бы
на первые
места
молодых
людей, но
талантливых,
вооруженных
ясным умом и
энергией (см. 758).
И в сфере
труда
интеллектуального
продуктивность
остается для
него
решающим
критерием и
исходной
точкой. Он
возвышается
над всей
традицией
немецкого,
слишком
созерцательного
идеализма,
сближая,
почти отождествляя,
понятие
гениальности
с тем же центральным
для него
понятием
продуктивности.
«Ибо что же
такое гений,
замечает он,
как не
продуктивная
сила, которая
создает деяния,
достойные
бога и
природы и
именно поэтому
оставляющие
след и
имеющие
долговечность»
(796). Он
утверждает,
что нет гения
без
«непрерывной»,
от поколения
к поколению
действующей,
продуктивной
силы, и самым
верным
признаком
гениальности
считает
способность
созданных
гением
произведений
быть
непрерывным
импульсом в
последующем
развитии
Печать
такого
продуктивного
гения он
видит в
музыке
Моцарта, в
воздействии
на последующие
поколения
произведений
Фидия и Рафаэля,
Дюрера и
Гольбейна,
строителей
Страсбургского
и Кельнского
соборов (см. 756).
Идея
продуктивности,
здесь
намеченная,
освещает
одну из
важнейших
граней
мировоззрения
Гете,
определяет
характерное
для Гете
понимание
отношений
между
практикой и
теорией. В вопросе
этом Гете не
только стоит
в ряду величайших
умов своего
века и своего
народа, но в
некоторых
отношениях
превосходит
даже лучших
из своих
современников.
Понятие продуктивности,
им
выработанное,
полнокровнее,
глубже и
реалистичнее
абстракций
«практического
разума»,
развитых
морализующим
идеализмом
Канта и
Фихте.
Подобно
Фихте, Гете утверждает
первенство
действия над
познанием,
практики над
теорией,
активности
над созерцанием.
Но, в отличие
от Канта и
Фихте,
«перводеяние»
Гете * есть не
замкнутая в
субъективной
сфере
морального
сознания
деятельность
этической
воли,
создающая
только
иллюзии
реального
мира, и
только для
того, чтобы могло
осуществиться
тождество
безусловного
нравственного
долга.
«Перводеяние»
Гете есть
конкретное
обнаружение
объективного
мира и
природы в
плодотворном
действова-нии,
направленном
изнутри
вовне, от
субъекта к
объекту на
умножение,
укрепление,
развитие и
рост жизни.
Практицизм
Гете выходит не
только из
узких рамок
моральной
совести и морального
сознания, он
далеко
выходит за пределы
одной лишь
идеологической
сферы, охватывая
все
главнейшие
проявления
практической
деятельности
человека:
инженерной,
научной,
политической,
педагогической.
В
практической
плодотворности
Гете видит
верховную
цель всякой
науки и
народного
образования.
Над всей
деятельностью
Гете стоит,
завершая ее,
образ Фауста,
который на
склоне жизни
все добытые
своими
страданиями,
заблуждениями,
поражениями
и победами
знания, всю
свою волю и
энергию
приносит на
то, чтобы
практическим
действием
покорить
стихию
власти человека
и создать
лучшие
условия для
процветания
труда и
жизни. В ряде
афоризмов, сохраненных
Эккерманом,
Гете
возвращается
к различным
граням этой
мысли. Он
энергически
восстает
против
обременения
молодежи, обучающейся
в германских
университетах,
множеством
теоретических
знаний,
которые остаются
впоследствии
без
практическою
применения и
забываются,
как ненужные
(см. 773). Он осуждает
чрезмерный
рост
теоретического,
абстрактного,
кабинетного,
далекого от
жизни и от ее
требований
образования.
«Если бы нам...
внушали
меньше
философии и
больше
энергии, на-
106
смешливо
говорит он
Эккерману,
меньше теории
и больше
практики, то
искупление в
значительной
части уже
было, бы совершено,
и нам не было
бы
необходимости
ожидать
явления
такой
высокой
особы, как второй
Христос» (770). Он
осуждает
господствующую
в Германии
университетскую
систему, которая,
не учитывая
происшедшего
разделения
наук, их
обособления
и роста,
требует от студентов
трудного и
практически
бесполезного
изучения
сразу многих
предметов, во
всем их
содержании
(см. 206). В
специализации
и самоограничении,
в
сосредоточении
сил на практическом
овладении
какой-нибудь
одной
отраслью он
видит
условие
научного
мастерства и
научной
продуктивности,
ничуть не
менее
необходимое,
чем то
самоограничение,
в котором
обычно видят
условие
мастерства
художественного.
Возможность
практического
применения кажется
ему
настолько
важным
условием всякого
научного
исследования
и развития,
что этой
возможностью,
по его
мнению, следует
определить,
какие истины
подлежат
вообще
сообщению и
обнародованию:
«...высокие принципы,
утверждает
он, следует
высказыватъ
лишь в том
случае, егли
слта полезны
для мира.
Некоторые из
них следует
держать про
себя...» (286). В
практике он
видит не
только критерий
ценности
научного
знания, но
также и
источник
самого его
возникновения.
В связи с
этим одно из
основных
положений
Гете, сохраненное
в передаче
Эккермана,
гласит, что
изучение
может быть
подлинно плодотворным
только при
условии, если
оно есть
одновременно
и
самостоятельное
исследование,
испытание
истины, ее
практическая
проверка и
практическое
усвоение. По
Гете, всякое
изучение ex auditu, с
чужих слов,
не сопровождаемое
практическим
испытанием
изучаемого,
будет
недостаточным
и
безрезультатным:
«...относительно
тех вещей,
говорит он Эккерману,
которыми
человек не
овладел при помощи
своих
собственных
деятельных
усилий, он
может иметь
лишь
поверхностное
и неполное
знание» (658).
Убеждение
во всеопределяющем
значении
производительной
практики
опирается у
Гете на
глубокую и
крепкую
уверенность
его в том, что
человека,
осознавшего
свои
действительные,
т. е. лежащие в пределах
реально
достижимого,
задачи, активность,
воодушевляемая
этим
сознанием, необходимо
приводит к
победе, к
успешному
завершению и
осуществлению
этих задач.
Через все разговоры
Гете с
Эккерманом
проходит, как
всегда
ощутимый фон
или
тональность,
убеждение в
пластической,
изменяющей
мир силе воодушевленной
деятельности,
поскольку она,
разумеется,
направлена
на реальные,
самим содержанием
жизни
подсказанные
и подготовленные
цели. В одном
месте он
говорит, что
«трудно
поверить»,
что в
подобных
случаях может
сделать
хорошо
направленная
нравственная
воля. «Она,
разъясняет
Гете, как бы
проникает
собою все
тело и
приводит его
в активное
состояние, не
допускающее
никаких вредных
влияний» (450).
Наша
советская
современность,
с
характерным
для нее и
столь
плодотворным
принципом
недоверия к
ссылкам на
так называемые
«объективные»
препятствия
и причины, за
которыми во
многих
случаях
скрывается
недостаток
субъективной
выдержки, воли,
решимости и
стремления к
победе, должна
высоко
оценить
практический
«волюнтаризм»
Гете, его
убеждение в
том, что
человек бодрым
духом
побеждает
труднейшие
препятствия. В
самой основе
немецкого
выражения
«дух» (Geist) Гете
усматривает
заложенное
во внутренней
форме этого
слова
понятие
продуктивности,
отсутствующее
во
французском
понятии esprit. И в
соответствии
с этим, в
одном из
любопытнейших
мест
«Разговоров»,
он определяет
страх, как
«состояние
инертной
слабости и
восприимчивости,
когда любому
врагу легко
овладеть
нами» (450).
107
Понятие
продуктивности
в раскрытом
нами содержании
было для Гете
не только
опорой в его
практическом
опыте и
действовании.
Настолько
велика
конкретная
сила этого
понятия, что
оно становится,
по Гете,
ключом к
познанию
трансцендентных
вещей и
категорий,
недоступных,
вне сферы
плодотворного
действия,
никакому
познавательному
в них
проникновению.
Только
понятие
продуктивности
сообщает этим
категориям
конкретное
значение,
превращает
их из
бесплодных
мистических
абстракций
если не в
самое
реальность,
то по крайней
мере, в живые
и конкретные
метафоры
каких-то реальных
вещей и
отношений.
Так, понятие
продуктивности
и только
одно оно
сообщает, по
Гете,
реальный
смысл идее
бессмертия,
которая, если
рассматривать
ее
независимо
от этого
понятия,
казалась
Гете пустой
мечтой, не
имеющей
никакого
реального
смысла и никакого
обоснования.
Ненавидевший
всякую болтовню
о
трансцендентном,
порвавший
из-за «расслабляющего
мистицизма»
связи с
Лафатером, некогда
одним из
ближайших
своих друзей
(см. 781), Гете
утверждал,
что «носиться
с идеями бессмертия
это занятие
для
благородных
сословий и
особенно для
женщин,
которым
нечего
делать» (215).
Напротив,
«дельный человек,
который уже
здесь на
земле хочет
быть хорошим
работником и
поэтому
принужден добиваться,
бороться,
действовать
оставляет
будущую
жизнь в
покое; он
деятелен и
полезен в
этой жизни» (215).
Он бросает
глубоко верную
мысль,
говоря, что
думы о
бессмертии
годны для
тех, кому не
посчастливилось
в настоящей
жизни, и что
готов биться
об заклад,
что, изменись
к лучшему
жизнь людей,
им не
пришлось бы
предаваться
этим
бесплодным
думам *. В этих
убеждениях
Гете черпал
силу и
мужество,
помогавшее
достойно
встретить
удары,
выпадавшие
ему на долю,
когда смерть
уносила
близких ему
родных и
друзей. Известие
о смерти его
друга
великого
герцога
веймарского,
известие о
внезапной
смерти его
сына во время
путешествия
по Италии, смерть
великой
герцогини
были для него
не только
горестными
событиями,
приобщавшими
его к
величайшей
человеческой
печали, но в то
же время
воспринимались
им, как
призывы к
дальнейшему
продолжению
и развитию
собственной
деятельности.
Отсюда эти
столь поражающие
читателей,
могущие в
глазах несведующих
сойти даже за
холодное
равнодушие и
за эгоизм,
спокойствие
и твердость,
с какими Гете
отзывался на
подобные
события, а
такжепочти
естественная
и
непроизвольная
легкость, с
какою он
отклонял
всякое
длительное переживание,
всякую
длительную
внутреннюю
остановку на
них, могущую
нарушить
продуктивную
энергию и
производительную
направленность
его работы.
Так, получив
известие о смерти
герцога, он
уезжает из
Веймара в
Дорнбург,
чтобы
«восстановить
душевное
равновесие
энергичной
работой в
новой
обстановке» (384).
В день смерти
великой
герцогини,
уже получив
известие о
случившемся,
он
приветствует
изумленного
Сорэ,
оживленный,
едва ли не веселый,
следующими
словами:
«Удар,
который давно
уже нам
угрожал,
наконец
разразился... так
или иначе
надо опять
приспособляться
к жизни... Пока
еще не
кончился
день, будем высоко
держать
голову» (802).
Вскоре после
смерти сына
он пишет
своему другу
Цельтеру
письмо, в
котором
воспоминание
о событии
завершается
характерным
восклицанием:
«Вперед!.. Вперед
по могилам!».
Продуктивность,
деятельность
были для Гете
не только простым
средством
утешения, не
только
возвышающим
над мыслью о
смерти
наркозом: в
его глазах
продуктивная
энергия
работы
превращалась
в силу,
побеждающую
самое смерть,
сообщающую
жизни
человека,
проходящей
под знаменем
неустанного
производительного
труда, род
бессмертия
или вечности.
Отсюда его
замечательное,
во многом
чрезвы-
108
чайно
близкое к
мыслям
Спинозы
убеждение в
относительном
бессмертии
индивида.
«Для меня,
говорил он
Эккерману,
убеждение в
нашем будущем
существовании
возникает из
понятия
деятельности;
ибо, если я
неустанно
действую до
конца моей
жизни, то
природа
обязана дать
мне иную
форму
существования,
когда эта
теперешняя
уже не будет
в силах более
удерживать
мой дух» (417) *. В
этом же
смысле он
говорил в
день похорон
Виланда, что
никогда и ни
при каких
обстоятельствах
в природе не
может быть и
речи об
уничтожении
таких высоких
душевных сил;
природа
никогда не расточает
так своих
сокровищ.
Рассматривая
«бессмертие»
не как
априорное
свойство
человека, но
скорее как
результат
той продуктивной
деятельности,
какую
способен
развить
индивид,
Гете,
естественно,
должен был
отрицать
абсолютный
метафизический
смысл бессмертия.
Он
утверждает,
что
бессмертие не
дан о нам, но
задано нам,
как задача,
подлежащая
преодолению
в
практическом
действовании,
что
существуют
различные
степени бессмертия,
строго
соответствующие
итогу жизни,
т. е. энергии,
силе, высоте,
чистоте и
непрерывности
производительной
деятельности
индивида. «Я
не
сомневаюсь в
продолжении
нашего существования,
говорит он
Эккерману,
так как
природа не
может
обойтись без
энтелехии. Но
не все мы
бессмертны в
одинаковой
мере (aber wir sind nicht auf gleiche Weise
unsterblich), и кто хочет
в грядущем
проявить себя,
как великую
энтелехию,
должен уже теперь
быть ею» (474). В
этом же
смысле он
утверждал,
что
существует
известная
иерархия душ или
монад, т. е.
первичных
элементов
всех существ,
а также всех
явлений
природы, что
все монады по
природе
своей
неразрушимы,
что деятельность
их в момент
смерти не
прекращается
и что для
степени
бессмертия,
на какую
вправе
рассчитывать
индивид, громадное
значение
имеет, будет
ли то монада образованной
человеческой
души или монада
бобра, птицы
или рыбы.
Вопросы
бессмертия
далеко не
были для Гете
единственными,
в которых
понятие
продуктивности
оказывалось ключом
к разрешению
задач,
трансцендентных
во всякой
иной
постановке.
То же понятие
продуктивности
выступает у
Гете, и это в высшей
степени
характерно
для его
взглядов на
познание
как критерий
подлинности
в вопросах
истории и
исторической
критики.
Исторические
памятники и
продукты
религиозные, художественные,
литературные
представляют
для него
интерес не
столько в
разрезе вопроса
об их
подлинности
или вопроса о
порядке их
действительного
происхождения,
сколько с
точки зрения
их
актуальной,
оплодотворяющей
по отношению
к настоящему
силы. В соответствии
с этим
подлинным он
считал «прекрасное,
что
находится в
гармонии с
чистейшей
природой и
разумом и еще
в наши дни
способствует
нашему
высшему
развитию», н
е-подлинным
же все
«абсурдное,
бессодержательное
и глупое, не
приносящее
плода, по
крайней мере,
доброго
плода» (847). По
отношению к
этому центральному
для него
вопросу об
актуальном значении
исторических
документов
все чисто
академические
вопросы и
споры относительно
их
возникновения,
образования
и
достоверности
казались ему
в высшей степени
странными
(см. 847),
граничащими
с пустым педантством
и даже
варварством
независимо
от того,
подвергалась
ли сомнению
подлинность
гомеровских
поэм, или
канон библейских
книг, или
легенд
старонемецкого
средневековья.
На
первый,
поверхностный
взгляд могло
бы показаться,
что все эти
представления
Гете о
решающем,
жизненном и
теоретическом,
значении
продуктивности
и
производительной
активности
представляют
собой
109
род прагматизма,
т. е. теории
узкоутилитарного
понимания
истины,
игнорирующего
ее предметные
основания и
ее
объективную
значимость. На
деле
«практицизм»
Гете,
нашедший
наиболее
сосредоточенное
выражение в
том значении,
какое для
него
получило
представление
о продуктивности,
весьма далек
от
прагматического
нигилизма. И
если в ряде
афоризмов и
замечаний
Гете
неоднократно
повторял, что
ценность
знания и
изучения
измеряется
его способностью
оплодотворять
практическое
действие, то
одновременно
и с не
меньшей настойчивостью
он утверждал,
что подлинно
полезным, практически
значимым
может быть
лишь выдающееся,
т. е. полезное
в смысле
объективном (см.
291). Истина и,
соотносительно,
заблуждение не
были для него
всего лишь
относительными
продуктами
или
функциями
субъективной
заинтересованности.
Поэтому
борьба с заблуждением
была для него
в течение
всей его долгой
жизни
действием,
вытекающим
из самой
глубокой
сути его
натуры, в
котором он не
знал ни
пощады, ни
усталости.
Только
глубокой
убежденностью
в
объективной
истинности его
теории
цветов могла
быть
поддерживаема
не
изменившая
ему до гроба
страстность,
неутомимость
и даже
нетерпимость,
с какими он
защищал это
свое учение
против
могучего
авторитета
Ньютона и
против
всеобщего отрицательного
отношения
громадного
большинства
современных
натуралистов.
И только
глубокой
уверенностью
в
объективном,
в природе самой
реальности
коренящемся
значении научной
истины могли
быть
продиктованы
горестные и
даже
негодующие
замечания, в
которых он
осуждает
характерное
для
современных
немецких ученых
равнодушие к
предметной
истине, к действительной
природе
предмета их
цеховых
споров.
Высокая
оценка
объективного
смысла знания
неоднократно
находила
себе
признание и
выражение не
только в его
суждениях об
истине, но и в
делах,
направленных
на ее добычу.
Разъясняя
Эккерману
источник
своего интереса
к
минералогии,
науке,
которой Гете с
увлечением
занимался в
течение ряда
десятилетий,
он не
ограничивается
указанием на
ее «большую
практическую
полезность»,
но тут же
отмечает
значение,
какое эта
наука должна
получить в
чисто
теоретическом
вопросе об
образовании
и
геологическом
развитии
Земли (см. 354). В
другой раз,
рассказывая
Эккерману об
изменениях и
улучшениях,
которые он
ввел в
различных
отраслях
преподавания
в Иенском
университете,
он отмечает,
как свою
заслугу,
учреждение
особых
кафедр теоретической
химии,
минералогии
и ботаники, которые
дотоле
изучались в
узкоутилитарном,
прагматическом
разрезе,
единственно
ради связи с
практически
важной
формацией (815).
В свете
этой высокой
оценки
теоретических
принципов и
теоретического
содержания
знания
должны быть
понимаемы
воодушевлявшие
Гете в
течение всей
его жизни
практические
интересы.
Дневник
Эккермана
дает множество
штрихов и
зарисовок,
отражающих
сознательную
и
руководимую
глубоким
теоретическим
воззрением,
практическую
целеустремленность
Гете. Даже в
годы
глубокой
старости он
сохранил в
полной
свежести
живой
интерес ко
всем практическим
силам,
действующим
в мире и изменяющим
на пользу
человека его
лицо. Первый
поэт
Германии,
гениальный
лирик, автор
«Дивана» и
«Трилогии
страсти», он с
живейшим
интересом
изучает
технические
проблемы,
занимающие
умы самых
смелых,
передовых и
дальновидных
инженеров,
натуралистов,
экономистов
и политиков
его времени.
Более того. B
ряде
вопросов он
выступает
сам в
качестве смелого
инициатора
новых идеи и
проектов. Он
беседует с
принцем
Евгением
Наполеоном о
сооружении
канала,
который
должен
соединить Рейн
с Дунаем (222).
Спустя три
года после
беседы с
Эккерманом
об этом
110
же
предприятии,
которое он
называет
грандиозным,
он возвращается
к этой теме и
высказывает
желание
дожить до
открытия
сообщения
между обеими
великими
немецкими
реками.
Чтение книги
Александра
Гумбольдта о
Кубе и Колумбии
сосредоточивает
все его
внимание на
проекте
Панамского
канала,
осуществление
которого должно,
как он
надеялся,
иметь
«неисчислимые
результаты
для всего
цивилизованного
и нецивилизованного
человечества»
(684). Он утверждает,
что с
развитием
экспансии
Соединенных
Штатов,
надвигавшейся
в начале XIX
века на западные
области
Северной
Америки, и с основанием
новых
удобных
гаваней на
побережье
Тихого
океана
прорытие
Панамского канала
станет
настоятельной
экономической
и
политической
необходимостью
для Соединенных
Штатов (см. 684685).
Он
высказывает
пожелание
дожить до
сооружения
англичанами
канала через
Суэц и
говорит, что
из-за одной
любви к осуществлению
всех этих
трех
замечательных
задач «стоило
бы
претерпеть
еще каких-нибудь
пятьдесят
лет жизни» (685).
Однажды
Эккерман
застает его
погруженным
в изучение
карт, планов
и чертежей
проектируемой
Бременской
гавани (см. 419), в
другой раз
за изучением планов
лондонского
тоннеля. Тот
же Эккерман
рассказывает,
как Гете
вместе с
архитектором
Кудрэ
обсуждал
вопросы
техники сооружения
шоссейных
дорог в
холмистых и
плоских
местностях
(см. 439440). Он
подробно и с
величайшим
увлечением
оценивал
выгоды и
невыгоды
построения
Петербурга в
периодически
затопляемом
низменном
устье Невы и
строго
осуждал с
чисто
технической
точки зрения
выбор Петра,
в разговоре
по поводу
катастрофического
наводнения 1824
года (см. 255), а
также в
беседе по
поводу книги
Сегюра о Петре
I (см. 467468).
Не
следует
думать, будто
его
практический
интерес
направлен
только на
исполинские проекты
и
предприятия
международного
и государственного
значения. Как
всякий гений
практического
действия, он
с равной
степенью
внимания
охватывает в
своей мысли и
великое,
ожидающее
своего
осуществления
лишь в
будущих
десятилетиях,
и малое,
представляемое
текущей жизнью
и
повседневностью.
Он не только
участвует в
обсуждении
проекта
нового
театра в Веймаре
взамен
сгоревшего,
но также
входит в детали
планов и
чертежей,
изготовленных
Шинкелем для
плотников
(см. 440), или же
собственноручно
рисует
карнизы для
веймарского
дворца (см. 423).
Как для
всякой
действенной
натуры, для
Гете каждая
сфера
культурного
опыта
представляла
интерес или
значение лишь
в той мере, в
какой он мог
сам
выступать в ней
как
деятельная и
действующая
сила. Он, положивший
столько
энергии на
создание и развитие
веймарского
театра, автор
ряда драматических
произведений,
признался
как-то Эккерману,
что
настоящий
интерес к
театру он
питал «только
до тех пор...
пока мог на
него практически
влиять» как
директор,
руководитель
и
воспитатель
актерского
коллектива (293).
Зато в деле,
за которое он
практически
принимался, в
котором он
оказывался
источником и
центром
практических
действий и
решений, он
не только
проявлял
настойчивость,
неоскудевавшую
энергию в
осуществлении
цели,
находчивость,
но также
несвойственную
ему в других
случаях
готовность на
все средства,
вплоть до
прямого
физического
столкновения
или захвата.
Одобряя
смелость и даже
дерзость в
практических
предприятиях,
он с
восхищением
рассказывает
Эккерману историю
солепромышленника,
возобновляющего
с большим
риском и в
трудных
условиях шахту
после обвала
(см. 486487).
Бесстрашно
приветствуя
всякое
начинание,
сулившее
возможность
111
плодотворной
деятельности,
каким бы грандиозным,
трудным,
неисполнимым
оно ни казалось,
Гете холодно
и равнодушно
отворачивается
от всех
проектов и
предприятий,
казавшихся
ему
непродуктивными,
т. е. неисполнимыми,
несоответствующими
условиям практической
деятельности
и
практической
жизни.
Напротив,
всякое
деяние,
лежащее в
пределах
практически
исполнимого,
вызывало его
благосклонное
сочувствие и
внимание,
даже в тех
случаях,
когда
импульсы и
силы действующих
людей
направлялись
на цели,
несколько
ему чуждые
или даже им
прямо
осуждавшиеся.
Так, осуждая
Сен-Симона и
его
сторонников
за утопичность,
он в то же
время
восхищался
личностью и
деятельностью
Дюмона,
ученика ненавистного
Гете,
«высокорадикального,
как он его
называет,
болвана»
Иеремии
Бентама, восхваляя
характерную
для Дюмона
«практически-полезную»
тенденцию
(см. 792). Из этого
стремления к
деятельности
возникал
свойственный
ему и выгодно
отличающий
его от множества
гораздо
более
молодых
современников
живой, редко
угасавший и
всегда вновь
возобновлявшийся
интерес к
современности,
к современной
политической
жизни и
истории. Даже
в годы
старости
этот
«олимпиец»,
как его
прозвали
люди,
осуждавшие в
нем тенденцию
оставаться
выше события
и злобы дня,
постоянно
долгие часы и
дни проводил
в чтении газет,
в изучении
исторических
исследований
и мемуаров, а
еще большев
живом и
глубоком размышлении
и в
обсуждении
событий,
волновавших
и
привлекавших
его
сознательных
современников.
Вот он
просматривает
английские
газеты,
прочитывая
вслух
некоторые
места, особенно
относящиеся
к греческому
восстанию
(см. 175); в другой
раз мы видим
его за
чтением французских
газет,
погруженным
в изучение
хода войны
французов с
Испанией (см. 210).
В 1826 году,
семидесяти
шести лет от
роду, он
становится
одним из
самых
ревностных
читателей и
почитателей
французской
буржуазной
газеты «Le Globe»,
объединившей
на своих столбцах
таких
деятелей, как
Пьер Дюбуа,
Гизо, Пьер
Леру, Виктор
Гюго,
Сент-Бев. Он
посвящает
каждый вечер
несколько
часов на
изучение
присланного
ему
комплекта за
прошлые два
года,
отмечает,
отчеркивает,
делает
выписки и
даже частями
переводит
(см. 865866).
В одной
из самых
любопытных
своих бесед с
Эккерманом
он подробно
разъясняет,
какое громадное
положительное
значение
имел в его
жизни
исторический
опыт, который
ему пришлось
не изучать
академически,
из холодного
и
равнодушного
исторического
далека, но
пережить в
его
конкретной
реальности в
качестве
живого
наблюдателя
и деятельного
современника.
«У меня
громадное
преимущество,
благодаря
тому, что я
родился в
такую эпоху,
когда имели
место
величайшие
мировые события,
и они не
прекращались
в течение
всей моей
длинной
жизни, так
что я живой
свидетель
Семилетней
войны,
отпадения
Америки от Англии,
затем
французской
революции и,
наконец, всей
наполеоновской
эпохи, вплоть
до гибели
героя и
последующих
событий» (210211). В пережитом
им
историческом
опыте он
видел и ценил
не только
богатое
содержание
наподобие
того, что
открывается
нашим взорам
при
созерцании
мастерски
исполненных
батальных
картин, но
прежде всего
ту пластическую
силу, с какой
усвоенный и
пережитый им
исторический
опыт
произвел
глубокие изменения
в нем самом, в
результатах
развития его
собственной
личности. Он
говорил, испытав
на самом себе
пластическое
воздействие великих
исторических
событий, что
он «пришел к
совершенно
другим
выводам и
взглядам, чем
это доступно
другим,
которые
сейчас только
родились и
которые
должны
усваивать эти
великие
события из
непонятных
им книг» (211).
112
Ценя в
истории и в
историческом
прошлом не
столько их
абстрактное
объективное
содержание,
сколько
присущую им
способность
деятельно
влиять на
настоящее и даже
изменять его,
Гете, как и
следовало
ожидать,
ценил
историю
современную.
Любитель и
знаток
антиков,
прославленный
ценитель сокровищ
и памятников
искусства
древних
Греции и Рима,
поэт-классик,
автор
классической
«Вальпургиевой
ночи» и «Елены»,
он придавал
современной
истории
гораздо
больше
значения и
цены, нежели
всем
преданиям и
достопримечательностям
античной
древности.
Тот же
глубокий
импульс,
который
заставил
Гете силой поэтической
фантазии
вызвать
образ гомеровской
Елены из
царства
Персефоны и
перенести ее
через
магический
кристалл
тысячелетий
к
современному
герою для
утоления его,
столь
человеческих
и только для
человека
нового времени
понятных,
стремлений,
побуждал Гете
к живому
предпочтению
современной
актуальной
истории
самым
прославленным
событиям и
свершениям
прошлых лет.
Он находит, что
римская
история для
нас уже не ко
времени: «Мы
стали
чересчур
гуманными, и
нам претят
триумфы
Цезаря» (249). Не
больше
утешительного
представляет,
по его
мнению, и
греческая
история с ее
раздроблением
государств и
вечными
усобицами,
где грек
обращает
оружие против
грека (см. 249). Он
утверждает,
что
современная
история не
только не
уступает по
значению
древней, но
даже
значительно
превосходит
ее по величию
исторических
сил, приводимых
в движение
современным
развитием, по
драматической
грандиозности
самых
конфликтов и
внешних
событий. «...
История нашей
современности,
говорит он
Эккерману, обладает
безусловно
величием и
значением. Битвы
при Лейпциге
и Ватерлоо
такие колоссальные
события, что
греческие
сражения при
Марафоне и
тому
подобные
перед ними
совершенно
тускнеют. К
тому же наши
отдельные герои
не уступают
античным:
французские
маршалы и
Блюхер и
Веллингтон
могут быть
смело поставлены
рядом с
древними
героями» (249).
Но
проницательность
всех этих
суждений не
ограничивается
вопросами
одной лишь сравнительной
оценки
события
исторического
прошлого и
событий
современных.
Для деятельной
натуры Гете,
всеми
корнями
жизни и
творчества
глубоко
погруженного
в
действительность,
современность
и
современная
история являются
не только
более
достойным и
плодотворным
объектом
изучения.
Живая и
сознательная
ориентация в
событиях и
явлениях
современности,
и только она
одна, дает, по
мысли Гете,
ключ к пониманию
далеких и вне
такой
ориентации вполне
чуждых нам и
непонятных
событий прошлого.
Так, по Гете,
только
наполеоновские
войны
«раскрыли
смысл
военных
подвигов Цезаря»,
и до того
«книга Цезаря
представляла
лишь
упражнение
для школьной
учености» (326).
III.
ИСТОРИЯ,
ПОЛИТИКА,
СОВРЕМЕННОСТЬ
Понятие
продуктивности,
значение
которого для
жизни и
работы Гете
мы
характеризовали
в предыдущей
главе, будучи
центральным
в
субъективном
сознании и
субъективном
опыте Гете,
доводит нас
все же только
до порога его
мировоззрения.
Хотя для
самого Гете
понятие это
было вполне
конкретным
символом, раскрывавшим
реальнейшую,
как ему
казалось, основу,
форму и
образец его
многосторонней
деятельности,
на деле это
понятие, при
всей своей
наполненности
живым и
реальным смыслом,
является еще
слишком
абстрактным
и, главное,
слишком
формальным,
телеологическим.
Как бы ни
была высока и
содержательна
гетевская
идея
продуктивности,
требующая, чтобы
всякое
113
человеческое
предприятие
и начинание
были прежде
всего
плодотворными,
исходили из
живого и
реального
центра нашей
активности,
мобилизовали
и сосредоточивали
бы вокруг
себя все
подлинно
деятельные
силы нашего
существа,
идея эта, в
том значении,
которое было
раскрыто
выше, оставляет
совершенно
открытым и
невыясненным
вопрос о
содержании и
о
социально-исторической
направленности
деятельности
Гете. Для современного
советского
читателя
совершенно
недостаточно
получить
некоторое, пусть
конкретное,
представление
об изумительном
формальном соответствии,
в каком
внешние цели
и задачи
многосторонней
активности
Гете всегда совпадали
у него с
внутренним
порывом к максимально
плодотворному,
совершенному
и деятельному
обнаружению.
Каково
содержание
этой, столь
совершенной
с формально
телеологической
точки зрения
деятельности?
Орудием каких
социально-исторических
сил был этот
гений, в
какой
социально-исторической
почве нашел
он как бы
свободную и
естественную
основу, из
которой, как
из
внутреннего
ядра, возникали
волновавшие
его и
составлявшие
предмет его
изумительно
плодотворной
дятельности
задачи и
замыслы?
Исследователи
жизни и
мировоззрения
Гете,
увлекшись
впечатлением
необычайной
непосредственности,
как бы
стихийной
непроизвольности
и
естественной
логики всех его
деяний,
вырастающих
из собственных,
спонтанных
недр его
личности, не
раз ошибочно
отождествляли
эту верность
самому себе,
искренность
и
органичность
с объективным
отсутствием
противоречий,
с «аполлоновскои»
цельностью и
монолитностью
самого
гетевского
мировоззрения.
Так сложилось
распространенное
представление
о
необычайной
якобы
гармоничности
Гете, о
характерной
якобы для
него свободе
его
мировоззрения
от надламывающих
единство
противоречий.
Представление
это явно
ошибочно и
несостоятельно.
В
представлении
этом верно
только одно:
оно правильно
подмечает
глубокое
соответствие
и подлинно
гармоническое
отношение
между
личностью
Гете и его
поведением.
Гете действительно
всю жизнь
делал лишь
соответственное
тому, чем он
был. Никакими
средствами и
ухищрениями
нельзя было
вызвать его на
действие, не
вытекавшее
из
внутренних
основ его личности,
не
совпадающее
с
направлением
его собственного
развития, на
действие
«наигранное»,
навязанное
ему извне.
Но из
того, что он
всегда
казался лишь
тем, чем на
деле был, и
никогда! не
выходил из
собственных
границ, не
изменял
самому себе,
отнюдь не
следует,
будто в
недрах его
собственного
«я» не было
никаких
противоречий.
Напротив, они
были и, в меру
исполинских
размеров его
роста и
значения, они
повторялись
и отражались
в его
поведении и
сознании в
пропорциях как
бы еще
больших,
сложившихся
в образ полный
внутреннего
раздвоения и
неразрешимых
конфликтов.
Основной
стержень
этих
противоречий
проходит
через ядро
его
социально-исторических
и
политических
действований
и воззрений.
И в этом нет
ничего
странного.
Его деятельная,
к одной лишь
продуктивности
стремившаяся
натура
вынуждена
была на каждом
шагу, в самых
заветнейших
своих
мечтаниях и
замыслах,
упираться в
границы,
натыкаться
на
препятствия,
которые
воздвигала
перед ним не
злая или
недостаточно
просвещенная
воля
отдельных
лиц, но весь
веками
сложившийся
социально-исторический
уклад
Германии, бессильной
еще сбросить
с себя ржавые
оковы
феодализма.
Гете,
размышлявший,
как мы видели,
над
величайшими
и
актуальнейшими
вопросам
мировой
техники,
экономики и
политики, страстно
мечтавший о
множестве
предприятий,
невозможных
не только в
рамках
феодального,
но даже и в»
114
рамках
буржуазного
общества,
возможных только
для членов
общества
социалистического,
жил, волею
судеб, в
стране, где
феодальная
система,
осложненная
чудовищной
абсолютистикой,
бюрократической
и
полицейской
надстройкой,
цепко еще держалась
в земле
своими
прогнившими
корнями.
Раздробленная
на множество
мельчайших
политических
единиц,
управлявшихся
полуварварскими
абсолютистскими
дворами, пытавшимися
сочетать
выгоды
старинного
крепостничества
с внешним
лоском
французской
феодальной культуры.
Германия
была лишена
экономических
и
социально-политических
предпосылок,
необходимых
для того,
чтобы
поднять страну
хотя бы до
уровня жизни,
завоеванного
и созданного
на Западе в
Англии,
Голландии и
Франции буржуазными
революциями.
Германия
времен Гете,
даже в годы
гетевской
старости,
имевшей позади
себя подъем и
возбуждение
'буржуазных
национальных
сил эпохи
наполеоновской
экспансии,
была еще
лишена
социальных сил,
которые
могли бы
осуществить
освобождение
страны от
стеснительных,
слишком
долго задержавшихся
пережитков
феодализма.
Система
феодальных
таможенных и
политических
барьеров,
отделявших
друг от друга
непроницаемыми
перегородками
крохотные смежные
владения, города,
княжества и
королевства,
невероятно
тормозила
торговое,
промышленное
и политическое
.развитие
немецкой
буржуазии. Немощная
экономически,
бесправная
политически,
немецкая
буржуазия
была лишена
сколько-нибудь
отчетливого
сознания
своего классового
общенационального
единства,
общности
своих торгово-промышленных
и
политических
интересов.
Политические
горизонты ее
представителей
редко
возвышались
над низким уровнем
чисто
местных,
локальных
интересов.
Децентрализация
политической
жизни и развития
имела следствием
децентрализацию
народного
образования,
в том числе и
высшего,
чрезвычайно выросшего
во второй
половине XVIII
столетия. Возникшие
в
большинстве
еще в средние
века в
многочисленных
локальных
центрах Германии
университеты,
не
стесняемые и
не ограниченные
единым
планом и
единым
уставом,
привлекали в
свои стены
многочисленные
кадры более
обеспеченной
молодежи,
перед
которой, за
вычетом
военной
службы и
чиновной
карьеры, были
закрыты все
иные пути
приложения бродивших
в избытке
практических
сил и способностей.
В этой
обстановке
интеллектуальное
развитие
нации должно
было
необходимо
принять
одностороннее
и даже в
известной
мере извращенное
направление.
Интенсивная
интеллектуальная
работа,
кипевшая в
университетах,
в
литературных,
художественных
и научных кругах,
имела по
преимуществу
идеологический
характер.
Блестящее
развитие
немецкой поэзии,
прозы,
истории,
филологии,
исторической
критики,
эстетики и
истории
искусств, философии
и теологии
склоняло умы
людей, прошедших
через эту
школу и
ограниченных
в своих
практических
порывах и в
своем
практическом
действии
одною лишь
идеологической
сферой, к
убеждению,
будто
духовное
бытие, интеллектуальная
практика и
интеллекутальное
развитие
есть
квинтэссенция
и даже первоисточник
всякого
бытия и
всякой практики.
Поскольку
эта
деятельная,
объективно
шедшая в гору
буржуазия
была
способна
дать себе
некоторый
отчет в
принципах
своего бытия,
она, устами
своих
философов и
идеологов,
вроде Канта и
Фихте,
провозглашала
первенство
практики над
теорией,
разума
практического
над разумом
теоретическим.
Поскольку же
действия,
разрешенные
немецкой
буржуазии ее
историческими
условиями,
были
действиями ущербными
и неполными,
ограниченными
одной лишь
научной,
философской
и
художественной
сферами,
духовные
вожди
немецкого
народа легко
склонялись к
115
иллюзии,
будто эта их
ограниченность,
составлявшая
несчастье
немецкой
истории, вытекала
из самой
природы
вещей. Отсюда
это, столь
поражающее
современного
наблюдателя,
филистерство
немецкого
буржуазного
идеализма,
характерное
для него
равнодушие и
даже
пренебрежение
к
действительной,
а не только к
идеологической,
практике, к
действительной
политической,
классовой,
общественной,
а не только к
литературной,
академической
борьбе и
деятельности.
Гете,
подобно
другим
крупнейшим
деятелям своего
народа, был
живым
центром всех
этих противоречий.
Гений
продуктивности,
энергии, неутомимый
источник
многообразно
излучавшейся,
глубоко
практической
в своих
основах
деятельности,
он, несмотря
на
исключительно
благоприятные
условия
личной
судьбы, наделившие
его властью
совершать
многое,
обеспечившее
ему
практическую
силу,
вытекавшую
из его
высокого
придворного
и чиновного
положения,
все же
вынужден был
развить свою
личность и
свой высокий
дух по
образу,
контуры которого
подсказывались
ему общим
духом его века.
Известной
гранью
своего
существования
Гете встает
перед нами
как одна из
крупнейших
фигур в
истории
развития
немецкого
буржуазного
самосознания.
Более того. В
ряде вопросов
он благодаря
счастливо
отличавшему
его
прозрению в
сущность
практической
жизни и
деятельности,
а также
благодаря
прилежному
изучению
истории
природы и
общества высоко
возвышается
над своими
современниками.
В его
суждениях об
исторической
жизни
проглядывает
глубокое, во
многом
опережающее
современную
ему
историческую
науку,
прозрение в
отношениях
между
идеологической
деятельностью
и ее
исторической
основой. Так,
он предлагает
удивляться
не столько
древнегреческим
трагедиям,
сколько «той
эпохе и той
нации,
которые
сделали их
возможными» (714).
Он замечает,
что не только
на всех
поэтических
и
пластических
произведениях
искусства
древних
греков, но
также и на
произведениях
их философов,
риторов и
историков
лежит
некоторый
общий
отпечаток,
присущий всем
им характер
здоровья,
человеческого
совершенства,
высокой
житейской
мудрости, обусловленный
не
свойствами
или
талантами
отдельных
лиц, но
вытекающий
необходимо
из свойств греческого
народа той
исторической
эпохи, когда
произведения
эти были
созданы (см. 714715).
По поводу
Данте он,
ценивший
личную одаренность
так высоко,
что, по его
словам, «в
искусстве и
поэзии
личность это
все» (551), замечает,
однако, что
Данте нам
кажется
столь великим
оттого, что
«имеет за
собой
культуру
столетий» (406).
Величие
английского
поэта Бернса,
а также тайну
необычайной
популярности
его песен,
проникших в
народ,
подхваченных
жнецами и
косарями, он
усматривает
в том, что
Бернс
опирался на
большую
культурно-историческую
традицию, что
старые песни
его
предшественников
жили в устах
народа, что
они пелись у
колыбели
Бернса, что
ребенком он
вырос на них
и что, таким
образом, у
него было
живое
основание, на
котором он
мог
создавать
дальше (см. 715).
Он разъясняет
Эккерману,
что
появление
такого поэта,
как Беранже,
возможно
только во
Франции, где,
в силу
своеобразных
условий ее
истории,
культурное
развитие
нации концентрировалось
не только в
школах и
университетах,
но издавна
проникло в
широкие слои
буржуазии и
мелкой
буржуазии,
внеся в них
множество
идей и
основательного
образования
(см. 714). Только
наличием
этих
культурно-исторических
условий
можно
объяснить, по
Гете, каким
образом
песни
Беранже,
потомка бедного
портного,
прошедшего
горестный
путь ученичества
в типографии
и службы в
захудалой
канцелярии,
никогда не
посещавшего
ни классической
школы, ни
университета,
оказались
все же
116
исполненными
зрелого
образования,
высокой и
законченной
культуры
языка, остроумия,
грации и
тончайшей
иронии.
В
необходимом
соответствии
между творчеством
крупного
художника и
историческими
культурными
условиями
развития его
нации Гете
видит не
только
причину
появления крупных
индивидуальных
талантов, но
также и
основание их
успеха и
влияния,
какими они
пользовались
у своего
народа.
Беспримерный
успех и популярность
песен
Беранже он
объясняет не
одними лишь
превосходными
качествами
дарования
этого поэта,
но прежде
всего тем,
что Беранже
«в своих
политических
песнях
оказал своему
народу
благодетельные
услуги» (716), так
как, после
вторжения во
Францию
союзников,
французы
«имели в нем
наилучшего
выразителя своих
угнетенных
чувств» (716).
Настолько
важно было,
по Гете,
наличие
соответствия
между поэтом
и его
социально-исторической
опорой, что
там, где это
соответствие
достигло
подлинной
гармонии, как
в случае с
Беранже,
гармония эта
оправдывала,
в глазах Гете,
ненавистную
ему при всех
других
обстоятельствах,
политическую
тенденцию,
политическую
направленность
поэзии. Он
утверждает,
что при
соответственной
направленности
великий
драматический
писатель
«может достигнуть
того, что
душа его пьес
станет душою
народа» (697), и
что если
политическое
стихотворение
хорошо, то
его
встречают с
энтузиазмом
и нация и
партия (см. 813).
Он не устает
восхищаться
тем же
Беранже,
песни
которого, по
словам Гете,
«ежегодно
дают радость
миллионам
людей» и
«несомненно
доступны для
рабочего
класса» (812).
Напротив,
говоря о
Германии, он
с грустью
отмечает
полное отсутствие
в ней
характерных
для Франции
культурно-исторических
условий,
необходимых
для
осуществления
всенародного
значения
поэзии и
тесной связи
между поэтом
и его
обществом. Он
замечает, что
ни талант, ни
мелко-буружазное
происхождение,
ни такие же
бедственные
условия
развития не
сделали бы из
Беранже
всенародного
политического
поэта, родись
он не во
Франции, в
Париже, а в
Германии в
Иене или в
Веймаре (см. 714).
В силу тех же
условий
немецкой
истории
песни
Бюргера и Фосса,
не
уступающие
по
объективной
силе
дарования
вещам Бернса,
не вошли,
подобно
песням
английского
поэта, в
жизнь, но «написаны
и напечатаны
и стоят в
библиотеках
и таков
вообще
жребий всех
немецких
поэтов» (715).
Сравнительную
незначительность
сюжетов в
драматических
произведениях
Лессинга он
не только не
осуждает с
точки зрения абстрактной
эстетики, но
объясняет и
всецело
оправдывает
эту
незначительность
особыми
историческими
условиями, в
которых Лессингу
пришлось
бороться и
действовать.
«Надо
пожалеть,
говорит он,
необыкновенного
человека,
жившего в
такое жалкое
время, что в
его
распоряжении
не было
лучшего
материала,
чем тот,
который он
обрабатывал
в своих вещах»
(356). По тем же
историческим
основаниям Гете
прощает
Лессингу
столь
несимпатичное
ему вообще
полемическое
направление: «То,
что ему все
время
приходилось
заниматься
полемикой,
говорит он,
тоже
объясняется
недостатками
его времени» (356).
В сжатом суждении
он верно
определяет и
социально-политическую
направленность
лессинговой
полемики,
указывая, что
в «Эмилии
Галотти» копье
Лессинга
«направлено
против
правителей, в
«Натане»
против попов»
(356).
Все эти
частные
проявления
несовершенства
в немецком
поэтическом
развитии,
отсутствие
надлежащей
связи между
писателем и питающей
его
творчество
общественно-исторической
основой Гете
возводит, как
к общей их
первопричине,
к отсталости
немецкого
социально-исторического
развития. «Мы,
немцы, люди
вчерашнего
дня», говорит
он Эккерману,
заканчивая сопоставление
условий
культурного
развития
117
Франции,
Англии и
Германии (715). В
этом
социологическом
тезисе, а не в
отвлеченных
принципах
чисто
эстетической,
формалистической
и
антиисторической
критики, он
находит ключ
к пониманию
художественных
недостатков
ранних
трагедий
Шиллера. Он
говорит, что
трагедии эти
являются
скорее
выражением
чрезвычайного
таланта, чем
свидетельством
высокой
художественной
зрелости автора,
что «виноват
в этом не
Шиллер, а
культурное
состояние
его нации» (714) и
те великие затруднения,
которые все
деятели
немецкой нации
испытывали в
силу
раздробленности
и сепаратизма
немецкого
художественно-исторического
развития, и
что «в
Германии
едва ли
удалось бы
кому-нибудь
создать в
таком юном
возрасте, как
Мериме,
произведение
столь зрелое,
как его
«Клара
Газуль» (713714).
Последние
суждения
вплотную
подводят нас
к средоточию
политических
воззрений
Гете. К полемическим
вопросам
Гете, как
этого и следовало
ожидать,
подходил не с
общих отвлеченных
точек зрения,
но
направлялся
к ним от тех
же
конкретных
практических
проблем, которые
стояли в
центре его
жизни и
деятельности
и которые,
естественно,
вращались
преимущественно
в сфере
идеологии и
ее различных
отраслей:
искусства,
философии,
естествознания.
Так, к
убеждению в
недостатках
общественно-политического
строя
Германии его
приводило не
столько
сочувствие к
положению
угнетенных
классов,
сколько
наблюдения,
которые он, в
качестве
поэта,
натуралиста,
театрального
деятеля, мог
сделать
относительно
хода
культурного
развития
родной страны,
а также
относительно
того
тяжелого
положения, на
которое
отсталость
экономической
и политической
жизни
обрекала
самые
близкие ему,
представлявшие
в его глазах
величайшую ценность,
сферы
художественного
и научного
труда.
В этих
пределах
миросозерцание
Гете есть подлинно
буржуазная
политическая
идеология,
развертывающаяся
в некоторых
пунктах в сознательную
и отчетливую
программу,
если не
непосредственных
полжтических
действий, то
по крайней
мере в общую
программу политического
развития
страны.
Вместе с
передовыми
мыслителями
буржуазного
класса
Германии
Гете одно из
решающих
препятствий,
стоящих на
пути
прогрессивного
развития
национальной
культуры,
видит в
порожденной
пережитками
феодального
варварства
чрезмерной
обособленности
экономической,
политической,
культурной
немецких
областей. Правда,
этот
сепаратизм,
изолированность,
отсутствие
подлинных
общественных
связей,
плодотворного
общественного
обмена
опытом Гете
анализирует
преимущественно
только в тех
сферах
народной
жизни,
которые были
ему особенно
близко
знакомы,
составляли
как бы природную
стихию его
деятельности.
Однако и здесь
анализ его не
ограничивается
указанием на
одни лишь
идеологические
явления и
пытается восходить
к более
глубоким
слоям
общественной
жизни. Он
останавливает
внимание
Эккермана на
переписке
Якоби с
друзьями,
рекомендуя
не учиться из
нее
положениям
философии
Якоби, но
извлекать
при ее помощи
более
правильное
представление
о том
культурном
сепаратизме
и
обособленности,
которые
столь характерны
для немецкой
истории и
которые нашли
в ней яркое
выражение.
«Вы здесь
встречаете,
говорит он
Эккерману,
довольно
крупных людей,
но тут нет и
следа
единства
направлений и
общих
интересов:
каждый
одиноко идет
своей
дорогою и ни
в коей мере
не участвует
в стремлениях
другого» (357).
Деятели
этого времени
представляются
ему «похожими
на бильярдные
шары, которые
слепо
катятся по
зеленому
полю, не зная
ничего друг о
друге; и если
им случается
соприкоснуться,
они затем еще
дальше
откатываются
один вт
118
другого»
(357).
Обособленность
эту он
считает характерным
признаком не
только
немецкой истории,
но и немецкой
современности
20-х годов XIX
столетия.
Изучая в
начале
второй половины
20-х годов
политическую
и культурную
жизнь
Франции, он с
горечью
противопоставляет
феодальную
обособленность
и сепаратизм
немецкой
культурной
жизни
широкому и относительно
единому
потоку
культурного развития
буржуазной
Франции. «... Все
мы, жалуется
он Эккерману,
в конце
концов, ведем
изолированную
жалкую жизнь!
От народа, в
подлинном
смысле слова,
мы получаем
невысокую
культуру, а
все наши
таланты и
лучшие умы
рассеяны по всей
Германии.
Один сидит в
Вене, другой
в Берлине,
третий в
Кенигсберге,
еще
кто-нибудь в
Бонне или
Дюссельдорфе;
каждый
отделен от
соседа
расстоянием
в сто миль,
так что
личные связи
и личный
обмен мнений
могут иметь
место лишь
очень редко.
А как это
было бы
ценно, я
остро
чувствую, когда
такие люди,
как
Александр фон
Гумбольдт, бывают
здесь
проездом: они
дают мне в
области моих
исследований
и
приобретения
необходимых
мне знаний в
один день
больше, чем я
мог бы
добиться за
годы
одиноких
поисков» (713). Провинциальному
застою,
индивидуалистической
косности и
убожеству
немецкой
феодальной
чересполосицы
он с убежденным
восхищением
противопоставляет
универсальный
мировой
размах
развития
буржуазной
послереволюционной
Франции.
«Теперь представьте
себе,
говорит он
Эккерману, такой
город, как
Париж, где на
небольшом
клочке земли
собраны все
лучшие умы
большого
государства,
которые в
ежедневном
общении,
борьбе и соревновании
двигают друг
друга вперед;
где самые
лучшие
произведения
всех
областей природы
и искусства
земного шара
доступны ежедневному
обозрению.
Представьте
себе этот мировой
город, где
каждый
мостик,
каждая площадь
напоминают
вам великое
прошлое; где
с каждым
перекрестком
связан кусок
истории. И ко
всему этому,
выразительно
добавляет Гете,
представьте
себе этот
Париж не в
унылую,
скучную
эпоху, а в
девятнадцатом
столетии,
когда на
протяжении
трех
человеческих
поколений
такие люди,
как Мольер,
Вольтер, Дидро,
привели в
движение
такие
духовные богатства,
как нигде в
другом месте
на всей земле...»
(713).
Но Гете
не
ограничивается
одним лишь
констатированием
немецкой отсталости
и
феодального
сепаратизма.
Внимательно
наблюдая
факты
технического
и хозяйственного
развития
немецкого
бюргерства,
он с глубокой
прозорливостью
указывает на
те силы,
которые,
прокладывая
себе путь в
затишье патриархальных
немецких
городков и
княжеств,
создадут
материальную
основу для
выхода
Германии на
путь
буржуазного
развития. Именно
в
относящихся
сюда
суждениях
обнаруживается
буржуазный
характер,
буржуазное тяготение
мировоззрения
Гете. «У меня
нет тревога, говорил
он Эккерману,
что
Германия не
объединится;
наши хорошие
шоссе и
будущие железные
дороги
сделают свое
дело» (784). Все
значение
этого
гениального
пророчества,
высказанного
семидесятивосьмилетним
стариком в 1828
году, можно
оценить,
только
сопоставив
его с
позднейшими
суждениями,
принадлежащими
Энгельсу и
развитыми им
в статье «Немецкий
социализм в
стихах и
прозе».
Правда,
намеченная
Гете в одной
из бесед с
Эккерманом
программа
буржуазной
эволюции
Германии
приправлена
порядочной
дозой филистерского
прекраснодушия,
однако
программа
эта все же
программа
буржуазная и
притом
чрезвычайно
реальная,
совпадающая
с реальными
интересами
передовых
слоев
немецкой
буржуазна,
выведенная
из реальной,
исторически сложившейся
ситуации.
Основные
пункты этой
программы
уничтожение
таможенных,
финансовых,
политических
и
полицейских
барьеров
феодальной
системы,
сковываю-
119
щих
широкое и
вольное
развитие
немецкой буржуазной
торговли,
промышленности,
парализующих
быстрый
экономический
обмен, свободу
передвижения,
возможность
всесторонних
экономических
и культурных
сношений. «Да
будет
Германия настолько
едина,
восклицает
он, чтобы
немецкие
талеры и
гроши во всем
государстве
имели одну и
ту же цену;
настолько
едина, чтобы я
мог провезти
свой
дорожный
чемодан через
все тридцать
шесть
государств,
ни разу не раскрыв
его для
осмотра.
Пусть будет
она настолько
едина, чтобы
городской
дорожный паспорт,
выданный в
Веймаре, не
был признан
пограничным
чиновником
соседнего
(немецкого. В.
А.) государства
недействительным,
как паспорт иностранца.
В пределах
германских
государств
не должно
быть речи о
своей стране
и загранице;
пусть будут в
Германии
едиными меры
и вес, торговля
и оборот и
сотни тому
подобных
вещей, которых
я не в
состоянии
сейчас
припомнить» (785).
Мечтая о
выходе
Германии на
дорогу
буржуазной
эволюции, этот
исторически
мыслящий ум,
глубоко ориентированный
в фактах
немецкой
истории, тонко
понимавший и
учитывающий
своеобразие
путей
исторического
развития
Германии, был
в то же время
далек от
мысли, будто
будущее немецкого
народа
должно
состоять в
простом повторении
и
подражательном
пересаждении
на немецкую
почву
общественных
политических
порядков,
сложившихся
при совершенно
иных
обстоятельствах
в передовых
странах
Западной
Европы.
Приобщаясь к
мировой линии
буржуазного
развития,
Германия
скорее
должна была
так
разъяснял он
Эккерману
сохранить те
черты своей
культурной
жизни,
которые,
органически
вытекая из
исторического
хода ее прошлого
развития,
могли быть
выгодно использованы
на новой
высшей
ступени
истории. Так,
провозглашая
тезис
экономического,
политического
и
культурного
единства
Германии,
мечтая об
устранении
бесчисленных
таможенных,
тарифных,
финансовых,
полицейских
перегородок,
разобщавших
«тридцать
шесть»
немецких
государств и
задерживавших
развитие
немецкого
бюргерства,
Гете
подчеркивал,
что это будущее
единство
отнюдь не
должно
привести
Германию к
политической
централизации
и к
распространению
этой
централизации
на
культурную
жизнь и на
культурное
развитие
нации
наподобие
тому, что
имело место в
развитии
Франции.
Скорее он был
того мнения,
что будущее
экономическое
и
политическое
объединение
Германии
должно
оставить
неприкосновенным
многообразие
форм
духовной культуры
и в
особенности
форм
народного
образовадия,
в котором он
видел один из
немногих
положительных
результатов
феодального,
крайне децентрализованного
и
обособленного,
развития
немецких
областей. «Но
если
кто-нибудь думает,разъяснял
он
Эккерману,
что единство
Германии
состоит в
том, чтобы
иметь одну огромную
столицу для
всего
огромного
государства,
и что такая
огромная
столица
будет содействовать
благу и
развитию
отдельных
талантов, а
также благу
народной
массы, то это заблуждение»
(785). «В чем
величие
Германии,
замечает он
несколько
ниже,как не в
изумительной
народной
культуре,
равномерно проникающей
все части
государства?»
(785). Он говорит,
что
централизация
всей
культурной жизни
страны
вокруг одной
или двух
столиц неминуемо
привела бы к
ущербу
культурного развития,
которое
опирается в
Германии на множество
созданных
всем ходом ее
истории локальных
центров и
развертывается
в богатых и
необычайно
разнообразных
формах университетского
образования,
гимназий, технических
и
промышленных*
училищ,
многочисленных
публичных
библиотек,
рассеянных
по всей
стране, а
также
многочисленных
театров,
художественных
галерей и
музыкальных
организаций
(см. 785).
Его
практический
ясный ум не
мог ограничиться
постановкой
одного
120
лишь
вопроса о
направлении
будущего
развития
Германии, не
касаясь
вопроса о
том, кто,
какие живые
люди должны
явиться
носителями и представителями
этого
развития. И в
этом вопросе
он открыто
выражает
буржуазную
направленность
своей мысли.
Неоднократно,
по самым
различным
поводам он
высказывает свое
убеждение в
том, что
именно из
рядов буржуазного
сословия
выходят и
должны выйти
наиболее
плодотворные
и творчески
инициативные
работники
культуры. Он
утверждал в
наивной
классовой
ограниченности,
что среднее состояние
выгоднее
для таланта и
что «все крупные
художники и
поэты
принадлежат
к средним (т. е.
буржуазным. В.
А.) сословиям»
(274). Для его
представлений
о классовом
субъекте
желательного
в будущем
культурного
и политического
развития
чрезвычайно
показательно
его позднее,
падающее на
последние
годы жизни
увлечение
буржуазной
французской
газетой «Le Globe», в
сотрудниках
которой он нашел
свой идеал
политического,
научного и
литературного
деятеля. С
жаром,
бросающимся
в глаза
Эккерману и
потому им
особо отмеченным,
Гете говорит
о редком, в
Германии вовсе
невозможном,
единстве
направления
этой газеты,
о росте ее
сотрудников,
которые с каждым
днем
становятся
все выше и
все значительнее
(см. 393). В лице
Кузена,
Вильмена и в
особенности
Гизо он ценит
не только их
литературный
талант,
ученость, но
что всего любопытнее
их идейное
направление,
в силу которого
они
«соединяют
прекрасное
знание
прошлого с
духом
девятнадцатого
столетия» (437). В
исторических
работах Гизо
Гете ценит
прежде всего
то, что
делает Гизо
выдающимся
представителем
классовой
буржуазной
точки зрения.
Он одобряет
смелость и свободу,
с какою Гизо
и его
товарищи по
газете
«подходят к
рассмотрению
проблем», прямо
идут к цели»,
проломали
стену
исторической
традиции. Его
восхищает не
только огромный
ум,
проницательность
и
осмотрительность
Вильмена и
Кузена, не
только
«ученость, которая
раньше
встречалась
только у немцев»
и какою они
превосходят
«легкомысленную
вольтеровскую
поверхностность»
(441), но прежде
всего
проницательная
трактовка
вопросов,
метод, точка
зрения. Он не
находит слов
для похвал по
адресу Гизо,
о котором он
говорит, что
«он обладает
глубиной и
ясностью взгляда,
как никто из
других
историков» (446).
Он обращает
внимание на
то, что у Гизо
благодаря
точке зрения,
на которой он
стоит, «вещи,
которые
остаются
нами
незамеченными,
приобретают
в его глазах
крупнейшее
значение, как
источник
важных
событий» (446). Особенно
привлекает
его
разработанный
Гизо и
сыгравший
немалую роль
в чисто буржуазной
трактовке
классовой
борьбы,
составляющей
содержание
истории
феодализма,
метод
анализа
идеологических
надстроек и их
воздействия
на
политическое
развитие нации.
Так, он восхищается
ясностью, с
какою Гизо
вывел и доказал,
что
преобладание
известных
религиозных
мнений имело
огромное
влияние на историю;
так, учения о
первородном
грехе, о благодати,
о добрых
делах
придавали
тот или иной
характер
целым эпохам
(см. 446). В глазах
Гете эта
точка зрения
представляла
прежде всего
ту ценность,
что как ему
казалось проливала
свет на
причины
столь ему
хорошо
известных и
ненавистных
явлений
феодального
клерикализма,
свирепствовавшего
и в Германии.
В тех же
лекциях Гизо
он искал ответа
на столь
волнующий
его вопрос об
исторических
причинах,
породивших
характерную для
германской
истории
последних
столетий
обособленность
и
уединенность
политических
образований
и процессов
культурного
развития (см. 447).
Все эти
преимущества
более глубокого
и
основательного
исторического
воззрения,
новой
плодотворной
точки зрения
сконцентрировались,
по
представлению
Гете, в
личности
Гизо, который
стал для Гете
121
своего
рода кумиром
и идеалом
последних лет
его жизни.
Воздавая
должное
Вильмену и Кузену,
Гете
признается,
что всем им
он предпочитает
Гиво (см 441), с
его
практицизмом,
широтой воззрений,
спокойствием
и
устойчивостью,
глубокими
знаниями и
просвещенным
либерализмом
(см. 797).
В более
ранние годы
начала
нового века
таким
политическим
героем,
окруженным
ореолом
несравненно
сильнейшего
восхищения и
преклонения,
был для Гете
Наполеон, в
котором он
видел не
только гениальную
личность,
гениального
полководца и
императора,
но прежде
Есего гения
политической
продуктивности,
т. е. деятеля,
беспримерный
успех и
удачливость
которого,
«божественное,
как его
называл Гете,
просветление»,
вытекали из
гармонии
между
направлением
его личной
деятельности
и интересами
миллионов
людей, для
которых он
сумел найти дела,
совпадающие
с их
собственными
стремлениями.
«Во всяком
случае, его
личность
возвышалась
над всеми
прочими,
разъяснял
Гете Эккерману.
Но самое
главное это
то, что люди, подчиняясь
ему,
рассчитывали
тем самым лучше
достигнуть и
своих
собственных
целей. Именно
поэтому они
шли за ним,
как идут за
всяким, кто
внушает им
подобного
рода
уверенность»
(444).
Только
этим
совпадением
между
направленностью
воли и
деятельности
Наполеона и
интересами
миллионов
людей, для
которых Наполеон
сумел стать
высоким
представителем
и символом их
собственных
стремлений,
объясняет
Гете то, что
для Наполеона
«мир был тем
же самым, чем
для Гуммеля
его рояль» (449). В
этом же
смысле он
как-то в
другой раз
назвал
Наполеона
«компендием
целого мира» (294).
В
последние
годы жизни
Гете, когда
Наполеон
давно уже
сошел с исторической
сцены и когда
в центре
внимания
Гете стали
иные лица,
пусть
значительно
уступавшие
Наполеону, но
важные тем,
что они все
же
олицетворяли
собою
актуальные
силы
современности,
Гете
постоянно
возвращался
в своей
памяти к
своему герою,
который вошел
в историю как
одна из
крупнейших
фигур, организовавших
буржуазный
порядок во
Франции на
основе
результатов
революции.
Это внимание
выражалось у
Гете не
только в
постоянно
возобновлявшихся
беседах о
Наполеоне и о
его времени,
но также в
постоянном
усердном
чтении
огромной уже
в то время
литературы мемуаров
и монографий,
посвященных
Наполеону и
его эпохе. В
одних лишь
записях
Эккермана
сохранился
целый ряд
названий
книг о Наполеоне,
изучавшихся
Гете в конце
20-х и начале 30-х
годов. В
литературе
этой Гете не
искал
прикрас и
«нас
возвышающего
обмана». Напротив,
он более
всего ценил
книги, вроде мемуаров
Буриена,
перед
ужасной
реальностью
которых
исчезает
«всякий
ореол, все
иллюзии,
которыми
журналисты,
историки и
поэты
разукрасили
Наполеона» (444).
Он испытывал
особое
удовлетворение,
убеждаясь в
том, что его
любимый
герой не
только не
умаляется, но
«вырастает
тем сильнее,
чем ближе его
изображение
к истине» (444), по
мере того как
с его деяний
«исчезает
видимость
чудесных
приключений,
и факты
вырастают
перед нами во
всей их
обнаженной и
возвышенной
правде» (448). Этой
же «правды» он
искал и в
мемуарах генерала
Раппа, в
«Истории
Наполеона»
Вальтера
Скотта и в
книге
Биньона. По
поводу Вальтера
Скотта он
замечает, что
его книга
«отнюдь не
может
служить
документом для
истории
Франции: она
документ для
истории
Англии» (791), и
Вальтер
Скотт
является
«истинным
толмачем и
представителем
английского
общественного
мнения и
английского
национального
чувства» (791).
Стремясь
сопоставить
самые
противоречивые
мнения и
суждения о
Наполеоне и
полагая, что
каждое из них
«голос,
который
следует
выслушать в
этом важном
историческом
процессе», он
122
одновременно
с книгой
Вальтера
Скотта и как
бы в
противовес
его
тенденциозности
читает
работу
Биньона (см. 791).
Это
стремление
возвыситься
над
национальной
исключительностью
проявлялось
у Гете не
только спорадически,
не только по
поводу
явлений,
которые, как
например
Наполеон,
особенно
привлекали
его интерес.
С годами
духовной
зрелости его
мировоззрение
перерастало
рамки национальной
ограниченности
и
становилось
все более и
более
космополитичным.
Буржуазные
тенденции
его мышления,
взращенные
плодотворным
и длительным,
от дней
юности
идущим, влиянием
французской,
а затем и
английской
культуры, а
также
углубленные
изучением
культуры итальянского
Ренессанса и
классической
древности,
сливаясь с
усвояемым им
культурным
достоянием
великих
наций
древнего и нового
мира,
доразвились
в нем до
воззрений, выступающих
уже из границ
буржуазного
национализма.
Гражданин и
подданный
крохотного
Веймарского
герцогства,
одного из
тридцати
шести немецких
государств,
Гете в
широком
размахе
своей мысли
возвышался
не только над
перегородками,
поставленными
в Германии феодальной
системой и
препятствовавшими
общегерманскому
единству.
Мысль его
возвышалась
и над теми
национальными
перегородками,
которые
узость и
ограниченность
буржуазного
развития
создали
между
современными
ему великими
национальными
культурами.
Мечтая
вместе с
лучшими из
своих
современников
о
национальной
независимости
и национальном
единстве Германии,
он не
позволил
увлечь себя
настроениями
националистического
шовинизма и нетерпимости,
охватившими
огромное
большинство
буржуазных
кругов и
партий его
страны в годы
наполеоновской
оккупации и
последовавшей
за нею борьбы
«за
независимость».
С гениальной
проницательностью
и с
благородным
негодованием
он давал
отпор всем
попыткам увлечь
его мутным
потоком
«галлофобии»,
захлестнувшим
и
помрачившим
умы его
буржуазных
современников.
Несмотря на
все свое отвращение
к
французской
революции, о
котором
подробно
скажем ниже,
он остался
убежденным и
благородным
поклонником
французской
культуры,
особенно той,
что была
создана
великими деятелями
французского
Просвещения,
непосредственно
подготовившими,
идеологически,
великую
революцию.
«Да и как мог
бы я восклицал
он, для
которого
культура и
варварство единственные
вещи, имеющие
значение,
ненавидеть
нацию,
принадлежащую
к числу
культурнейших
на земле,
нацию,
которой я сам
обязан
значительной
частью
своего
образования!»
(815). Он,
ворчавший
порою на
Вольтера, находя
иные из его
дерзостей
«возмутительными»,
с
восхищением
и
глубочайшим
уважением
говорил о
Париже
девятнадцатого
столетия,
«когда на
протяжении
трех
человеческих
поколений
такие люди,
как Мольер,
Вольтер, Дидро,
привели в
движение
такие
духовные богатства
мыслей, как
нигде в
другом месте
на всей
земле» (713).
Современным
варварам-фашистам,
попирающим и
пятнающим
славные
знамена
немецкой культуры,
не выжечь
никакими
усилиями, не
истребить ни
на каких
кострах, ни в
каких шутовских
процессиях
эти
великолепные
мысли
великого
поэта,
тяжелым
укором падающие
на их головы.
Национальная
ненависть
представляется
ему просто
непонятной
на высоких
ступенях
культуры. Он
знает, что на
низших
ступенях
развития она
проявляется
горячо и
сильно. «Но
имеется и
такая ступень,
утверждает
он, на
которой она
совершенно исчезает,
так что
человек
стоит
некоторым образом
над нациями
и
воспринимает
удачи и
огорчения соседнего
народа так,
как если бы
они случились
с его
собственным»
(815).
Наблюдая
развитие
поэзии у
различных
народов, он
приходит к
за-
123
ключению,
что и здесь,
несмотря на
все значение
языковых
различий,
приближается
эпоха
мировой
литературы.
«Сейчас мы
вступаем, говорит
он, в эпоху
мировой
литературы, и
каждый
должен
теперь
содействовать
тому, чтобы
ускорить
появление
этой эпохи» (348).
Реальную
основу и
опору этого,
все
усиливающегося
космополитического,
междунационального
значения
новейшей
литературы
он видит в
направлении
развития
самой жизни,
в общности
явлений,
чувств и
мыслей,
находящих
выражение в искусстве
различных
народов. В
общности этой
жизненной
основы он
видит
причину
общности и
сходства
между
романами
Ричардсона и
«Германом и
Доротеей».
Отвергая
национальную
исключительность
в вопросах
эстетики, он,
вместе с
лучшими
языковедами
и филологами
своего
времени,
утверждает,
что «поэзия
есть общее
достояние
человечества
и что повсюду
во все
времена ее
носителями
являются сотни
и сотни
людей» (347).
Стоя сам
на точке
зрения
своеобразного
культурного
«космополитизма»,
он горячо
приветствует
проявление этого
космополитизма
в других. Он с
воодушевлением
восхваляет
молодого
французского
критика и
литературоведа
Ампера, одного
из
сотрудников
любимой им
французской
газеты «Le Globe» за
отсутствие
всякой
национальной
исключительности.
«Ампер... стоит
по своему
образованию
настолько
высоко,
говорит он Эккерману,
что он далеко
оставил за
собою национальные
предрассудки,
чванство и
ограниченность
многих своих
соотечественников
и по своему
развитию и
духу он более
гражданин
мира (ein Weltbiirger. В. А.), чем
гражданин
Парижа. Мне
кажется,
впрочем,
заключает
он, что
наступает
время, когда
во Франции
появятся
тысячи людей,
думающих так
же, как и он» (716).
По тем же
основаниям
он приветствовал
всякое
явление в
научной и
литературной
жизни,
которое
казалось ему
признаком
усиливающегося
сближения и
культурного
общения
Франции и
Германии.
Особенно
ценной в этом
отношении
ему казалась деятельность
Кузена и его
школы, а
также общее
направление
газеты «Le Globe». Эти
люди, сказал он
как-то о
Кузене и его
учениках,
находятся на
пути к тому,
чтобы
осуществить
сближение
Франции и
Германии, они
создают язык,
который как
нельзя более
приспособлен
для
облегчения
идейного
обмена между
обеими
нациями» (777).
Изложенные
выше
социально-исторические
и
политические
взгляды Гете
образуют
лучшую и
достойнейшую
грань его политического
мировоззрения.
В этих
взглядах
Гете, как мы
могли видеть,
не только
выступает
как один из
величайших
прогрессивных
деятелей
своего
класса в
эпоху его
кульминирования,
но благодаря
гениальной
проницательности,
а также
благодаря
необычайно
богатой и
многообразной
культуре,
усвоенной им
и переработанной
в
соответствии
с его личностью
в
практические
и деятельные,
оплодотворяющие
жизнь силы,
во многих
отношениях превосходит
самых
даровитых и
глубоких своих
современников.
Более
глубокий, чем
до него, взгляд
на
зависимость
художественного
творчества
от
исторических
условий,
политического
и
культурного
развития
народа, анализ
и критика
порожденной
феодальной эпохой
экономической,
политической
и культурной
раздробленности
Германии,
указание
линий будущего
технического,
политического
и культурного
развития ее,
понятого как
развитие антифеодальное,
буржуазное,
гениальная оценка
значения,
какое в этом
развитии
должно
принадлежать
созданию и
распространению
новых средств
сообщения
(железные
дороги,
шоссе, каналы),
преодоление
национальной
ограниченности,
реалистический
«космополитизм»,
выведенный
не как
логический
постулат
доктрины, а
как
выражение и
обобщение
наблюдаемой
в реальном
историческом
развитии
тенденции, все
эти
воззрения,
анализы, суж-
124
дения и
предвидения
должны быть
занесены в
актив Гете,
причислены к
счастливейшим
плодам его
продуктивности.
Но Гете
не был, как
уже было
сказано выше,
натурой
монолитной,
свободной от
противоречий.
Как бы ни был
всеобъемлющ,
велик и
практически
мудр его гений,
он не был в
силах
перешагнуть
через все барьеры
и
препятствия,
которые были
поставлены
на его пути
историческими
условиями развития
его нации.
Отсталость
экономического
и
социально-политического
строя Германии,
отсутствие
организованных
и сознательных
передовых
общественных
сил,
способных сплотить
большинство
нации и
поднять ее на
действительную
и успешную
практическую
борьбу с
темными
силами
феодальной
системы,
провинциальная
косность,
застой и бессилие
обособленной,
вяло
катившейся
по
бесчисленным,
во все
стороны
разбегающимся
и ничем между
собой не
связанным
ручейкам
жизни,
налагали тысячи
невидимых
тяжелых
цепей на
развитие
этого
мощного ума.
Не малую роль
в порабощении
мысли Гете
сыграли и
факты его
личной судьбы,
связавшие
его на
полвека с
крохоборческой
жизнью и
плоскими
интересами
отсталого и
реакционного,
при всей
культурности
старого
герцога,
саксон-веймарского
двора.
Высокое
придворное
положение
Гете, его личная
близость к
великому
герцогу и его
семье не
только не
облегчали
развитие
Гете, но во многих
и многих
отношениях
обременяли и
затрудняли
это развитие,
присоединяя
к чертам
личного и,
так сказать,
естественного
филистерства
Гете новые и
притом
вынужденные
черты, извне
ему
внушаемые и
навязываемые
условностями
придворного
общения и
этикета. И
если никогда
не
изменявшая
Гете искренность
и
непосредственность
в его
суждениях и
отзывах о
явлениях
окружающей
жизни и истории
счастливо
избавляли
его от какой
бы то ни было
возможности
лицемерить,
высказывая
нечто
противное
тому, что он
действительно
думал, то в то
же время
условные
обычаи и правила
придворной
жизни часто
ставили Гете,
подобно тому
как ставила
Канта
цензура в вопросах
философии
религии, в
положение, при
котором он
хотя и не
говорил того,
чего на деле
не думал,
однако
умалчивал
многое из того,
что думал, и
притом
умалчивал
при таких
обстоятельствах,
при которых
недоговоренное
слово, не
высказанная
до конца
мысль в силу
одного лишь
факта своей
недосказанности
превращаются
в ложь и
прямое
подавление
истины.
Изучая
весь
комплекс
отрицательных
черт, оттеняющих
конкретный
реальный
контур его
личности, с
неизбежным и
глубоко
укорененным
в нем
контрастом
света и тени,
глубокомыслия
и плоскости,
энергии,
смелости и недостойной
слабости и
трусости, не
подберешь
лучшего
термина в
ряду слов,
способных
создать
некоторое
общее
впечатление
или
предощущение
присущих ему
недостатков, чем
тот, который
выражается
понятием ф и
л и с т е р с т в
а.
Ни в чем
это
филистерство
Гете не
сказалось с
такой
очевидной,
принижающей
его образ и
обесценивающей
результаты
его мысли
силой, как в
его
суждениях о
революции.
Этот могучий
ум,
радовавшийся
своей
счастливой
судьбе,
которая
сделала его в
течение
более чем
полувека
живым
свидетелем и
современником
великих
исторических
событий,
начиная от
Семилетней
войны и
кончая борьбой
Греции за
независимость,
не сумел ни понять,
ни ощенить
значение
величайшего
из этих
событий
Великой
французской
революции.
Для него
революционное
действие в
течение всей
его жизни
представлялось
не плодотворным
актом
необходимого
освобождения
скованных
старым
порядком
общественных
производительных
сил, но лишь
случайным, и
потому
принципиально
избежимым,
только деструктивным,
только
опустошительным
и гибельным
для культуры,
стихийным и
слепым актом,
лишенным
какой бы то
ни было
125
оплодотворяющей
продуктивной
силы. В филистерской
ограниченности,
представлявшей
оттиск
общегерманского
филистерства
и
общенациональной
ограниченности
немецкого
бюргерства,
он смотрел на
причинность
революционного
взрыва как на
причинность
катастрофы
или
несчастного
случая (ведь
и несчастные
случаи имеют
свои причины,
укладываются
как-то в
каузальный ряд
явлений
природы!), он
отказывался
признать в
ней
причинность,
выражающую
необходимый
закон роста
общества и
его скачка на
высшую
ступень.
Он не
одобрял
«друзей
существующего
порядка», ибо
хорошо
понимал, что
друг
существующего
порядка
«часто бывает
другом
устаревшего
и дурного»; он
полагал
также, что
события
Великой
французской
революции
«явились следствием
великой
необходимости»,
и был того
мнения, что
«во всякой
великой революции
виновен не
народ, а
правительство»,
что
«революционные
восстания
низших классов
являются
результатом
несправедливости
высших». Он
полагал
также, что
народ можно
до поры до
времени
угнетать, но
«что его нельзя
подавить» и т.
д., и т. д.
Однако,
признавая
историческую
неотвратимость
имевших
место в
прошлом
революций, он
вовсе не
считал за
непреложность
их возникновение
в будущем.
Напротив,
усматривая в
революции
только
деструктивную,
разрушительную
по отношению
к культуре
стихию и
полагая, что
стихия эта
вызывается и
развязывается
чисто субъективными
недостатками
господствующих
классов, их
«несправедливостью»,
он думал,. что
революции не
только могут
быть предотвращены,
но что в
предотвращении
их и должна состоять
подлинно
прогрессивная
государственная
и
политическая
деятельность.
Космополит
в вопросах
духовной
культуры и
литературного
развития,
радовавшийся
всякому
признаку,
говорившему
о росте сближения
Германии с
Францией,
глубокомысленно
объяснявший
возможность
этого
сближения
общностью
развития
обеих стран,
Гете в чисто
филистерской
ограниченности
отклонял
всякую мысль
о революции в
Германии,
утверждая,
будто мысль эта
не имеет
никакого
основания на
немецкой
почве и
представляет
собой лишь
противоестественную
попытку «искусственным
путем вызвать
сцены, какие
во Франции
явились последствием
великой
необходимости»
(640). Во всех
случаях,
когда речь
касалась
возможности
революции в
Германии,
присущая
Гете широта
воззрений,
проницательность
исторической
ориентации
покидали его,
и на их место
выступали столь
антипатичные
ему во всех
других вопросах
националистическая
ограниченность
и
реакционная
идея об
особом,
вполне отличном
от пути
развития
других стран,
ходе исторического
развития
Германии. Те
же аргументы,
которые в
вопросах
«культурничества»
служили ему
для того,
чтобы
оттенить
тонкую диалектику
«общего»,
совпадающего
с направлением
развития
других
передовых
стран Европы,
и
«особенного»,
составляющего
результат и
признак
исторического
своеобразия
немецкой жизни,
превращались
у него в
устах едва
только
вопрос
касался
революции в
софистику и метафизику
националистической
доктрины, односторонне
выдвигавшей
одно лишь
«особенное»,
как ширму,
призванную
уберечь
Германию от
лица
грозящей ей
революционной
катастрофы.
В этом
реакционном
смысле он
говорил, что «для
каждой нации
лишь то
хорошо, что
проистекает
из ее
собственной
внутренней
сущности, из
ее
собственной
общей
потребности,
без всякого
обезьянничания
со стороны», и
что «безумны
поэтому все
попытки
ввести
какое-нибудь
иностранное
новшество,
потребность
в котором не
коренится
глубоко в недрах
самой нации» (640).
126
Гениальный
естествоиспытатель,
глубоко проникший
в законы
развития
растений и животных,
открывший
уже в годы
глубокой
старости, что
рост даже
простого
растения
совершается
«от узла к узлу»
(424), он в то же
время в
вопросах
развития общества
не допускал и
мысли о том,
что развитие
это может
осуществляться
иначе, как в строгой
и плавной
постепенности.
«... Все то, что
делается
насильственно,
всякие
скачки,
говорил он Эккерману,
претят моей
душе, ибо
противоречат
законам
природы». «Я
ненавижу,
говорил он,
всякий
насильственный
переворот,
так как при
этом столько
же
уничтожается
хорошего,
сколько
выигрывается.
Я ненавижу
как тех,
которые его
совершают,
так и тех,
которые
своим
поведением
вызывают его»
(664). Ненавидя в
революции сопровождающее
ее
«уничтожение
хорошего», он распространяет
свою
ненависть и
на самих носителей
революционного
действия.
Ограниченный
миром
культурничества,
воспитанный
в привычном
почитании
культурных
ценностей, он
осуждает
революционеров
за неизбежное
будто бы для
них качество
отсутствие
уважения к
великим
людям и
благоговения
к великим
деяниям.
Санкюлоты,
презрительно
сказал он
однажды
Эккерману, не
умеют уважать
(см. 316). Недолго
спустя после
окончания
революции 1830
года, в
беседе с тем
же
Эккерманом,
достойным
партнером и
подголоском
филистерских
дуэтов, он,
находивший,
что именно
молодежь
следовало бы
выдвигать на
руководящие
посты,
осуждает
«безумное
стремление»
революционной
молодежи
«оказывать
воздействие
на высшие
государственные
дела» (581).
Он
отрицал
революционное
действие не
только
исходя из
учета
сопровождающих
эти действия
частичных
утрат и
разрушений,
но также и
потому, что
считал самые
цели его принципиально
неверными и
неосуществимыми,
а мир
недоступным
совершенствованию.
«Если бы
можно было
сделать
совершенным человечество,
рассуждал
он, то можно
было бы также
создать
совершенный
порядок, но
так как это
невозможно,
то предстоят
беспрерывные
потрясения;
одна часть
будет
страдать, в
то время как
другая
достигает
благосостояния;
эгоизм и
зависть, как
два злых
демона, никогда
не прекратят
своей игры, и
борьба партий
будет
бесконечна» (211).
Безнадежность
и
безвыходность
общественного
строя
современной
ему Германии
наложили
печать
пессимизма
на его
суждения об
общем ходе
исторической
жизни и на
его оценку
исторического
прогресса в
целом.
Практическое
бессилие немецкой
буржуазии, ее
неспособность
на действия,
сулящие
радикальное
и быстрое изменение
и улучшение
общественного
строя, Гете
объективирует
и возвышает в
ранг
принципиальной
оценки
исторического
прогресса. Не
отрицая
известного
поступательного
движения
общества, он
находит, что
в целом
совершенствование
общественной
жизни
обречено
осуществляться
поистине
черепашьими
шагами. «Мир
идет к своей
цели не так
быстро,
поучал он
Эккермана,
как мы думаем
и как бы нам
этого хотелось.
Всюду
проникают и
оказывают
сопротивление
задерживающие
развитие
демоны, так что
хотя все и
идет вперед,
но лишь очень
медленно... Но
сколько бы ни
длилась
жизнь человечества,
уверял он,
оно всегда
будет иметь
достаточно
препятствий,
с которыми приходится
бороться, и
достаточно
всякого рода
нужд,
развивающих
его силы.
Умнее и проницательнее
оно
(человечество.
В. А.), конечно,
станет, но
лучше,
счастливее,
дееспособнее
нет. Разве
только в
отдельные
периоды» (780). Он
считал
человеческую
жизнь и природу
человека
настолько
неспособными
на радикальное
изменение и
улучшение,
что в одной
из
полушутливых
и
метафорических
бесед он
высказал
однажды
мысль, будто
он предвидит
время, «когда
человечество
не будет уже
более
радовать
127
творца, и
он должен
будет снова
все разрушить,
чтобы
обновить
творение» (780).
На этом
убеждении в
неизменяемости
и неустранимости
дурных черт общественного
устройства и
человеческой
природы, а
также на
убеждении в
пагубности
всякого
насильственного
революционного
акта Гете
строит свой
идеал
государственной
деятельности,
который он
сам называет
«истинным»,
или
«умеренным
либерализмом»,
и который представляет
наивную
смесь
филистерской
осторожности,
респектабельности,
прекраснодушия
и самого
заурядного
эволюционизма,
звучащего
анахронизмом
даже в момент
своего
рождения в
эпоху
буружазно-демократических
революций.
Читая
относящиеся сюда
суждения Гете,
отказываешься
верить, что
они принадлжат
тому же
человеку,
который
почитал Наполеона,
предсказал
объединение
Германии на
основе
развития
железных
дорог и новых
средств
сообщения, а
также
предсказал
блестящее
развитие
Соединенных
Штатов и их
экономическую
и
политическую
экспансию,
вплоть до прорытия
Панамского
канала.
«Истинный
либерал,
пояснял Гете,
старается
всеми
имеющимися в
его
распоряжении
средствами
осуществить
максимум
добра, но он
остерегается
недостатки,
зачастую
неустранимые,
тотчас же искоренять
огнем и
мечом. Он
стремится,
мудро подвигаясь
вперед,
мало-помалу
устранять общественную
порочность,
не прибегая к
насильственным
средствам,
которые
часто разрушают
столько же
добра,
сколько и
создают. В
этом всегда
несовершенном
мире он довольствуется
тем
количеством
добра,
которое имеется,
пока не
наступят
обстоятельства,
благоприятные
для того,
чтобы
достигнуть
лучшего» (798).
Вооруженный
всеми этими
превосходными
качествами, в
которых мы
без труда
узнаем проекцию
филистерской
трусости и
благонамеренности
провинциального
немецкого бюргера,
«истинный
либерализм»
должен, по
мысли Гете,
сделать то,
что
революции,
угрожающие
покою и
безопасности
бюргеров,
перестанут
повторяться.
Они
«совершенно
невозможны,
если
правительства
всегда
справедливы
и всегда
начеку, если
они
своевременными
улучшениями
предупреждают
недовольство,
а не сопротивляются
до тех пор,
пока
необходимые меры
не будут
вынуждены
давлением
снизу» (640).
Наивность
и
политическая
незрелость
этих
прекраснодушных
мечтаний
отражают почти
полное
отсутствие
серьезного
политического
опыта,
характерное
для немецкой
буржуазии
начала XIX века.
Нет сомнения,
что в них
отразился и
страх,
вызванный
событиями
больших
революций
Запада, в
процессе
которых не раз
уже
колебалась
почва не
только под
ногами феодального
дворянства и
духовенства,
но также и
под ногами
буржуазии.
Перед лицом этих
событий
немецкой
буржуазии,
поставленной
вне
непосредственного
в них
участия, бесправной
политически,
оставалось
только
мечтать о
гармонии
между мудрым
либеральным
правительством,
снимающим с
граждан
бремя тягот и
страданий
общественной
деятельности,
и послушными
и
благодарными
подданными. Эта
безнадежная
маниловщина
оборачивается
подлинной
карикатурой
в невероятно
филистерской
беседе Гете с
Эккерманом
по поводу
поэмы «Дафнис
и Хлоя», в
которой
обоих
восхищает
изображение
отношений
между
господами и
слугами. «Со
стороны
первых мы
видим самое
гуманное
отношение, а
в последних,
при всей их наивной
свободе
большое
уважение и
желание
всеми силами
заслужить
милость
господина» (580).
С годами
реакционность
политических
воззрений
Гете заметно
усиливается.
В эпоху, отраженную
в дневнике
Эккермана, т.
е. во второй
половине 20-х и
в первые годы
30-х годов XIX столетия,
Гете
убежден-
128
ный
сторонник
«охранительных»
начал Священного
союза. В
интимной
беседе с
Эккерманом
он с
негодованием
говорит о
«санкюлотах», нападающих
на Священный
союз, в то
время как, по
мнению
самого Гете,
«никогда не
было ничего
более
великого и
благодетельного
для
человечества»
(316). Он утверждает,
что народ не
следует
возводить на
степень философов,
пастырей или
политиков и
что законы,
устанавливаемые
правительствами,
«должны
скорее
стремиться к
тому, чтобы
уменьшить
массу
лишений, и не
должны иметь
претензии
увеличивать
массу
счастья» (831). Он
откровенно
высказывается
против
«слишком
широкого
либерализма»
(555) и против
излишка
свободы, когда
мы ею не
можем
воспользоваться
(см. 336). Развивая
эти
положения, он
высказывает
мысль,
которая
показывает,
насколько
был он далек
от понимания
действительных
условий
притеснения
и нужды, в
которых жило
большинство
его
сограждан и
которые
исключали
для них
всякую
возможность
элементарной
свободы.
«Если
кто-либо
имеет
достаточно
свободы,
наивно
замечает он,
чтобы вести здоровый
образ жизни и
заниматься
своим ремеслом,
то этого
достаточно, а
столько
свободы
имеет
каждый...
Бюргер столь
же свободен, уверяет
он, как и
аристократ,
если он умеет
оставаться в
тех границах,
которые
указаны ему
богом и
сословием, в
котором он
родился» (336).
Министр и
деятель
просвещения,
понимавший,
что иной раз
невозможно без
насилия
добыть даже
лишней залы
для университетской
библиотеки,
он в то же
время не
понимал, что
для создания
условий, при
которых
человек «мог
бы жить в
здоровья и
заниматься
своим делом»,
необходима
долгая и кровавая
борьба и
революция и
что элементарный
минимум
свободы не
только не дан
людям, но
задан им, как
труднейшая
задача их исторического
роста и
политического
развития.
Его
отрицание
революционной
активности казалось
ему глубоко
обоснованным
и непосредственно
вытекающим
из
стремления к
плодотворности,
которое, как
он думал, не
может быть
совмещено ни
с каким
негативным,
направленным
на отрицание
и несущим в
себе насилие
актом. В
каждом
явлении
природной и
общественной
жизни, в
каждом факте
культурной действительности
его
интересовала
прежде всего
присущая им
потенциально
или актуально
продуктивная
сила,
возможность без
ущерба, не
поступаясь
ничем из уже
добытого,
испытать на
себе только положительное,
только
оплодотворяющее
их
воздействие.
Он
осуждал своего
друга Мерка
за то, что тот,
при всем своем
высоком
образовании,
«не был, как
казалось
Гете,
продуктивен,
наоборот, ему
определенно
свойственно
было
отрицательное
направление...
он всегда был
склонен
скорее к
порицанию, чем
к похвале, и
невольно выискивал
все то. что
отвечало
этой его склонности»
(585). Он не
замечал того,
что это
стремление черпать
из каждого
предстоящего
явления только
положительное
его
содержание,
усваивать только
то, за что мы
можем быть
ему благодарны
и что нас
подымает, способствует
нашему росту,
укрепляет
наши продуктивные
силы, будучи
возведено в
культ и
обращено в
постоянное
правило
жизни и действия,
неминуемо
превращается
в метафизическую
догму,
неадекватную
жизни и парализующую
действительную
плодотворность
деяния. Он,
так глубоко
проникший в
закон
сопряжения противоположностей
в сфере
явлений природы
геологических,
метеорологических,
ботанических
и
зоологических,
не понимал
того, что в
общественной
и
политической
жизни самые
разрушительные
действия и
процессы
могут
заключать в
себе
величайшую
положительную
и
оплодотворяющую
энергию, если
они исходят
от
общественных
сил, которых
поведение и
направ-
129
ление
активности
совпадает с
объективной
тенденцией
исторического
прогресса.
Из этой
недостойной
боязни
всякого негативного
акта,
основанной
на
одностороннем,
метафизическом
и крайне
урезанном, ущербном
понятии
продуктивности,
вытекает столь
характерное
для него
отрицание
всякой
оппозиции,
осуждение
всякой
полемики, в
какой бы
сфере
культуры они
ни проявлялись,
по какому бы
поводу они ни
развивались.
Он говорил:
«Полемические
выступления
противоречат
моей натуре,
и я нахожу в
них мало
удовольствия»
(594),
«оппозиционная
деятельность
всегда
упирается в
отрицание, а
отрицание
это ничто» (273). В
политической
действительности
это
отрицание
полемики и
оппозиции
приводило
его к самой
недвусмысленной
откровенной
защите
реакционных
законов о цензуре
и о печати. Он
говорил, что
оппозиция, не
знающая
никаких
границ,
«становится
плоской», что
«ограничения
принуждают
ее быть остроумной»
и что «это
большое
преимущество,
так как
притеснение
«возбуждает
дух» (371). В беседе
с Эккерманом
о Фогеле он
восторженно
отзывался об
одном
администраторе,
который один
был согласен
с ним
относительно
«безобразных
злоупотреблений
свободою
печати»,
называя его
человеком
твердым, на
которого
«можно
положиться» и
который
«всегда будет
на стороне
законности».
Вытекая
из
глубочайших
основ его
характера,
заложенных в
него и
укрепленных
всей обстановкой
современной
действительности,
отвращение
ко всякой
полемике и к
оппозиции
распространялось
им не только
на
политическую
жизнь, но
также и на
всю аферу
научной,
художественной
и литературной
работы.
Непосредственность
и
искренность
этого
отвращения
сообщают его
личности и
поведению
отпечаток
поразительной
верности
самому себе,
и эта-то
верность и была
ошибочно
сочтена
многими
исследователями
его жизни и
творчества
за
объективное
отсутствие
противоречий
в его
мировоззрении,
в то время
как на деле
эта
искренность
являлась
выражением и
результатом
величайшего противоречия
его
мировоззрения,
закрывшего
ему глаза на
важнейшие
стороны
жизни и сообщившего
его
суждениям, в
другой сфере столь
конкретным,
отпечаток
поразительной
неполноты и
односторонности.
Неприязнь
ко всякому
отрицанию и
ко всякой
борьбе
заставляла его
порою
сдавать
позиции даже
в сфере вопросов
науки и
философии,
где он был
вообще чрезвычайно
чувствителен
ко всяким
возражениям
и не был
склонен
мириться с
противоположными
воззрениями.
Так,
редактируя
для собрания
сочинений
свою «Теорию
цветов», в которой
он выступал
против
Ньютона и
всех господствовавших
в физике
учений, он,
обычно не
желавший
даже
выслушивать
никаких опровержений
и возражений,
обрушившийся
как-то на
несчастного
Эккермана
целым
потоком ядовитых
упреков за
проявленное
им почтительное
и робкое
сомнение в
одном из
сравнительно
второстепенных
вопросов
теории,
охотно согласился
опустить в
подготовлявшемся
издании всю
полемическую
часть (см. 594).
Восхищаясь
личностью и
деятельностью
Лессинга,
понимая всю
историческую
неизбежность
полемики и
борьбы, какую
Лессингу
пришлось
вести в свое
время, Гете в
то же время
выразительно
подчеркивает
глубокое
различие,
существующее
между ним и
Лессингом, и
высказывается
против
лессинговского
метода
испытания истины
сомнением и
противоречием
(см. 362). Требуя
от поэзии и
литературы,
чтобы она
сглаживала
житейские
невзгоды и
примиряла
людей с
житейскими
обстоятельствами
(см. 377), он сердится
на Вольтера,
говоря, что
не выносит «некоторых
его
дерзостей».
Признавая у
Платена
наличие всех
почти
свойств
хорошего
поэта
воображения,
ума,
изобретательности,
130
продуктивности,
мастерства,
он не прощает
ему его
«злосчастного
полемического
задора»,
который не
позволяет
Платену
забыть, «даже
среди
величавых
окрестностей
Неаполя и
Рима», о
«жалких
грехах
немецкой литературы».
Он говорит,
что «образы
наших врагов
превращаются
в привидения,
которые то и
дело
назойливо
вторгаются...
и могут произвести
величайший
беспорядок в
нежной и
тонко
организованной
душе поэта» (547).
Даже
своим
любимцам,
Беранже и
Байрону, он не
может
простить
духа борьбы,
непримиримого
протеста и
саркастического
отрицания,
которыми
была исполнена
их жизнь и
пронизаны их
произведения.
Не раз
защищавший
Беранже от
филистерских
нападок
своих
собеседников,
верно понимавший
глубокую
связь между
французским
поэтом и его
социально-общественной
базой, а
также верно
оценивший
общественно-политическое
значение его
поэзии, Гете,
в минуту
раздражения,
договаривается
до чудовищного,
прямо-таки
отвратительного
суждения и
одобряет
заключение
Беранже в тюрьму,
находя, что
«он получил
по заслугам»,
что «его выступления
против
короля,
государства
и благомыслящих
граждан
заслуживают
наказания»,
что его
последние
песни
«совершенно необузданны»
(437438).
Даже
Байрон, чья
личность и
поэтические
произведения
вызывали неизменное
восхищение и
преклонение
Гете, находившего,
что Байрона
нужно
принимать таким,
каков он
есть, ибо в
его
стихийной гениальности
ничего
нельзя
изменить или
переделать,
казался ему
существом
хотя и высшим,
однако
надломленным
и
опустошенным
тем же губительным
духом вечной
полемики и
вечного
отрицания. Он
находил, что
Байрон «был
бы так же
велик, как
Шекспир и
древние»
высшая похвала
в его устах,
«если бы не
ипохондрия и
отрицание» (299).
Он сожалел,
что
политические
выступления
Байрона в
английском
парламенте
недолго
продолжались,
но не потому,
что ожидал от
них великих и
плодотворных
результатов,
а лишь
потому, что
думал, будто
вынужденная,
почти
насильственно
прерванная
политическаяполемическая
и оппозиционная
деятельность
Байрона, не
изжитая и не
исчерпанная
им до конца в
полемической
жизни, должна
была
изживаться
им и разыгрываться
в различных
формах
поэтической
деятельности,
внося в его
высокую
поэзию разлагающий
дух борьбы и
оппозиции. В
этом смысле
он называл
байроновские
сочинения отрицательного
характера
«непроизнесенными
парламентскими
речами»,
говоря, что
все, что скопилось
у Байрона на
сердце
против Англии,
он должен был
носить в себе
и что у него
не было иного
средства от
этого
избавиться, как
выразить это
в
поэтических
образах и словах.
«Если бы
Байрон имел
случай весь
тот протест,
которым он
был полон,
сказал он
однажды
Эккерману,
излить в
энергичных
выражениях в
парламенте,
то он как
поэт очень бы
от этого
выиграл».
Полемическое
направление
Байрона он
считал
причиной его
гибели и
предостерегал
своих
современников,
советуя им
«сойти с
этого
прискорбного
пути» (547).
Завершением
всех этих
суждений и
взглядов
была
философия
аполитизма,
принципиальной
беспартийности
и
политического
квиетизма,
неделания,
осуществлявшаяся
Гете в течение
всей его
долгой
Старости, но
принимавшая особенно
филистерские
формы всякий
раз, когда
вести о
больших
исторических
событиях,
приводивших
в движение
массы людей,
доходили до
Веймарского
герцогства и
порождали
легкую, едва
приметную
зыбь в тихих
застойных
заводях
немецкой
общественной
мысли. Эта философия
аполитизма и
беспартийности
отражает
одно из
величайших
противоречий
жизни и
мировоззрения
Гете.
Представляя
объективно
проекцию
политического
131
бессилия,
недозрелости
и косности
немецкого
бюргерства,
которое, как
прогрессивная
политическая
сила,
вынуждено
было
поблекнуть и
отцвести
раньше еще,
чем ему
удалось
войти в силу
и пережить
свое
цветение,
философия
аполитизма
наполняла
мировоззрение
Гете неразрешимыми
противоречиями.
Мыслитель, не
только прославлявший
продуктивность
и
деятельность,
как наиболее
достойные
человека
формы существования,
но
показавший
также в практике
своей
собственной
жизни
высочайшие образцы
такой
продуктивности
в сфере науки
и искусства,
выступает как
подлинный
гаситель
активности
как раз в той
сфере,
которая
касается важнейших
предпосылок
и условий
всякого культурного
труда и
творчества.
Глубокий стяжатель
опыта и
наблюдений,
раскрывающих
природу
художественной
работы,
великолепно
понимавший,
что условием
плодотворности
всякого дела
является
самоограничение,
целеустремленность,
исключающие
многое из
того, что,
вообще
говоря,
возможно, и
оставляющие
лишь то, что
питает рост и
ведет к
намеченной цели,
он, в
непростительной
последовательности,
отклонял и
отрицал
всякую
политическую
активность,
всякое
проявление
партийности
на том
основании,
что
«односторонность»
и
«ограниченность»,
движение в
партийных
шорах,
неизбежные
якобы во
всякой
партийной установке,
лишают
предавшегося
им человека
возможности
приблизиться
к истине и
осуществить
подлинно
плодотворное
действие.
Проявив
редкую
проницательность
исторического
понимания,
открывшего
ему тесную
зависимость
всей судьбы и
всего
развития
поэзии,
искусства и
науки от
исторических
условий и
общественно-политического
устройства,
он, в непонятном
метафизическом
упорстве,
полагал, будто
возможно
полное
отделение
или обособление
искусства и
науки от
политики, а
также уверял,
будто именно
это
отделение
есть необходимое
условие
процветания
обоих.
Любя
повторять
слова
Наполеона,
сказавшего:
«политика
это судьба»,
он тут же
делал
оговорку, утверждая,
что политика
не должна и
не может быть
судьбой в
искусстве и
поэзии. Он
утверждал,
что «чисто
поэтический
материал
стоит настолько
же выше
политического,
насколько
чистые
вечные
истины
природы
возвышаются
над
партийным
мнением» (716). Он
говорил, что
«партия не
может быть
абсолютно
правой именно
благодаря
своей
партийности»
(371) и что талант,
который
довлеет
самому себе,
никогда не
служит
определенной
партии (см. 593).
Напротив, он
уверял, что у
англичан «не
имеется
собственного
разумения»,
так как-де
«рассеянная
жизнь и дух
партийности
не дают им
спокойно
стремиться к
совершенствованию»
(273), и что,
примкнув к
какой-нибудь партии,
поэт тотчас
же погибнет
как поэт: «... он
должен тогда
распрощаться
со свободою
своего духа,
с
независимостью
своих
воззрений и
надеть на
себя шоры
узкой ограниченности
и слепой
ненависти» (606).
Малейшая
примесь
политики к
какому бы то
ни было делу
заставляла
его
подозрительно
настораживаться.
Так, одобряя
развитие германских
гимнастических
обществ, он
досадовал, «что
в них быстро
проникла
всякого рода
политика» и
что власти
принуждены
были «их
ограничивать
или даже
вовсе
запретить и
закрыть» (670).
Практическая
часть его
политического
credo сводится на
нет. Она
состоит в одном
лишь крайне
простом и
крайне
реакционном
правиле,
направленном
на
безусловное охранение
существующего
политического
порядка,
правиле,
которое
заключается
в том, чтобы
«каждому
заниматься
тем делом,
для которого
он родился... и
не мешать
другим делать
свое дело».
«Пускай
сапожник
сидит за
колодкой,
поучает он,
крестьянин
идет за
плугом, и правитель
умеет
управлять» (211).
Неподра-
132
жаемая
наивность
этого
воззрения,
реакционность
которого
можно
сравнить
разве только
с известными
рассуждениями
Аристотеля,
уверявшего в
своей
«Политике»,
будто
природа
одним людям
положила
быть рабами,
а другим
свободными
(вряд ли это
сравнение
пойдет на
пользу Гете,
современника
Просвещения
и Великой
французской
революции),
выразилась в
том, что
всякий
взгляд, противоречивший
его
собственному
и признававший
за людьми
право не
мириться с
тем положением,
в которое их
поставила
судьба, казался
Гете
подлинным
филистерством.
«Говоря
прямо, писал
он Цельтеру 29
апреля 1830 года,
обращать внимание
на то, что не
наше дело,
для частного
лица
чистейшее
филистерство».
При
таких
воззрениях
Гете,
естественно,
не только не
мог по
должному
отзываться
на крупные
события
современности,
но на многие из
них вообще не
склонен был
никак
отзываться.
Здесь пред
нами
открывается
еще одно
противоречие
его жизни и
деятельности.
Необычайно
отзывчивый
на самые
разнообразные
явления
природы и
факты
общественной
жизни,
мыслитель,
который, по
слову нашего
поэта, «на все
отозвался
сердцем
своим, что
просит у
сердца
ответа»,
гордившийся
и благодарный
своей судьбе
за то, что она
даровала ему
долгую жизнь
в эпоху,
наполненную
шумом, блеском
и движением
величайших
всемирно-исторических
событий, он, в
силу
филистерской
ограниченности
и отвращения
к политике,
часто
проходил с
полным
равнодушием
мимо крупнейших
фактов
современной
жизни и истории.
В дни
начавшейся
парижской
революции он
спрашивает
Сорэ, что
думает тот «о
великом событии».
Сорэ
отвечает ему,
уверенный,
что вопрос
идет о
революции.
Но,
оказывается,
Гете и не
думает о
событиях
революции. «Мы,
по-видимому,
говорит он
Сорэ не
понимаем друг
друга,
дорогой мой.
Я говорю
вовсе не об
этих людях; у
меня на уме
сейчас
совсем другое!
Я говорю о
чрезвычайно
важном для
науки споре
между Кювье к
Жоффруа Сент
Илером; наконец-то
вынуждены
были вынести
его на
публичное
заседание в
Академии» (828). Внимательно
следивший за
всем, что
делалось в
искусстве и
науке, вплоть
до самых
последних
лет своей
жизни
перерабатывавший
и дополнявший
для
французского
издания «Метаморфозу
растений» на
том
основании,
что за
предшествовавшие
этому
изданию годы
появилось
несколько
новых работ
молодых ученых,
проливающих
свет на
вопрос, он в
иные времена
совершенно
отказывался
от чтения
газет и даже
сожалел о
времени,
потраченном
некогда на их
изучение.
Заканчивая
этот беглый очерк
политического
мировоззрения
Гете в годы
его старости,
мы далеки от
мысли осуждать
Гете с точки
зрения
нашего
времени и нашего
мировоззрения.
Историческому
материализму
чужда
морализующая
оценка человеческих
деяний и
мыслей,
имевших
место в исторических
условиях
далекого от
нас времени,
на совершенно
иной ступени
социально-исторического
развития.
Свободное от
тенденции возлагать
вину на
действия и
воззрения
отдельных
лиц и делать
их всецело
ответственными
за
заблуждения,
источник
которых коренится
не в личной
воле, а в
социальных
условиях
жизни и в
социальных
отношениях
целых
классов, историко-материалисти-ческое
исследование
не делает
исключения и
для тех
случаев, когда
носителями
заблуждения
являются великие
люди. Те
свойства и
дарования,
которые обычно
именуют
гениальностью,
могут
дораз-виться
до
подлинного
величия,
запечатлеться
в
объективных
деяниях
только при
том условии,
если
наделенный
ими человек
выражает при
их помощи
стремления,
мысли,
чувства и тенденции
общественных
сил, его
породивших и
питающих.
Великий
человек
прошлых
общественных
133
формаций
не только не
может быть
свободен от
недостатков
и
заблуждений
своих современников,
но скорее,
как было уже
сказано, следует
ожидать, что,
высоко
возвышаясь в
ряде пунктов
над своими
современниками,
активно
преодолевая
их
ограниченность,
он в
известных
гранях своей
личности,
отражающих
историческую
зависимость
свою от своей
социальной
классовой
основы,
повторит эти
заблуждения
и недостатки
и притом в огромных
пропорциях,
соответствующих
величию, сосредоточенности,
страстности
и силе его
мысли.
Поэтому,
характеризуя
историческую
обусловленность
политической
мысли Гете,
мы не имеем в
виду снизить
или
развенчать в
глазах
читателей
величие
личности и
интеллектуального
образа Гете.
В истории
культуры Гете
высится как
снежный
великан в
цепи высочайших
гор, и игра
света и тени,
контрасты ослепительной
ясности и
мрака,
взлетов и падений
только
оттеняют
реальность
его исполинского
явления.
Какие бы
заблужения ни
омрачали
этот высокий
ум, они не
могут умалить
его
непреходящее
значение. Они
доказывают
только ту
простую и
увы!
непреложную
истину, что
величайший
гений порой
оказывается
не в силах
побороть
слабости и
заблуждения,
взращенные в
нем не злым
направлением
его личной
воли, но
действием
огромных исторических
сил, перед
лицом
которых
недостаточным
оказывается
даже
гениальное
воззрение,
всей
страстью
души
обращенное к
искомой
истине.
IV.
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ,
РЕЛИГИЯ,
ФИЛОСОФИЯ
Из всех
разнообразных
сторон
деятельности
Гете далеко
не все нашли
себе
соответствующее
их значению
отражение в
«Разговорах»
Эккермана.
Литератор,
поэт,
любитель
театра и
пластических
искусств,
Эккерман не
был ни
натуралистом,
ни тем более
философом. Любовь
к природе и
известная
наблюдательность
вооружили
его
некоторыми
практическими
познаниями в
области
орнитологии;
гораздо больше
значения, чем
наивные
наблюдения над
обычаями
птиц, имел
тот факт, что
через развитие
и
культивирование
этой
наблюдательности
Эккерману
облегчался
доступ к пониманию
других, более
глубоких и на
более существенный
предмет
направленных
исследований
природы.
Может быть,
именно это
имел в виду Гете,
предлагая
Эккерману
поработать
над популяризацией
теории
цветов. И все
же из Эккермана
не вышел
исследователь
природы. Его
«Разговоры» в
существенной
части своих записей
рисуют
Гете-эстетика,
Гете-поэта.
Напротив,
Гете-ученый,
Гете-натуралист,
Гете-мыслитель
представлен
в них слабо и
неполно. Тем не
менее мы не
можем пройти
мимо этих
несовершенных
записей.
Огромная по
широте охвата,
по глубине
мысли
научная
работа Гете отбрасывает
исполинскую
тень и на эти
плоские и
невыразительные
страницы.
Даже через
несовершенную
и тусклую
мембрану
этих записей
до нашего
слуха
доходят
порой мощные
интонации
голоса Гете.
Из
дневника
Эккермана,
дополненного
записками
Сорэ,
читатель
может
вынести
известное
представление
прежде всего
об объеме
естественнонаучных
интересов и
занятий Гете.
На годы,
отраженные этим
дневником, не
падает ни
одного из тех
оригинальных
и глубоких
открытий и
исследований,
которые
создали Гете
всемирно-историческое
имя также в
области
естествознания.
Это были годы
завершения,
окончательной
редакции и
литературной
обработки
давно уже начатых
и
осуществленных
работ. И
теория цветов,
и
метаморфоза
растений и
животных, и
геологические
исследования
лежали уже
позади, как
этапы
пройденного
пути. Тем не
менее и в эти
годы, годы
глубокой
134
старости,
Гете далеко
не
ограничивался
простой
кодификацией
своего
естественноисторического
опыта. Его
деятельная,
практическая
натура,
всегда
стремившаяся
к наивысшей
возможной
для него в
данный
момент
продуктивности,
побуждала
его ко все
новым
испытаниям и
исследованиям
даже в тех
вопросах и
теориях,
которые он
считал своим
оригинальным
вкладом в науку,
своим прочно
обоснованным,
не поколебленным
никакою
критикой,
никакими
последующими
исследованиями
достоянием.
«Немного лет осталось
ему до
восьмидесятилетнего
возраста,
писал как-то
Эккерман, но
он еще не насытился
исследованиями
и
испытаниями
природы. Ни в
одной из
отраслей,
занимающих
его, он не
рассматривает
свою работу
как законченную
и готовую; он
хочет идти
все дальше и
дальше!..
Именно в этом
лучше всего
обнаруживает
он свою
вечную
неисчерпаемую
юность» (662).
Поражает
прежде всего
разнообразие
и широта всех
исследований.
Детально
занятый окончанием
крупнейших
поэтических
работ «Годов
странствования»,
второй части
«Фауста»,
высказывающий
сомнение в
том, удастся
ли ему
дописать
«Фауста»,
сомнение, по
одной
интонации
которого
можно
безошибочно
судить о том,
как страстно
ему хотелось
дожить до
этого
окончания,
Гете тем не
менее
находит
энергию и
время для
того, чтобы
одновременно
с этими
капитальными
работами
вести самые
разнообразные
естественнонаучные
работы в
области
геологии,
минералогии,
метеорологии,
ботаники и
зоологии. Он
внимательно
следит за
новейшими
открытиями в
области
физики и
химии, и
притом не
только теоретически,
по
сообщениям
журналов и
книг, но и
практически,
проверяя и
усваивая
содержание
этих
открытий
посредством
опытов. Он не
только с
изумлением
говорит о
только что
открытых в
химии
галоидных
элементах
иоде и броме,
но на глазах
Сорэ
производит
опыты с
иодом,
изучает
свойства его
паров и ставит
эти свойства
в связь с
одним из
важнейших
законов
своей теории
цветов (см. 620621). В
области
физики он
проявляет
глубокий
интерес к
открытым в
это время
явлениям поляризации
света. Он
показывает
Сорэ несколько
приборов,
изготовленных
по его собственным
рисункам, и
предлагает
произвести с
ним ряд
опытов (см. 620).
Оглядываясь
на свою
долгую жизнь,
он с
удовлетворением
вспоминает,
что никогда
не жалел
средств на
производство
всякого рода
экспериментальных
исследований,
а также на
собирание
естественнонаучных
коллекций,
истратив на
них, кроме
пяти
миллионов
собственного
состояния и
литературного
гонорара,
около полутора
миллионов,
предоставленных
в его распоряжение
царственными
меценатами
(см. 425). Приехав
в 1827 году вместе
с Эккерманом
в Иену, он
тотчас показывает
ему
анатомический
кабинет,
палеонтологические
и
антропологические
коллекции,
метеорологический
кабинет и
обсерваторию
(см. 742). Такую же
коллекцию
ископаемых,
собранных в
окрестностях
Веймара, он показывал
Сорэ в своем
собственном
веймарском
доме (см. 774).
Даже в
самые
последние
годы жизни
его не покидает
интерес к
геологии и
минералогии,
наукам, до
такой
степени его
всегда
занимавшим,
что, по его
собственным
словам, не
было такой
высокой горы,
на которую он
не взобрался
бы, ни столь
глубокой
шахты, в
которую он не
спустился бы.
В беседах с
Сорэ он с
интересом
говорит о
производившихся
в то время
исследованиях
по открытию
соляных
ключей. При
этом он
высказывает
ряд
замечательно
глубоких и
новых тогда
мыслей о
методах
горных
разведок,
настаивая на
том, что
разведки эти
должны производиться
не вслепую,
не наугад, но
на основе
учета всех
известных
науке
внешних
признаков
залегания
минеральных
пород, а
также на основе
научных
представлений
о расположении
и
направлении
135
геологических
пластов (см. 622).
Его мысль
легко
переходит к
любимым
геологическим
темам от
совершенно
других
явлений и
впечатлений.
Так, по
поводу
прочитанного
им рассказа о
переходе
наполеоновской
армии посуху
во время
отлива по дну
Красного
моря, он
развивает
ряд
интересных и
новых мыслей
о причинах
приливов и
отливов (см. 450).
Не менее
живым и
интенсивным
был у Гете
отраженный в
дневнике
Эккермана
интерес к явлениям
и вопросам
метеорологии.
В
относящихся
сюда записях
хорошо
передается
характерное
для Гете о
чем речь
будет ниже
стремление
исходить при
объяснении метеорологических
феноменов из
целого, из
единства,
лежащего в
основании
фактов, разнородность
и
разнообразность
которых, казалось
бы, не
допускают
сведения их к
общей закономерности.
Так, наблюдая
режим
облаков, порядок
их
возникновения,
он делает
наблюдение,
что облака не
приходят
издалека, но
«сразу
образуются
во всех
местах и
равномерно
движутся
всей своей
массой» (450). Это
наблюдение,
которое
возникло у
него из воззрения,
направленного
на
интегральную
картину
явления в
целом,
позволило
ему выводить
возникновение
различных
типов облачности
из общего
физического
состояния
атмосферы,
имеющего не
местный,
всего лишь
локальный и случайный
характер, но
распространяющегося
на громадные
пространства
и связанного
с общими
геофизическими
законами. В
этом смысле
он как-то
разъяснял
Эккерману,
что барометрические
состояния
Европы,
несмотря на
большие
неправильности,
наблюдаемые
в природе и
затрудняющие
открытие
общих
законов, «обнаруживают
большое
сходство» (226). По
тем же основаниям
он с особым
интересом
занимался исследованием
связи, какая,
как он думал,
существует
между
поднятием и
понижением
атмосферного
давления и
процессами
геофизического
масштаба и
порядка.
Выражая эти
свои мысли в
понятиях
несколько
метафорических
и даже
мифологических,
он говорил,
что существует
строгая, хотя
и не
улавливаемая
доселе нами,
периодическая
закономерность,
управляющая
повышением и
понижением барометра,
и называл эту
периодическую
смену «утверждением»
и
«отрицанием»
влажности.
Подобно античным
физикам, он
представлял
себе землю и
окружающую
ее оболочку
водяных
паров «как
большое
живое
существо, у
которого
вдыхание
сменяется
выдыханием».
Он называл
«утверждением
влажности»
процесс
«вдыхания», во
время
которого
«пары
приближаются
к ней»; пары
эти приходят
в
соприкосновение
с ее поверхностью
и сгущаются в
облака и
дождь (см. 358). И
он называл
«отрицанием
влажности»
противоположный
процесс,
состоящий в
том, что
земля снова
«выдыхает, и
водные пары
поднимаются
вверх, где
они
рассеиваются
в высших
слоях
атмосферы и
до такой
степени разрежаются,
что сквозь
них не только
видно солнце
во всем его
блеске, но и
вечная тьма бесконечного
пространства
представляется
яркой
синевой» (358, ср. 226).
При всей
очевидной
для
современного
метеоролога
наивности и
неполноте
этих представлений
они поражают
глубиной
основного
воззрения,
лежащего в их
основе и
состоящего
не только в
убежденных
поисках
закономерности,
руководящей
хаосом
метеорологических
явлений, но
что еще
важнее в
глубокой
догадке, что
закономерность
эта
составляет
живую
интегральную
часть общей
закономерности,
связывающей
собственно
метеорологические
процессы со
всей
историей
образования
нашей планеты
их ее геофизическими
свойствами.
Третий
круг
естественноисторических
изучений
Гете,
отраженных
дневником
Эккермана,
составляют
его
ботанические
и связанные с
ними общей
идеей
развития
зоологические
исследования.
Здесь тот же
неослабевающий
интерес, та
же неоскудевшая
энергия в
самых
136
разнообразных
занятиях и
опытах. Вот
он расхаживает
по комнате,
обвешанной
ботаническими
таблицами с
латинскими и
немецкими
именами
растений, и
заучивает их
наизусть (см. 829).
Вот он,
прибыв в
Иену, прямо
отправляется
с Эккерманом
в
ботанический
сад и
проверяет
состояние
посадок и
общее
состояние
сада (см. 732). Вот
он
возобновляет,
прибыв в
Дорнбург и
едва оправившись
от
постигшего
его горя,
свои ботанические
занятия.
Целые дни он
проводит под
открытым
небом, среди
цветов и растений.
Он ведет
«умственную
беседу с
виноградной
лозой»,
которая
«нашептывает
ему прекрасные
мысли» и о
которой он
может
«рассказать
удивительные
вещи». Полный
одушевления
и занимающих
его
естественноисторических
идей, он
излагает
Эккерману
план возобновления,
тотчас по
окончании
«Годов
странствования»,
ботанических
занятий (см. 424).
С отмечаемой
Эккерманом
«юношеской
страстностью»
он встречает
сообщение
своего друга
натуралиста
Марциуса о
сделанных им
важных наблюдениях
и открытиях
относительно
спиральной
тенденции
роста
растений. Он
безошибочно
определяет
громадное
значение,
какое вопросы
этого
порядка
должны будут
получить не
только в
сфере
физиологии
растений, но также
и в общем
учении о
физиологических
законах
роста и
развития в
органическом
мире (см. 777). Он
поощряет
крайне
осторожного
в обобщениях
Марциуса,
смело
рекомендуя
ему возвести
«открытый им
первофеномен»
в общий закон,
так как
находит, что
открывающиеся
этим обобщением
перспективы
гораздо
важнее и плодотворнее
для науки,
нежели
педантическое
индуктивное
и
аналитическое
его подтверждение
(см. 792). Глубокий
интерес,
вызванный в нем
исследованиями
Марциуса, не
покидает его
буквально до
самых
последних
дней. В своем
дневнике под
датой 15 июля 1831
года Сорэ сообщает,
что застал
Гете
погруженным
в изучение
спиральной
тенденции
растений: он
неустанно
говорит о том
значении,
какое это
открытие
должно будет
иметь в
последующем
развитии
науки (см. 839).
Помимо чисто
объективного
интереса
знакомство с
нозыми открытиями
и
исследованиями
всегда сообщало
ему новый
толчок,
вливало в его
силы новую энергию,
побуждая
заниматься
дальнейшей разработкой
собственных
воззрений и
теорий.
Привычка
идти в
изучении
природы от целого
к частностям,
а также
всеобъемлющая
широта
научного
кругозора,
обнимавшего
громадный круг
естественнонаучных
фактов и
знаний, позволяли
ему легко
сопоставлять,
усматривать
сходства и
различия,
подобия и
аналогии,
порою даже в
явлениях,
принадлежащих
к различным
сферам, не
имеющим
между собой на
внешний
взгляд
никаких
точек
соприкосновения.
Так, работы
Марциуса,
посвященные
спиральной
тенденции
растений,
также
известия и отчеты
о споре между
Кювье и
Жоффруа де
Сент-Илером
заставляют
его вновь
энергично взяться
за
дальнейшее
развитие
учения о метаморфозе
растений и
животных.
Работая вместе
с Сорэ над
подготовкой
«Метаморфозы
растений» к
французскому
изданию, он
не ограничивается
простым
переводом, но
вносит в свою
книгу ряд
дополнений.
Он вводит в
нее результаты
исследований
молодых
натуралистов,
полагая, что
соединенное
действие его
аргументов и
новых данных
будет
способствовать
выяснению
полной
истины. Даже
в последние
месяцы жизни
он живо
откликается
на новые работы
в области
ботаники.
Так, он
подвергает живой
и резкой
критике
учение
Декандоля о симметрии
растений,
называя
мысль,
лежащую в основе
этой теории,
«простой
иллюзией» и
утверждая
при этом, что
природа «не
всякому дается»,
но
ускользает
от многих «в
тот момент,
когда вы
хотите ее
схватить и
овладеть ею» (841).
Перелистывая
страницы
дневника
Эккермана, мы
получаем
представление
не только об
объеме и об
интенсивности
естественно-
137
исторических
интересов
Гете. В
записках Эккермана
отразились и
некоторые
характерные
для Гете
черты его в о
з з р е н и й на
природу, а
также
некоторые
особенности
его метода.
Уже из того,
что было
сказано о
метеорологических
занятиях
Гете, можно
вывести
известное
понятие об
основной тенденции
и об основном
принципе
натуралистических
исследований
автора
«Метаморфозы
растений» и
«Теории
цветов»: во
всяком исследовании
явлений
природы Гете
стремился
идти от целого
образа
явления, от
синтетической
связи и
взаимосвязи
фактов,
образующих
его содержание,
к уразумению
функций и
значения его
элементов и
составных
частей. «... Мы никогда
не видим в
природе,
поучал он
Эккермана,
чего-нибудь
единичного,
но видим все
в соединении
с чем-нибудь
другим, что
находится
впереди,
рядом,
позади, внизу
и вверху» (682).
Именно этот
плодотворный
принцип имел в
виду
Эккерман,
когда он
писал, что
Гете в своих
стремлениях
к изучению
природы «желал
обнять целое»
и что,
уступая профессиональным
натуралистам
в знании специальных
мелких
деталей и
подробностей,
он «жил более
в созерцании великих
общих
законов». К
Гете можно с полным
правом
обратить
известную
характеристику
Энгельса,
направленную
по адресу
античных
натуралистов
и философов.
Будучи часто
неправым,
подобно
древним
космологам,
по отношению
к науке и
метафизике в
знании
частностей,
Гете всегда
возвышался
над
метафизикой
в принципах
воззрения, в
глубоко
диалектическом
познании целого
или по
крайней мере
в
предчувствии
или в предварении
такого
познания.
Именно
из этого
принципа
вытекает
характерное
для Гете,
неоднократно
засвидетельствованное
Эккерманом,
представление
о наличии в
природе
соответствий,
обнимающих и
связывающих
явления и
процессы,
принадлежащие
к самым
различным и
разнородным,
казалось бы,
сферам
природной
жизни. Взгляд
на природу,
как на
целостность,
как на живое
единство, в
котором
различные
вещи и
процессы не
просто
механически лежат
один подле
другого, но
выражают,
каждый
по-своему,
пронизывающий
их общий принцип,
несут на себе
каждый
печать или
отблеск
исконной
целостности,
внушал Гете
глубокую
уверенность
в том, что
всякий
значительный
закон
природы,
всякое
значительное
явление
должны
повторяться
не только в
той частной
области, в
которой они
однажды были
обнаружены, и
что
возможность
встретиться
с аналогичным
явлением или
законом в
другой области
природы тем
больше, чем
адекватнее
выражает
самый этот
закон
целостную
природу
жизни. «... В этом
как раз
заключается
величие
природы,
говорит Гете
Эккерману,
что она полна
красоты и что
величайшие
явления
всегда
повторяются
в маленьких» (311).
Так, «тот же
самый закон,
который
вызывает
синеву неба,
мы видим, по
Гете, в
нижней части
горящей
свечи, в
горящем
спирте, так
же, как в
освещенном
дыме,
поднимающемся
над деревней,
за которой
лежат темные
горы» (311). В
другой раз
Гете
обращает
внимание
Эккермана на
то, что вся
деятельность
наших субъективных
актов и
процессов,
начиная от простейших
зрительных
восприятий,
например
восприятий
цвета, и
кончая
сложнейшими актами
эстетических
впечатлений,
обнаруживает
существование
некоторого
общего всем
им закона,
названного
Гете «законом
потребованного
изменения» и
состоящего в
том, что,
развившись
до известной
интенсивности,
наше
восприятие
требует
смены себя другим,
ему противоположным,
причем
требует с
такой необходимостью,
что, в случае
если в
окружающей
обстановке
объективно
отсутствует
потребное
нам
противоположное
впечатление,
оно
создается
нами самими
из материалов
нашей
субъективности.
Здесь важно
отметить не
только
диалектический
смысл этого
гетевского принципа,
но,
138
что не
менее
характерно, глубокое
убеждение
Гете в том,
что принцип
этот обнаруживается
в самых
различных
сферах бытия
и, таким
образом,
связывает
эти сферы,
как бы они ни
были
разнородны в
остальном,
цепью
соответствий
и аналогий.
Так, «закон
потребности
в перемене»
осуществляется,
по Гете, и в
явлении так
называемых
дополнительных
цветов, и в
принципе
контрастов
мажора и
минора в
музыкальных
композициях,
и в
диалектическом
чередовании
противоположностей
трагического
и
комического
в театре
Шекспира. «... Вы
видите,
говорил по
этому поводу
Гете, как все
связано
между собой и
как закон в
«Учении о
цветах»
наталкивает
на исследование
греческой
трагедии» (352).
В
специальной
сфере
натуралистических
исследований
гетевский
принцип
усмотрения
соответствий
неоднократно
позволял ему
применять
методы,
показавшие
свою плодотворную
силу в
известной
области, к
изучению
фактов в
совершенно
другой
области, если
структура
сравниваемых
явлений допускала
указание
известного
соответствия.
Так, исследуя
причины
образования
приливов и
отливов, Гете,
по
свидетельству
Эккермана,
сравнивал их
с облаками,
которые
приходят не
издалека, но
«сразу
образуются
во всех
местах и
равномерно
движутся
всей своей
массой».
Таким
образом,
предпосылка
целостности
и единства жизни,
проявляющихся
в
многообразии
ее форм,
приводила
Гете к
соответствующему
этой
предпосылке
методу
исследования
к сближению
и к
объединению
различных
областей природы,
а также
различных
ступеней ее
развития всюду,
где только
можно
обнаружить
морфологическое
родство или
морфологическое
подобие в
структуре
сопоставляемых
явлений.
Плодотворное
историческое
значение этих
принципов
неоспоримо.
Гете стоит в
ряду величайших
натуралистов,
осуществлявших
предметное и
методологическое
объединение
крупнейших отраслей
естествознания:
геологии,
минералогии,
метеорологии,
палеонтологии,
физиологии
растений и
животных.
Достаточно
напомнить
здесь, что
все развитие
теоретической
физики и
астрономии XIX
и XX веков идет
под знаком
все более и
более
прочного
объединения
макрофизики
и
микрофизики,
основанного
на усмотрении
соответствий
между
механизмом
явлений,
имеющих
место в
структуре
галактических
вселенных и
атома, в
механизме процессов
механических,
оптических,
электромагнитных,
термических
и химических.
Особенность
метода Гете
состоит в
том, что, идя
от целого к частям,
от функции к
ее
анатомическому
аппарату и
строению,
Гете
представлял
себе объединение
различных
отраслей
природоведения,
как
основанное
не на
аналитическом
расчленении
объектов,
умерщвляющем
живое и целостное
единство
явлений.
Прообразом
всех на.уч-ных
идей и
понятий Гете
была
органическая
жизнь, как
наглядное
воплощение и
нормативный
пример
искомой в
природе
целостности
и единства ее
образований.
Поэтому все
сближения и
сопоставления,
аналогии и
соответствия
Гете
основаны у
него на
данных не столько
анализа,
сводящего
объект к
абстрактному
тождеству
его
элементов,
сколько на усмотрении
морфологической
целостности тех
явлений,
которые Гете
называл
«первофеноменами»
(Urphanomen), не
допускающими,
по его мысли,
сведения к
более
первоначальным
и исконным
фактам.
Воодушевленный
идеей
морфологических
соответствий,
связывающих
различные
сферы бытия и
науки, Гете,
несмотря на
присущую ему
трезвость
воззрения,
отвращавшую
его от всякой
мистики и
всякого
идеализма, склонен
был порою
увлекаться и
переходить границы,
которыми
специфичность
некоторых
явлений и
объектов
отделяется
от остальных,
слагаясь в
относительную
самобытность,
не
допускающую
аналогий и
простых сопоставлений
с фактами,
принадлежащими
более
139
низким
ступеням
развития.
Говоря,
например, о
том, что
следует
соблюдать
осторожность
и «не
злоупотреблять»
«законом
потребности
в перемене»,
трактуя его
«как
обоснование многих
явлений»,
рекомендуя
прилагать
его только
«как
аналогию, как
пример» (352), Гете
в других случаях
склонен был
некритически
распространять
казавшиеся
ему
плодотворными
соответствия
и переносить
их не только
из одной
области
естествознания
в другую, но даже
вводить их из
сферы фактов
природы в сферу
социальной
жизни. При
этом широта
достигавшихся
таким путем
обобщений
покупалась
ценою утраты
конкретности
воззрения, а
также ценою
отказа от
характеристики'специфических
различии
между
сопоставляемыми
явлениями.
Так,
подмеченный
им в различных
сферах природной
жизни
принцип
роста «от
узла к узлу»,
завершающийся
образованием
центрального
органа, Гете
не только
распространяет
с
растительного
царства на
царство животных,
но идет
гораздо
дальше,
утверждая,
что сходный
принцип
роста и
формирования,
обнаруживающийся
в жизни
коллективов
животных, а также
в
сосредоточении
руководящих
идей, характеризующих
общество
известной
эпохи,
распространяется
на некоторых
лиц, которые,
в силу этой
концентрации,
становятся как
бы
представителями
духовных сил
нации. «Растение,
говорил он
Эккерману,
идет от узла
к узлу и
завершается
в конце
концов
цветком и семенем.
То же самое
видим мы в
животном
мире: личинка,
солитер идут
от узла к
узлу и образуют
наконец
голову; у
животных,
стоящих выше,
и у людей
позвонки
примыкают один
к другому и
завершаются
головой, в
которой
сосредоточена
вся их сила.
То, что
наблюдается
здесь у
отдельных
индивидуумов,
имеет место и
для целых
обществ
животных.
Пчелы так же
образуют ряд
отдельностей,
которые
смыкаются
друг с
другом, и вся
их совокупность
производит
своего рода
завершение, являющееся,
так сказать,
головою
целого, это
пчела-матка...».
Так и «народ,
заключает он,
производит
героев,
которые, как
полубоги, стоят
во главе его,
принося ему
благо и
защиту; так
поэтические
силы
французов
сосредоточились
в Вольтере» (424).
Уже из
сказанного
можно
вывести, что
метод натуралистических
исследований
Гете в основном
есть метод
синтетический.
В утверждении
этого метода,
как
единственно
правомерного,
сказалась
вся сила
научной мысли
Гете, но в нем
же сказались
и недостатки
и заблуждения
гетевского
учения о
природе. Сила
Гете в том,
что идя от
целостности
жизни к ее
фактам и от
целостности
ее фактов к
их структуре,
Гете
принципиально
преодолевал
заблуждения
механического
понимания. Он
вплотную подошел
к пониманию
диалектической
связи и единства
явлений
природы,
выяснил в
ряде вопросов
громадное
значение
действующего
в природе
принципа
перехода
противоположностей
друг в друга.
Стоя, по
верной
характеристике
Эккермана,
«всегда на
следу какого-нибудь
большого
синтеза» и
будучи
вооружен
воззрением,
широко
открывавшим
ему глаза на
всевозможные
проявления и
обнаружения
«единства»,
скрывающегося
за
видимостью
различных и
несоизмеримых
на
поверхностный
взгляд
явлений
природы, Гете
установил
ряд замечательных
закономерностей
в развитии
форм минерального,
растительного
и животного
миров, стягивающих
эти миры в
последовательность
единого
процесса
образования.
С другой стороны,
отчетливое
сознание
преимуществ синтетического
метода, с
помощью
которого ему
удалось
установить
столько
плодотворных
научных
истин,
законов и
обобщений,
соединившись
с
характерным
для него
отвращением
к механическому
мировоззрению,
привели его к
одностороннему
культивированию
синтеза и к
недооценке
тех выгод и
положительных
результатов,
какие
предоставляет
в
распоряжение
исследователя
метод
аналитического
экспери-
140
мента,
при условии,
если метод
этот диалектически
сопрягается
с синтезом и
не превращается
в
руководящий
принцип
мировоззрения.
Занятый
деятельным
выяснением
преимуществ
синтетического
метода,
стремясь к
осуществлению
максимальной
плодотворности
исследования
на путях
синтеза, Гете
упустил из виду,
что
односторонне
и
исключительно
противопоставленный
анализу
синтетический
метод, в свою
очередь,
превращается
в абстрактное
и неадекватное
диалектической
действительности
орудие
выяснения
истины. Все
ошибки и заблуждения
Гете в
полемике
против ньютоновской
оптики
основаны на
этой
недооценке
значения
аналитической
стороны
познания. К
этому
необходимо
прибавить,
что при увеличенной
и
односторонней,
не
сдерживавшейся
дисциплиной
аналитической
методике
культ синтеза,
как
единственно
правомерного
метода исследования,
толкал мысль
Гете в
сторону телеологии,
по крайней
мере сообщал
этой мысли
порою
оттенок
телеологического
мистицизма,
вообще столь
чуждого и
даже
ненавистного
его натуре.
«Чего стоит,
восклицает
он в одной из бесед
с Сорэ, все
общение с
природою,
если мы,
ограничиваясь
чисто
аналитическим
методом,
будем иметь
дело только с
одними материальными
частями и не
почувствуем
веяния духа,
который
каждой такой
части указывает
ее место и
каждое
выходящее из
ряда вон
отклонение
либо
сковывает,
либо санкционирует
силою
имманентного
закона» (828829).
Антитеза
синтетического
и
аналитического
методов
опиралась в
теории
познания Гете
на противопоставление
рассудка и
разума, как
глубоко
различных и
даже
противоположных
по предмету и
по установке
орудий исследования.
Стоя в
стороне от
профессиональной
философии,
Гете в этом
вопросе
подходит чрезвычайно
близко к
гносеологическим
учениям немецкого
диалектического
идеализма.
Подобно
Шеллингу и
Гегелю, Гете
убежден в
том, что рассудок,
как чисто
аналитическая
функция,
предполагающая
своим
условием
расчленение
живого
целого на
механические
элементы, не
может быть
адекватным
орудием познания.
Объектом
рассудочного
познания не
может быть живое
и
развивающееся
явление,
которое всегда
есть
синтетическая
целостность;
таким
объектом
может быть,
по Гете, лишь
мертвое
явление, в
котором
прекратились
развитие,
движение и
жизнь.
Рассудок
направлен на
неподвижное,
закоченевшее.
Его цели
чисто утилитарные,
так как, имея
предметом
мертвое, он не
может
стремиться к
действительному
познанию, но
лишь к
извлечению
практической
пользы из
результатов
своего
анализа. Напротив,
разум,
направленный
на
постижение
целостности
явления, его
синтетического
единства,
вводит нас,
по Гете, в
понимание
самой реальности.
Его
предметсама
жизнь в ее
основных
проявлениях:
в движении, в
росте, в развитии.
Его
результаты
не
извлечение
практической
выгоды, но
подлинно
адекватное
жизни знание.
«... Человек
должен
обладать
способностью,
говорит
Гете,
подняться до
высшего
разума, чтобы
коснуться
божества,
которое
открывает
себя в
первофеноменах,
физических и
нравственных,
которое
скрывается
за ними и
порождает их.
Но божество
действует в
живом, а не в
мертвом, оно
в становящемся
и меняющемся,
а не в
ставшем и
застывшем.
Поэтому и
разум в своем
стремлении к
божественному
имеет дело с
тем, что
созидает себя,
что живет,
рассудок же
обращается к
готовым,
застывшим
вещам, чтобы
извлечь из
них пользу» (425).
Наглядным
воплощением
этой
противоположности
анализа и
синтеза,
рассудка и
разума в
кругу
естественных
наук Гете
считал предметную
и
методологическую
противоположность
минералогии
и
метеорологии.
В минералогии
он видел
аналитическую
«науку для
рассудка»,
науку «для
практической
жизни». «...Ее
предметы,
говорил
141
он
Эккерману,
представляют
собою нечто
мертвое, что
уже более не
возникает и
где не может
уже быть речи
о синтезе» (425).
Напротив, метеорология,
при всей
непонятной
сложности
своих
явлений, при
всем своем
несовершенстве,
была бы в
глазах Гете
примером синтетической
науки,
апеллирующей
к разуму как
к высшему
органу
сознания.
«Предметы метеорологии,
разъяснял
Гете,
представляют,
правда, нечто
живое, что на
наших глазах
ежедневно
проявляет
созидательную
деятельность
и
предполагает
синтез...» (425426).
Та же
предметная и
методологическая
иерархия
рассудка и
разума,
анализа и
синтеза служила
для Гете
опорой при
определении
значения и
ценности
математики.
Из одного разговора,
записанного
Эккерманом,
мы узнаем,
что вопреки
тому, что
обычно ему
приписывают,
Гете вовсе не
отвергал
математики и
математического
метода. Ведя
борьбу с
механическими
теориями
жизни, он
отрицал не
математику как
таковую, но
лишь
применение
ее вне той сферы
аналитического
исследования,
внутри
которой она
чрезвычайно
плодотворна,
но за
пределами
которой она,
как наука,
имеющая
объектом
абстрактные
величины и
элементы
мертвых
механизмов,
неприменима
и неправомочна.
«Я уважаю
математику,
говорил Гете,
как самую
возвышенную,
полезную
науку, поскольку
ее применяют
там, где она
уместна, но не
могу
одобрить,
чтобы ею
злоупотребляли,
применяя ее к
вещам,
которые
совсем не
входят в ее
область и
которые
превращают
эту благодарную
науку в
бессмыслицу»
(311).
На тех же
основаниях
Гете
энергично
отвергал
всякие
попытки
объяснения
явлений органической
жизни путем
простого
отождествления
их или путем
простого
сведения
действующей
в них
закономерности
к закономерности
неорганической
природы. «... В
царстве минералов,
сказал он
как-то
Эккерману,
прекраснейшим
является
самое
простое, в
органическом
мире самое
сложное Мы
видим, таким
образом, что
оба эти мира
имеют
совершенно
различные
тенденции и
что никоим
образом
нельзя перейти
от одного к
другому,
поднимаясь
вверх, как бы
по
ступенькам» (562).
Стремясь
в своих
исследованиях
природы к познанию
исконной
целостности
и единства ее
явлений, Гете
был
чрезвычайно
далек от мысли,
будто законы,
выражающие
это единство,
могут быть
найдены
априорным
путем, усилиями
одного лишь
разума, не
опирающегося
на
наблюдения, на
опыт, на
непосредственные
свидетельства
ощущений. В
этом смысле
он говорил,
что предмет
важнее идеи,
и осуждал
ученых,
которые
подчинялись
идее вместо
того, чтобы
«сосредоточить
внимание на
самом
объекте» (353). В
его учении о
познании
чувственному
восприятию и
чувственным
ощущениям
отведена почетная
роль
непосредственной
основы всего
нашего
познания. «Я
стараюсь,
говорил он
Фальку, не
придавать
решающего
значения тем
идеям, в
основе
которых нет
чувственного
восприятия». «...
Мои
исследования,
говорил он Эккерману,
всегда были
направлены
лишь на такие
явления,
которые меня
непосредственно
окружали и
могли быть
непосредственно
восприняты
нашими
чувствами» (354355).
По его признанию,
он никогда не
занимался астрономией
только
потому, что
для ее изучения
«органов
наших чувств
недостаточно
и нужно
прибегать к
инструментам,
вычислениям
и механике» (355).
Настолько
велико было
для него
значение
непосредственных
чувственных
восприятий,
что, по его
признанию,
одним из
источников
его
способности
к постоянному
и точному
наблюдению
природы были
его упражнения
в пейзажной
живописи, т. е.
непосредственные
зрительные
восприятия
различных
явлений
природы.
142
Высоко
ценя
эмпирическую
основу в
естественноисторических
исследованиях,
он осуждал
даже
Аристотеля,
который, по
его словам,
«лучше видел
природу, чем
кто-либо из
новейших
ученых», за то,
что Аристотель
«слишком
быстро
составлял
свои мнения» (390).
Он говорил,
что к
природе, если
желаешь
чего-нибудь
добиться от
нее, «надо
подступать
медленно и
упорно» (390). Даже
придя к
какому-нибудь
мнению или
заключению,
относившемуся
к предмету
его
исследования,
он не
требовал
тотчас его
подтверждения
от природы:
наученный
опытом, что
составленное
ученым
мнение или
гипотеза
часто заслоняют
в его глазах
непосредственный
образ
предмета, он
«испытывал
это мнение»
при помощи
наблюдений и
опытов и был
доволен, если
природа была
так любезна,
что иногда подкрепляла
его «мнение»
(см. 390).
В одной
из бесед с
Эккерманом
он иронизировал
по адресу
Буха,
написавшего
книгу о
разбросанных
валунах,
которая уже
«в самом
заголовке содержит
недосказанную
гипотезу», т. е.
предвзятое и,
ничем не
обоснованное
предположение,
будто
гранитные
валуны,
находимые в различных
местах на
поверхности
почвы, «выброшены
изнутри
земли и
рассеяны по
ее поверхности
какою-то
катастрофическою
силой» (424). Поспешному
опубликованию
не
обоснованных
эмпирически
догадок и
гипотез он
противопоставляет
осмотрительность
и сдержанную
неторопливость
собственных
эмпирических
и экспериментальных
исследований.
В афоризме, заставляющем
вспомнить
один из
плодотворнейших
принципов
бэконовской
индукции принцип
воздержания
от поспешных
заключений,
он
утверждает,
что «каждое
меткое словцо»,
которое он
говорит,
стоит ему
«полного кошелька
золота», что
он затратил
«полмиллиона
личных
средств на
то, чтобы
изучить то,
что он теперь
знает». Он
осуждает
учение
Декандоля о симметрии
растений,
называя его
«простой иллюзией»,
и замечает по
его поводу,
что природа
«не всякому
дается», что
ко многим она
относится
скорее «как
задорная
девушка,
которая
привлекает
вас тысячью
чар, но в тот
момент, когда
вы хотите ее
схватить и овладеть
ею,
ускользает
из ваших рук».
Но было
бы большой
ошибкой, если
бы мы, на основе
только что
изложенных
суждений
Гете, сделали
заключение,
будто он был
ограниченным
эмпириком,
сводящим все
содержание
знания к
непосредственным
материалам и
данным
чувственных
ощущений.
Рассматривая
непосредственное
чувственное
усмотрение и
ощущение как
необходимое
условие
обладания
предметной истиной,
Гете вовсе не
считал это
условие ни
единственным,
ни
достаточным.
В опыте чувственного
восприятия
он видел
отправную точку
и
контрольную
инстанцию
знания, но никак
не его
центральное
ядро или
центральную
задачу. Он
решительно
восставал
против узкого
сенсуализма
и эмпиризма
тех ученых,
которые
«слишком
держатся за
факты и
собирают их в
бесчисленном
количестве,
что само по себе
ничего не
дает» (410). Он
утверждал,
что так как
природа
несоизмерима
и
представляет
большие
неправильности,
затрудняющие
открытие
действующих
в ней
законов, то
действительное
открытие
этих законов
может быть
только
уделом
разума,
теоретического
мышления,
способного в
многообразии
фактов
природы
адекватно
усмотреть и
открыть их
«первофеномен»
(Urphanomen), целостный
принцип их жизни
и
организации.
Подлинный
смысл и
содержание
гетевского сенсуализма
и эмпиризма
прозрачно
выступает в
беглых
замечаниях,
брошенных им
Эккер-ману по
поводу
собственных
ботанических
исследований.
Разъясняя
Эккерману,
что в
ботанике он
шел
эмпирическим
путем, Гете
тут же
говорит, что
он отнюдь не
шел путями
индуктивного
изучения
всех ботанических
родов и
видов, но
отыскивал
«то, что
является
общим для
143
всех
растений без
различия», и
таким образом
«открыл закон
метаморфозы».
«Заниматься
ботаникой,
углубляясь в
детали,
пояснял он,
не соответствовало
моим
намерениям:
это я
предоставляю
делать
другим,
которые в
этом
отношении во
многом
опередили
меня. Для
меня имело
значение
только
свести
отдельные
явления к одному
общему
принципу» (354). С
этой точки зрения
он
недостатком
современного
ему состояния
естественных
наук в
Германии считал
отсутствие
теоретического
ума, «который
был бы
способен
проникнуть в
первофеномены
и овладеть
отдельными
явлениями» (410). Изумляясь
Кювье,
«великому,
как он его
называл,
знатоку
природы»,
мастеру
изложения и
стиля,
превосходящему
всех в
экспозиции
фактов, он в
то же время
недостатком
Кювье считал
то, что он
«лишен почти
всякой
философии», что
«ученики его
будут очень
знающими
людьми, но
недостаточно
глубокими» (797). С
энтузиазмом,
заслонившим
в его глазах
значение
происходившей
в то время в
Париже революции,
он встречает,
известие о
выступлении
сторонников
Жоффруа
Сент-Илера
против Кювье.
Исторически
плодотворное
значение
разыгравшейся
между обеими
школами дискуссии
он видит в
том, что
теперь
нельзя уже
будет приостановить
успехи
«введенного
Жоффруа во
Франции
синтетического
метода
рассмотрения
природы» (828). В
изложении
воззрений
Жоффруа сн
видит
признак
торжества
разума и теоретической
мысли над
неоза-ряемой
их светом
бессвязностью
и
бессмысленностью
узкоэмпирического
исследования.
«Отныне и во Франции,
восклицает
он, дух будет
господствовать
при
исследовании
природы и
подчинит
себе
материю!» (828).
Возвышаясь
над узким
сенсуализмом
и эмпиризмом,
отделенными
от теоретического
мышления и
предоставленными
собственному
течению вне
руководства разума,
Гете отдавал
должное не
только разуму
и его
различным
функциям. Он
полагал, что
в трудном
деле
открытия
общих
законов, таящихся
за
бесчисленным
множеством
частных
фактов и
явлений
природы,
видная роль
принадлежит
кроме разума
также и
воображению.
В одной из
замечательнейших
бесед с
Эккерманом он
делает
несколько
глубоких
замечаний о роли
воображения
в
формировании
научных гипотез
и построении
теорий. Он
говорит, что без
высокого
дара
воображения
«нельзя
представить
себе
действительно
крупного
естествоиспытателя»
(793). С
диалектической
проницательностью,
которая
невольно
приводит на память
развитый
Лениным
замечательный
анализ
познавательной
роли
воображения,
Гете
разъясняет,
что'под
воображением
он разумеет
«не такую
силу
воображения,
которая
действует
наугад и
создает
всякого рода
несуществующие
вещи; я
разумею силу
воображения,
которая не
покидает
действительной
почвы земли и
с масштабом
действительного
и познанного
подходит к
вещам чаемым
и
предполагаемым»
(793). Как бы в
опровержение
возможного
неправомерного
истолкования
своей мысли в
духе модного
в
современной
буржуазной
философии «фикционализма»,
он
подчеркивает,
что при использовании
представлений
и понятий,
создаваемых
с помощью
воображения,
требуется
исследовать,
«возможно ли
это чаемое и
не находится
ли оно в
противоречии
с другими,
уже известными
законами» (793).
Глубокое
отвращение
ко всякому
мистицизму,
убеждение в
том, что
контрольной
инстанцией
знания,
направленного
на
«первоявления»,
должно быть
непосредственное
чувственное
восприятие, а
также в том,
что между
идеями
разума и
данными
чувственного
опыта не
должно быть
противоречий,
внушали Гете
стремление
строго различать
во всех
исследованиях
природы объекты,
доступные
нашему
изучению, и
объек-
144
ты,
которые, как
ему казалось,
не могут быть
предметом
познания. Из
этой
тенденции,
подкрепленной
вдобавок
изучением
кантовской
«Критики
способности
суждения»,
возник ряд
формулировок
и тезисов
Гете,
заключающих
в себе
известную
долю
агностицизма,
т. е. философского
учения о
принципиальной
непознаваемости
известной
стороны
вещей. С другой
стороны,
характерная
для Гете
непосредственность
и даже
известная
наивная беспечность,
с какою он
выражал свои
воззрения, нисколько
не заботясь
об уточнении
их
философского
смысла и о
выработке
строго
адекватной им
философской
терминологии,
не только чрезмерно
сгущали
присущий его
мысли оттенок
агностицизма,
но даже порою
совершенно скрывали
от взоров
читателя
истинный источник
этих
неосторожных
и философски
некорректных
высказываний.
А между тем
простое
отождествление
воззрений
Гете с
агностицизмом
кантовского
или
юмовского
типа было бы
так же
неверно, как
и полное
игнорирование
известной
тенденции к
агностицизму,
несомненно у
Гете прорывающейся.
При
анализе
относящихся
сюда
суждений Гете
необходимо
учитывать не
только
прямой смысл
его
высказываний,
но прежде
всего тенденцию,
ими
выражаемую, а
также
исходные точки,
их
порождающие.
Для Канта
учение о теоретической
непознаваемости
вещей в себе
было лишь
способом
дискредитации
разума в
пользу веры,
которая,
отвергнув, на
основе
агностицизма,
всякую
теоретическую
критику
своих
объектов,
получала
возможность
опереться в
своих
притязаниях
на «практический»
разум и,
таким
образом,
через субъективную
сферу
нравственного
сознания прийти
к убеждению в
бытии бога,
души и в бессмертии.
Напротив, в
устах Гете
формулы агностицизма
имели целью
скорее, с
одной стороны,
оградить
исследование
природы от
всяких
покушений
мистицизма и
теологии, с
другой же
стороны,
отразить и
притязания
априорного
рационализма,
втискивающего
конкретную
сложность
явлений
природы в
узкие рамки
своих
предвзятых
понятий. Это
различие тенденций,
выражаемых
учениями
агностицизма
у Канта и
Гете,
особенно
резко
бросается в
глаза при
сопоставлении
суждений
обоих о
религии.
Тезис
непознаваемости
в устах Гете
всегда
обращен
своим
острием
против
попыток обсуждать
вопросы о
религиозных
предметах;
тезис этот
есть своего
рода узда,
которой Гете
стягивает
уста
религиозной
метафизики
или склоняющегося
к мистицизму
натурфилософство-вания.
В этом
смысле надо
понимать все
те суждения
Гете, в
которых он
настаивает
на необходимости
всегда
строго
держаться
лишь того, что
доступно
познанию. «В
природе,
утверждает
он, имеется
доступное и
недоступное,
это следует
различать,
понять и
уважать» (359). Он
говорит, что
трудно
усмотреть,
«где прекращается
одно и
начинается
другое», и что
«тот, кто
этого не
знает, иногда
всю жизнь мучается,
стремясь
постичь
непостигаемое,
и при этом
нисколько не
подвигается
к истине» (359).
Напротив,
знающий это
различие
«останется в
пределах
постигаемого;
исследуя эту
область во
всех
направлениях
и укрепляясь
в ней, он
может кое-что
отвоевать и у
непостигаемого,
хотя,
прибавляет
Гете, при
этом ему
придется в
конце концов
признать, что
здесь многое
может быть понято
лишь до
известной
границы и что
природа
всегда таит в
себе нечто
проблематичное,
не
поддающееся
разгадке
силами человеческого
разума» (359).
Впрочем,
было бы
недостойной
идеализацией
образа Гете,
если бы мы
сделали
попытку
совершенно
снять с него
бремя упрека
в
агностицизме.
Если в ряде
мест он с
ясностью, не
оставляющей
места никакой
двусмысленности,
имеет в виду
нанести удар
притязаниям
поверхност-
145
ного
рационализма
и
антинаучной
мистики, то
во множестве
мест его
формулировки
оставляют
желать
многого, если
не по сути
выраженных в
них
тенденций, то
по крайней
мере по
точности и
адекватности
своего
выражения. В
ряде случаев
формулы эти
несомненно
приближают Гете
не только к
бесплодному
агностицизму
автора
«Критики
чистого
разума», но и к
старым «космологическим»
и
«физико-телеологическим»
аргументам
отвергнутой
даже Кантом
теологии.
В этом
смысле он по
поводу
наблюдений
над нравом
кукушки
уверяет,
будто
природа «в высшей
степени
проблематическая
натура»,
будто она
«очевидная
тайна»,
которую «не
легче
разгадать от
того, что она
очевидна» (744),
будто «мы все
бродим среди
тайн» и
«окружены атмосферой,
о которой еще
вовсе не
знаем, какие
силы
действуют в
ней и как они
связаны с нашим
собственным
духом» (739). Он
утверждает,
что «разум
человека и
разум божества
это
различные
вещи», что не
хорошо
человеку
«прикасаться
к
божественным
тайнам» и что
человек
«рожден не
для того,
чтобы
разрешить
проблему
мира, но для
того, чтобы
изыскать, где
начинается
проблема, и
держаться
затем в
границах
постигаемого»
(286).
От
приведенных
высказываний
прямой переход
не только к
принципиальному
агностицизму,
но и к
созерцательной
мистике
религиозных
спекуляций.
При всей
очевидности
своих
антимистических
тенденций,
Гете все же
широко
открывает
мистицизму
дверь, утверждая,
будто наука
на такой
планете, как
наша,
является
только в виде
отрывка;
наблюдения,
все вообще и
каждое в
отдельности,
остаются
неполными и
восполняются
только при
помощи веры.
«Божественную
простоту»
первичных
явлений он
предлагает
не разрушать и
не
повреждать
бесполезными
разысканиями,
предоставить
их вере и
разуму. В
этом же смысле
он говорил
как-то
Эккерману,
что высшее,
на что
способен
человек,
«есть
изумление; и
если
первофеномен
заставляет
его изумляться,
он должен
этим
удовольствоваться;
ничего более
высокого он
не в
состоянии
ему доставить,
и ничего
скрывающегося
за ним нельзя
искать; это
граница» (427428).
Указанными
срывами в
агностицизм,
впрочем,
исчерпывается
то, что можно
назвать гетевскими
компромиссами
по отношению
к теологии.
За исключением
этих
компромиссов,
в целом религия
Гете
выдержана в
тонах
чистейшего
натурализма.
В одной из
откровеннейших
бесед с
Эккерманом
Гете, пытаясь
сформулировать
различие,
существующее
между его
взглядами на
религию и
точкой
зрения,
принятой
церковным вероучением,
сам
определил
свою религию,
как род
натурализма.
«Имеется
точка зрения,
что
существует
своего рода
перворелигия,
разъяснял
он Эккерману,
что природа
и разум, в их
чистоте,
имеют
божественное
происхождение.
Эта точка
зрения
останется
вечно неизменной;
она будет
существовать
и признаваться
до тех пор,
пока на земле
сохранятся
одаренные
богом
существа» (846).
Растворяя
понятия
религии в
воззрениях натурализма,
Гете,
естественно,
всего более тяготел
к учению С п и
н о з ы, в
котором
«точка зрения
чистой
природы и
разума» нашла
наиболее
глубокого
представителя.
«Такую высшую
точку зрения,
замечает
Эккерман,
Гете давно
уже нашел у
Спинозы и с
радостью
убедился,
насколько
взгляды
этого
великого
мыслителя
отвечали его
запросам уже
в юности. Он
нашел в нем
самого себя и
обрел в его
воззрениях
наилучшую
для себя
опору» (566).
И
действительно,
во всех
сравнительно
редких-случаях,
когда,
вынуждаемый
собеседниками,
Гете говорит
о боге,
предмет его
мысли или
растворяется
в категориях
натурализма,
или же
оказывается
146
простой
метафорой,
выражающей
уже известные
нам мысли
Гете о
действенной
продуктивности,
как о высшем
принципе
жизни и развития.
В этом смысле
Гете
определял
божестве, во
время
прогулки с Эккер-маном
по
Эрфуртской
дороге, как
«само ... рассудок,
само ... разум»,
которым
проникнуты все
творения, и
отклонял
вопрос о том,
«имеет ли это
высшее
существо
рассудок и
разум» (562). На
том же
основании,
отклоняя как
мистические
вопросы о
бессмертии,
Гете, как мы
уже видели
выше, выводил
убеждение о
необходимости
бессмертия
отнюдь не из
религиозных
вероучений,
но из характерного
для него
«понятия
деятельности»,
полагая, что
если не всём
людям, то по
меньшей мере
тем, кто без
отдыха
работает всю
жизнь до
конца,
«природа
обязана
дать... иную
форму существования»
(417), что высокие
душевные силы
никогда не
могут быть
уничтожены и
что Дух, в нас
действующий,
вечен
подобно
солнцу, «заход
которого
существует
лишь для
наших земных
глаз, но
которое,
собственно,
никогда не
заходит и
непрестанно
продолжает
светить» (238).
Тот же, не
теологический,
но вполне
метафорический,
насквозь
натурализмом
пропитанный
смысл имеют
суждения
Гете о
«вездесущии
божием» по
поводу
рассказа
Эккермана об инстинкте
кормления у
птиц (см. 748750) и о
«божественной
силе любви в
природе» по
тому же
поводу,
спустя
четыре года
(см. 597).
Избегая
вступать в
откровенные
конфликты с
теологией,
Гете
неизменно
оставался верен
своей
натуралистической
религии, граничившей
с атеизмом и
откровенно
возвышавшейся
над всеми
конфессиональными
догматами и
над
абстракциями
рационалистического
деизма. Не
желая отвергать
подлинность
евангелий, не
по соображениям
исторической
достоверности,
но по впечатлению
от личности
Христа, в
котором он
видел «божественное
откровение
высшей
основы нравственности»,
Гете тут же с
полной
откровенностью
признавался,
что в той же
мере, в какой он
почитает
Христа, ему
свойственно
почитание
солнца, как
могучего
природного
источника
жизни и
энергии. «И
если меня
спросят, говорил
он Эккерману,
соответствует
ли моей
натуре
поклоняться
солнцу? Я
скажу: конечно!
Ибо это тоже
откровение
высшего
начала и притом
самое мощное
из всего
того, что
дано воспринимать
нам, детям
земли. Я
преклоняюсь
в нем свету и
производящей
силе божества,
благодаря
которым мы
живем й
действуем, а
вместе с ними
так же
растения и
животные» (847).
Не
свободный от
духа
филистерский
почтительности
к основному
понятию
теизма, Гете становится
жестким и
саркастическим,
как только
приходит в
соприкосновение
с
проявлениями
клерикализма
и вероиспо-веданной
ограниченности.
Его суждения
о церкви
проникнуты
духом
критики и
верного понимания
политической
основы
церковной организации,
деятельности
церкви и ее
идеологии. Он
отмечает
историческое
плодотворное
значение Лютера
и реформации,
благодаря
которой немцы
«освободились
от оков
духовной
ограниченности»
(848), и он тут же
замечает, что
взятая в
разрезе
своего
теоретического,
а не исторического,
значения
точка зрения
церкви «немощна,
неустойчива
и подвержена
изменениям» (846).
По
собственному
признанию, он
в течение более
чем
пятидесяти
лет изучал
историю церкви.
При этом
изучение его
было
направлено не
столько на
самые
догматы и
идеологии сколько
на реальную
политическую,
по его мнению,
основу
церковной
жизни и истории.
С этой точки
зрения он
даже не
находил ничего
удивительного
в том, что
церковные догматы
и
постановления
заключают в
себе так
много
нелепого. Он
разъяснял,
что церковь
«хочет
господствовать
и должна
удерживать в
147
своих
руках
ограниченную
толпу, которая
охотно
преклоняется
и желает,
чтобы над ней
господствовали»
(847).
Он
особенно
глубоко
проник в
политические
основы
католицизма,
и его
суждения о
скрытом
политическом
влиянии
католического
духовенства
обнаруживают
историческую
проницательность.
Он замечает,
что высшее,
пользующееся
богатыми
доходами
духовенство
«ничего так
не боится,
как
просвещения
масс» (847), а
упорное
нежелание
епископов
разрешить
мирянам
свободное
чтение
Библии
объясняется
боязнью обнаружить
противоречие
между
действительным
образом
жизни
феодального
духовенства
и тем поведением,
которое
предписывается
ему евангелиями.
«В самом деле
иронически
замечает он,
что должен
был подумать
бедный член
христианской
общины о
царственном
великолепии
богатого
епископа,
прочтя в
евангелии о
бедности и
нужде Христа,
который со
своими учениками
скромно
ходил пешком,
в то время, как
князь-епископ
разъезжает в
карете, запряженной
шестериком!» (848).
Если
рассмотренный
нами
агностицизм
Гете в
известной
мере толкал
его мысль в
сторону
религии и религиозной
метафизики,
то другой
стороной он
сближал Гете
с философией.
И действительно,
свое
убеждение в
постижимости
природы
вещей Гете
высказывал
не столько в
терминах
религиозного
преклонения
перед неисповедимостыо
высшего
существа,
сколько в понятиях
теории
познания,
усвоенных им
не без помощи
кантовского
учения.
Впрочем, это
соприкосновение
Гете с
философией
было
чрезвычайно
своеобразно.
Оно никогда
не
превращалось
в длительный
и прочный
союз, никогда
Гете не
пытался, как
это делал
некогда
Шиллеру выступать
в роли
пропагандиста
философских
учений и
теорий. Один
из наиболее
глубоких по
идейной
насыщенности
поэтов
мировой литературы,
Гете вовсе не
был склонен
сообщать
своим мыслям
чекан
строгих
философских
понятий.
Более того, в
своем
субъективном
самосознании
он скорее
чувствовал
себя
совершенно
чуждым
философии и
всему строю
философского
мышления. Он
всегда
держался в
стороне от
философии,
его
философской
позицией была
«точка зрения
здравого
человеческого
рассудка», и
он был того
мнения, что
искусство и наука
«всегда
наилучшим
образом
процветали
помимо
философии на
почве
свободного развития
естественных
человеческих
сил» (414).
Основания
чрезвычайно
сдержанного
отношения
Гете к
философии
далеко не
просты и не
легко
поддаются
определению.
Из сложного
клубка
относящихся
сюда мыслей
некоторые
отчетливо
выделяются в
записях
Эккермана.
Один из
главных
мотивов
гетевского
равнодушия к
философии
глубоко
заложен в
самой основе
его
мировоззрения.
Мотив этот
уже известное
нам
отвращение
Гете ко всему
трансцендентному,
ко всякому
исследованию,
которое
полагает
свои объекты
лежащими вне
области конкретных
познавательных
сил человека
вне чувственности,
воображения,
рассудка и разума.
Ценя только
плодотворное
познание, способное
реализовать
познаваемое
в опыте, Гете
оставался
совершенно
холоден к
исследованию
таких вещей,
которые, по
самому
понятию о
них, не
допускают
познавательного
испытания и
проверки
средствами
опыта. Он был
убежден, что,
если
познание
плодотворно,
объект его не
может быть
трансцендентным
опыту и эмпирическим
познавательным
способностям.
Напротив,
если предмет
знания
трансцен-дентен
опыту, ему
казалось
совершенно
непонятным,
каким
образом
знание о
таком предмете
может быть
плодотворным,
т. е. вообще быть
знанием, а не
всего лишь
бесплодным
мечтанием,
лишенным
всякого
основания и
всякого практического
значения.
На этих
мотивах
основывается
высокое уважение
Гете к
философии
148
Канта. В
значительной
мере оценка
кантовской
философии
была у Гете
неадекватна
действительному
смыслу и
действительным
тенденциям
критицизма.
Тот Кант,
которого
почитал Гете,
был Кант,
истолкованный
в духе гетеанства,
преломленный
через
восприятие и
сознание
самого Гете,
короче
говоря Кант
неисторический.
В Канте Гете
высоко ценил
то, что он
хотел в нем
найти и
видеть, борца
с призраками
трансцендентных
вещей, сторонника
плодотворного
познания в
сфере опыта и
на основе
эмпирических
способностей
познания. От
взглядов
Гете,
по-видимому,
укрылся тот
факт, что
критика
Канта была не
столько
борьбой с
иллюзиями
трансцендентной
метафизики,
сколько
скептическим
обоснованием
веры в
трансцендентные
вещи. От
Канта Гете
взял лишь то,
что
импонировало
его собственной,
деятельной и
к
плодотворному
действию
стремившейся
натуре:
критику
всякого познания,
направленного
на объекты,
которые не могут
быть
реализованы
в опыте. Но, в
то время как
для Гете
такие
объекты были
вполне мнимыми,
не только с
точки зрения
возможности познания
их, но прежде
всего с точки
зрения их
реального
бытия, для
Канта,
напротив, сама
реальность
этих
объектов,
трансцендентных,
по его
мнению,
всякому
эмпирическому
исследованию,
повышала
ценность
веры, призванной
восполнить
тот пробел,
который оставался
недоступным
для
теоретического
разума.
Это
различие
между
стихийным
материалистом,
автором
«Фауста» и
«Прометея», и
принципиальным
дуалистом
Кантом вряд
ли сознавалось
самим Гете.
Скорее он
склонен был
несколько
преувеличивать
свое
согласие с Кантом
и свое
уважение к
этому
мыслителю. На
вопрос
Эккермана он
категорически
заявляет, что
Кант лучший
среди новых
философов, что
его учение
«наиболее
действенно» и
что он «глубже
всех проник в
немецкую
культуру» (362). В
другой раз он
сказал
Эккерману,
что «Кант
бесспорно
принес
наибольшую
пользу,
указав границы,
до которых в
состоянии
проникать человеческий
ум, и тем
самым
отодвинул в
сторону
неразрешимые
проблемы» (474). Из
книг Канта
Гете
рекомендовал
Эккерману
для изучения
«Критику
способности
суждения»,
находя, что в
ней Кант
«прекрасно
разбирается
в риторике,
сносно в
поэзии и
совершенно
неудовлетворительно
в
изобразительном
искусстве» (362).
Чрезвычайно
любопытны
основания, из
которых у
Гете
вырастала
высокая
оценка Канта.
Как уже было
указано,
основания
эти едва ли вытекали
из
адекватного
понимания
кантовской
философии.
Скорее в них
отразились запросы
и склонности
мысли, характерные
для самого
Гете.
В глазах
Гете одна из
важнейших
заслуг Канта
состоит в
том, что Кант
осуществил
отделение
субъективной
стороны
познания от
объективной
(см. 362). По мысли
Гете,
отделение
это имело
целью
гарантировать
объективный
смысл знания,
оградить его
от искажений,
привносимых
субъективностью.
Что Гете
именно так
понял Канта,
видно из
одного его
замечания по
поводу теории
цветов, где
он
выразительно
говорит о роли
субъекта в
восприятии
явлений.
Другой источник
внимания
Гете к Канту
борьба против
телеологии.
Из изучения
«Критики
способности
суждения»
Гете вынес
впечатление,
что его
объединяет с
Кантом общее
им обоим отрицательное
отношение к
телеологии,
т. е. к учению,
рассматривающему
формы
органической
и
неорганической
природы так,
как если бы формы
эти были
созданы ради
осуществления
каких-то
наперед им
начертанных
целей или
функций.
Стремясь в
своей
«Метаморфозе
растений»
изгнать из
исследования
природы всякую
телеологию,
Гете живо
ощущал свою
близость к
Канту,
который,
исходя из
других оснований,
а именно: из
критической
теории
познания, с
не-
149
меньшей
энергией
отвергал
применение
телеологической
точки зрения
при изучении явлений
природы.
«...Воззрение,
что каждое творение
существует
для самого
себя и что пробковое
дерево
растет
совсем не для
того, чтобы
было чем
закупоривать
бутылки, это
у меня общее
с Кантом,
говорил
Гете, и я
очень рад,
что на этом
мы сошлись» (362).
При
свойственной
ему
склонности
рассматривать
познание с
исторической
точки зрения,
Гете находил,
что и
телеология есть
исторически
необходимая
ступень в развитии
воззрений
человека на
природу. Источник
телеологии
он видел в
естественном
практическом
антропоцентризме
человеческого
мышления, в
природной
склонности
«рассматривать
себя, как
цель
творения, а
все прочие
вещи лишь в
отношении к
самому себе и
лишь постольку,
поскольку
они ему
полезны и
вредны» (558). Перенесение
этого
привычного
взгляда из жизни
в науку и
создало бы,
по Гете,
телеологическое
воззрение,
которое
заходит так
далеко, что
даже,
«рассматривая
отдельные
части
органического
существа,
тотчас же
ставит
вопрос об их
назначении и
пользе» (558).
Как ни
натурально
телеологическое
воззрение,
оно есть, по
Гете,
низменная и
совершенно
несостоятельная
точка зрения,
соответствующая
лишь
примитивным
стадиям развития
науки и
тотчас
падающая с
переходом к
более
высоким и
совершенным
ступеням
познания: «...
очень скоро
наталкиваешься
на явления,
говорит Гете,
для
понимания
которых такой
примитивный
взгляд
недостаточен,
и при отсутствии
более
высокой
точки зрения
запутываешься
в
противоречиях»
(558).
Сторонники
телеологического
воззрения говорят,
например: у
быка рога
существуют для
защиты. «Но я
спрашиваю,
возражает
Гете, почему
их нет у овцы?
И если они
есть у
барана, то
почему они
закручены у
него около
ушей, так что
ни к чему
непригодны?
Совершенно
иное будет,
если я скажу:
бык
защищается
рогами, потому
что они у
него есть» (558),
По Гете,
всякий
вопрос о цели
какого бы то
ни было
образования
или явления
природы «совершенно
не научен». «...
Значительно
дальше,
говорит Гете,
продвигает
нас вопрос как.
Если я
ставлю
вопрос: как
растут рога у
быка, то это
приводит
меня к
рассмотрению
его организации,
и я вместе с
тем узнаю,
почему у льва
нет и не
может быть
рогов» (558).
В своих
исследованиях
явлений
метаморфозы
растений, а
также в
исследованиях
развития
черепа из
позвоночника
Гете видел
конкретные
примеры
применения
антителеологического
метода,
исследующего
реальные функции
органов и
историю их
возникновения
вне вопросов
об их целях
или
назначении. «В
черепе человека,
разъяснял
он
Эккерма-ну,
есть две пустых
пазухи.
Вопрос зачем
не сдвинул
бы меня здесь
с места,
тогда как вопрос
как учит
меня видеть в
этих пазухах
остатки животного
черепа; у
животных при
более низкой
организации
они имели
более
сильное развитие,
но и у
человека,
несмотря на
высоту его организации,
еще не совсем
исчезли» (559). Тем
же антителеологическим
методом Гете
пользовался
при
объяснении
перехода
одних органов
и частей
растений в
другие. «Мою
«Метаморфозу
растений» я
написал,
объяснял он
Эккерману,
раньше, чем я
что-либо знал
о Канте, и все
же она
совершенно в
духе его учения»
(362).
Как было
уже сказано,
одна из
главных
причин
крайне
сдержанного
отношения
Гете к философии
заключалась
в отвращении
Гете ко всему
мистическому,
трансцендентному.
Это
отношение не
только
отдаляло его
от разгула
метафизической
спекуляции,
но, как мы
видели,
способствовало
знакомству и
даже
сближению
его с
философией в
основном
столь ему
чуждого
Канта, в
котором Гете
чтил
созданный в
значительной
мере
150
его
собственной
интерпретацией
и неадекватный
действительности
образ борца
против
мистической
теологии и
телеологического
идеализма.
Отвергая
трансцендентные
предметы,
Гете чрезвычайно
неодобрительно
относился к характерному
для
современной
ему Германии
подчинению
философии
опеке
религии и
теологической
метафизике.
При своем
громадном уважении
к личности
Гегеля и его
научным заслугам
Гете не
прощал
Гегелю
«нечестный прием»,
то, что
Гегель
склонен был
«вовлекать в философию
христианскую
религию,
которая с ней
не имеет
ничего
общего». Он
утверждал,
что философ
«не нуждается
в
религиозных
догматах,
чтобы
доказать
известные
учения» (414), хотя
бы это были
такие учения,
как о
бессмертии души
и вечной
жизни. Не
отрицая за
человеком права
постановки
вопроса о
бессмертии,
Гете
утверждал в
то же время,
что если философ
основывает
бессмертие
души на религиозном
предании, то
«это слабо и
ничуть не
убедительно».
Сам он
предпочитал,
как мы уже
знаем,
выводить
относительное
бессмертие
личности из
таких
реальных
оснований, как
непрерывность
деятельности,
свойственной
высшим
натурам и
неуничтожимой
сполна в
своих
результатах.
Не менее
веским
мотивом,
умалявшим в
глазах Гете
ценность
гегелевской
философии, был
разгул
схоластической
диалектики,
начавший
распространяться
еще при жизни
Гегеля и Гете
в германских
университетах,
в
философской
и научной
литературе. К
личности
самого
Гегеля Гете
относился с неизменным
высоким
уважением и
удивлением.
Сообщая в
записи от 18
октября 1827
года о прибытии
Гегеля в
Веймар и о
посещении им
Гете,
Эккерман
замечает, что
самого
Гегеля «Гете
лично
уважает».
Гете
особенно
высоко ставил
Гегеля, как
критика, и в
частности
его суждения
о
деятельности
и о
сочинениях
Гамана (см. 427).
Но в то же
время,
воздавая
должное
гениальной
личности
Гегеля, Гете со
сдержанным
осуждением
смотрел на
деятельность
гегелевской
школы в
целом. Мотивы
этого
отрицательного
отношения
довольно
сложны.
Несомненно
одним из
важнейших в числе
их следует
признать принципиальную
недооценку
значения диалектики
как метода исследования.
Глубокий
исследователь
«полярности»,
единства
противоположностей
в природе,
восхищавшийся
педагогическими
принципами магометанской
школы, в
которой
сообщение и
усвоение
известного
положения
немедленно
сопровождается
усвоением
положения, противоречащего
первому, Гете
не отдавал
себе
теоретического
отчета в
принципиальной
основе того метода,
которым он
сам, в своих
лучших
исследованиях,
так удачно
пользовался.
С другой стороны,
абсолютная
виртуозность
диалектической
трактовки
вопросов,
вырождавшаяся
под руками
иных
учеников
Гегеля в
бесплодную схоластическую
игру
диалектических
понятий и
антитез,
далекую от
действительности
предмета,
отталкивала
живой и
деятельный
художественный
ум Гете, для
которого конкретность
созерцания
являлась
необходимым
условием предметной
истины.
Сторонник
конкретного
испытания и
проверки
истины,
чуждавшийся
занятий
астрономией
только на том
основании,
что для них
недостаточно
непосредственных
данных
восприятия и
непосредственной
работы
мышления, но
приходится
прибегать к
помощи опосредствующих
вычислений,
оптических и
иных
приборов,
Гете не
чувствовал
ни малейшей
охоты
увлекаться
исследованиями,
в которых
конкретный
образ
предметной
истины исчезал
в паутинной
сети
отвлеченнейших
и порою
совершенно
произвольных
понятий и
противопоставлений.
В беседе
с Гегелем он
в вежливой и
тонкой форме
дает понять
своему
великому
собеседнику,
что
диалектика,
под которой
Гегель разумеет
«урегулированный
и
методически
разработанный
дух
противоре-
151
чия», в
применении
многих
представителей
гегелевской
школы, из
умения
различать
«истину от лжи»,
чем она
должна быть
по своей
идее, превращается
в
софистическое
искусство
«истинное
представить
ложным, и
ложное
истинным» (752753). В
ответ на
реплику
Гегеля,
разъяснившего,
что подобные
извращения
метода нетождественны
самой
диалектике,
но являются
лишь
диалектическими
болезнями,
Гете с
радостью
возражает,
что
непосредственное
изучение
природы
всегда
предохраняло
его от таких
диалектических
болезней, так
как
предметный
характер
исследования
немедленно
отделяет
здесь истину
от
заблуждения,
выбрасывает
вон все
негодные
заключения и
оставляет
только
подтвержденные
и испытанные
в своей
истинности.
Из
сказанного
ясно, что в
диалектической
школе Гегеля
Гете
отвергал не
самый метод усмотрения
противоречий,
но лишь отрыв
диалектического
исследования
от предметного
основания,
формалистическое
вырождение
диалектики,
иначе
схоластику и
софистику
лжедиалектического
фокусничества,
игру и
жонглирование
беспредметными
диалектическими
понятиями и
терминами.
Именно в этом
смысле он
упрекал
как-то
Эккермана за
то, что тот
«совсем
запутался в
диалектике»,
т. е. оказался
во власти
предвзятых и
беспредметных,
не из самого
объект?
почерпнутых
измышлений и
абстракций
(см. 433).
Абстрактный
и
схоластический
характер гегельянщины
неразрывно
связывался в
наблюдениях
Гете с
дурными
впечатлениями
от языка и
изложения
авторов,
принадлежащих
к
гегельянской
школе.
Художественному
вкусу Гете
невыносимо
претили
особенности
литературного
стиля
гегельянцев,
превращавших
чтение их
философских книг
в трудное и,
даже при
наилучших
намерениях,
дурно
вознаграждаемое
занятие.
Делясь с
Эккерманом
своими
впечатлениями,
вынесенными
от чтения
книги
гегельянца Гинрихса,
автора
эстетического
трактата об
античной
трагедии,
Гете
отмечает не
только
полное отсутствие
у автора
самостоятельности
мысли и
воззрений,
предвзятость
и предрассудки
гегельянской
школы, но
также
«искусственный,
тяжеловесный
способ
мыслить и
выражаться»,
множество
мест, «где
мысль не
движется ни
взад, ни
вперед и где
темная речь
вертится все
на том же
самом месте,
все по тому
же самому
кругу, точь в
точь как
ведьмы в моем
«Фаусте»,
когда они
считают» (686).
Отвращение
к указанным
сторонам
гегельянства
и
гегельянщины,
опасение
утратить в тенетах
диалектических
тонкостей и
вымученных
хитросплетений
ощущение
живой
реальности
самого
предмета
исследования
толкали
порою Гете на
суждения,
которые на
первый
взгляд могут
показаться
плоскими и
превратными
в философском
смысле и в
которых он, в
противовес
диалектике,
объявляет
себя
сторонником
философии
«здравого
человеческого
рассудка». Из
этой
психологической
и
эстетической
реакции
против
гегельянства
возник его
отзыв о книге
Шубарта, в
которой он
приветствует
мысль, что
искусство и
наука должны
идти своим
путем,
независимо
от философии
и опираясь на
точку зрения
здравого
смысла (см. 414).
Впрочем,
суждения
Гете о
философии,
представленные
книгой
Эккермана,
чрезвычайно
фрагментарны
и случайны.
Нехарактерность
их
объясняется
не только
отсутствием
у Гете
деятельной
рефлексии о
философии
как таковой,
но также в
значительной
мере
неподготовленностью
и
некомпетентностью
самого Эккермана.
Не через
«Разговоры»
Эккермана
лежит путь,
на котором
можно
овладеть
высотами философской
мысли Гете.
Путь этот
проходит через
«Прометея»,
«Фауста», «Годы
странствования»,
«Метаморфозу
растений»,
философскую
лирику. Книга
Эккермана
есть главным
образом книга
мыслей Гете
об искусстве.
Этой
152
части,
наиболее
интересной
по
содеражнию и
по качеству
записей, по
объему и
богатству
заключенных
в ней идей,
посвящается
следующая глава.
V.
ЭСТЕТИКА,
ИСКУССТВО,
ПОЭЗИЯ...
В
предыдущих
главах мы
неоднократно
отмечали
универсальный,
всеобъемлющий
размах
деятельности
Гете. В
историю
немецкой культуры
Гете вошел не
только как
великий писатель-художник,
но и как
великий
натуралист-мыслитель
с
чрезвычайно
широким
кругом
изучений и
исследований.
Более того,
мы видели,
что, работая
с неутомимой
энергией в
области искусства
и науки, Гете
никогда не
ограничивался
замкнутой
сферой того
дела или той
специальной
отрасли,
которая
являлась в
данное время
предметом
его
деятельности.
Все частные и
специальные
интересы
теории он подчинял
запросам и
потребностям
практической
жизни,
рассматривая
философию,
искусство,
науку как
продукт
жизни, как
результат и
как функцию
практического
опыта, как
грань общественно-исторического
развития.
Стоя на
этой точке
зрения, Гете
хорошо понимал
взаимную
зависимость
и связность
различных
сторон и
явлений
культурной
жизни. Искусства,
наука,
философия не
были отделены
в его
представлении
друг от друга
непроницаемыми
перегородками.
В свои
научные
исследования
он вносил
конкретность
и ясность
видения, почерпнутые
им из
изучения
пластических
искусств, а
также
могучий
полет
фантазии,
поставленной
на служение
истине.
Напротив, в
своих поэмах
и повестях он
запечатлевал
не только опосредствованный
искусством
опыт жизни,
но также
выражал свой
философский
опыт, высказывался,
как
мыслитель и
как ученый.
Полнота
и
насыщенность
многосторонней
деятельности
Гете, а также
присущее ему
стремление
во в с я к о м
деле, за
какое бы он
ни брался,
достигать
наивысшей
возможной
плодотворности
делали то,
что в его
глазах ни
одна отрасль
культурного
труда не
получала исключительного,
первенствующего
значения, но
все
рассматривались
им как равно
необходимые,
равно ценные
и равно
укорененные в
глубочайших
основах
человеческой
жизни.
Вырастая из
жизненного
единства,
гениальная
продуктивность
должна быть,
по Гете,
единой и универсальной.
Поэтому
гениальная
продуктивность,
о которой
говорит Гете
и которой представителем
он сам себя
сознавал, не
зависит, по
его мысли, от
специальности,
т. е. от той частной
сферы
культурного
опыта, внутри
которой она
обнаруживается
и действует.
«Обнаружит ли
человек свою
гениальность
в науке, как
Окен и
Гумбольдт,
или в войне и
государственном
управлении,
как Фридрих,
Петр Великий
и Наполеон,
или же в
песнях, как
Беранже, это
все равно, и
вопрос лишь в
том, являются
ли данные
мысли,
взгляды или
дело живыми и
способными
длительно
жить» (756). По той
же причине
Гете, при
всем своем
отвращении
ко всякого
рода
дилетантству
и непроизводительной
растрате
энергии, нисколько
не сожалел о
том, что в
течение
своей долгой
жизни он
много
времени и
много сил вынужден
был отдать не
на искусство,
не на поэзию
и даже не на
науку, но на
множество
практических
дел и
обязанностей,
связанных с его
придворным
чиновным
положением.
«Правда, в
течение
этого
времени,
сказал он
как-то
Эккерману, я
мог бы
написать не
одну хорошую
вещь, но, если
хорошенько
подумать, то
я об этом не
жалею. Свои
труды и
произведения
я всегда
рассматривал
лишь как символы,
и поэтому мне
в сущности
было
довольно безразлично,
делать ли
горшки или
блюда» (241).
153
Но из
того, что
Гете
расточал
присущую ему
энергию и
дарования по
многообразным
направлениям,
чуждаясь
односторонности,
которая
показывает
нам мир под
одним лишь
углом зрения
избранной
раз навсегда
специальности,
вовсе не
следует,
будто в нем самом
не было
центра, где
энергия его
мысли и
творчества
излучалась
бы особенно
интенсивно и
продуктивно.
При всей
серьезности
и даже
страстности
научных и
практических
интересов,
разгонявших
его силы и
способности
по огромному
кругу
деятельности,
в жизни Гете
существовал
центр
тяготения, от
которого
исходили и к
которому
возвращались
все
разнообразные
излучения
его творческой
работы. Таким
живым
организующим
центром,
сохранявшим
свое
всеопределяющее
значение независимо
от рода
деятельности,
которому он в
каждый
данный
момент
предавался,
было для Гете
искусство
поэзии. Если
Гете мог ощущать
свою жизнь
полноценной,
только работая
во многих
сферах как
ученый, как
министр, как
деятель
просвещения,
как директор
театра, как
мыслитель,
то условием
плодотворности
всей этой
разнообразной
активности
было то, что,
осуществляя
ее, Гете
выполнял прежде
всего свое
призвание
поэта. Он был
ботаником,
геологом,
метеорологом
не потому, что
рядом с
интересом к
искусству и
литературе в
его личности
существовал
еще особый и независимый
от
художественного
как бы параллельный
интерес к
этим
отраслям.
Скорее
напротив,
научные
интересы
сделались возможными
для него в
силу
некоторых
преимуществ,
характерных
для него как
для поэта. С
ним все
происходило
так, как если
бы сила
поэтического
осознания
мира, природы
и жизни достигла
в нем такой
все-проницающей
полноты, концентрации
и
насыщенности,
при которых
поэтический
способ
восприятия и
видения оказывается
способным
раскрыть
поэту глаза
на другие
возможные
способы
подхода к
вещам и их
практического
освоения, в
том числе и на
способы
научные. Из
конкретности
художественного
видения
возникло
характерное для
него
тяготение к
синтетическим
методам
научного
познания, а
из
синтетической
методики гениальная
прозорливость,
с какою он
был способен
сближать,
сводить к
единству
явления,
принадлежащие
к различным
сферам природной
жизни.
Значению,
какое для
него имел
художественный
метод
освоения
действительности,
соответствует
и то место,
которое в его
мыслях
занимали
вопросы
эстетики,
искусства и
поэзии. Не
будучи
профессиональным
эстетиком,
статья за
статьей
разрабатывающим
теорию
искусства,
Гете не
избегал,
однако,
случаев,
предоставлявших
ему
возможность
сделать его
огромный
художественный
опыт ясным и
прозрачным,
пред-ставить
его в сознательной
рефлексии об
искусстве. В
его переписке,
в беседах с
друзьями, в
разговорах с
Эккерманом
искусство
постоянно
является предметом
обсуждения,
наблюдения,
изучения, а
также
отправной
точкой для
аналогий и
сопоставлений,
выходящих из
его
собственных
границ. Его
мысли об
искусстве
всегда
возникают ad hoc,
как реакция
или ответ на
живые
впечатления,
представленные
текущей
жизнью: прочитанной
книгой,
просмотренной
гравюрой, услышанным
суждением.
То, что мы при
этом проигрываем,
как можно
было бы
опасаться, в
цельности,
систематичности
и
обстоятельности,
с лихвой
искупается
необычайной
органичностью
и
искренностью,
с какими эти
суждения
вытекают из
жизненного
истока его
личности и
его
воззрений.
Антиномия
личного и
общезначимого,
субъективного
и
объективного,
случайного и
необходимого
легко
разрешается
при более
глубоком
изучении
эстетических
суждений
Гете в
диалектическом
единстве.
Кажущиеся
противоречия
оценок и воззрений
при ближайшем
сопоставлении
оказываются
диалектически
заостроенными
гранями
единой
истины,
импрессионисти-
154
ческая
пристрастность
и
нетерпимость
иных
приговоров
нейтрализуется,
будучи дополнена
другими
суждениями, в
другой связи и
по другому
поводу
высказанными.
Одна из
самых
плодотворных
антиномий
гетевской
эстетики,
непосредственно
бросающаяся
в глаза гори
изучении
суждений
Гете об
искусстве,
есть
антиномия
личного начала
и традиции,
иными
словами
противоречие
между личной
самобытностью,
прирожденной
и природной
искусностью
и между
определяющим
значением
общественных
условий, навыков
и мастерства,
сообщаемых
только изучением.
При
беглом
просмотре
высказываний
Гете об
искусстве
легко может
показаться,
будто Гете
думал, что в
искусстве
личность
художника, его
прирожденные
склонности и
задатки имеют
абсолютное,
всеопределяющее
значение.
Можно
указать
множество
суждений
Гете, которые,
по-видимому,
все
направлены
на доказательство
этой мысли. «... В
искусстве и
поэзии,
говорил Гете
Эккерману,
личность
это все» (551). Он
смеялся над
критиками,
которые этого
не признают и
рассматривают
«великую личность
творца лишь
как своего
рода незначительный
придаток к
творениям
поэзии и искусства»
(551). То, что
художника
делает
художником,
Гете склонен
был выводить
именно из
этого
личного
начала,
которое он
считал
вполне
прирожденным
и как бы
наперед данным
со всеми
своими
особенностями
и задатками. «...
Нужно, чтобы
природа нас
надлежащим
образом
создала,
утверждал
Гете, чтобы хорошие
замыслы сами
собой
являлись, как
вольные дети
божий, и
кричали нам:
вот и мы!» (209).
Наиболее
наглядным
показателем
и образчиком
этой
врожденности
художественного
дарования
Гете считал
явление
музыкальной
одаренности,
как
обнаруживающееся
в самом
раннем
детстве и
притом с
неотразимой,
почти
стихийной
силой. «...
Музыка,
говорил он,
есть нечто
целиком
врожденное,
внутреннее,
не
нуждающееся
ни в каком
питании
извне, ни в
каком
извлекаемом
из жизни
опыте» (551). В этом
смысле он
говорил о
появлении
Моцарта, музыкальный
талант
которого
обнаружился
на пятом году
жизни, как о
факте,
который надо
просто
принять и
который «навсегда
останется
чудом, не
поддающимся
дальнейшему
объяснению»
(551552). Он
утверждал,
что даже
эклектизм
бывает
прирожденным
и что такой
эклектизм,
соответствующий
внутренней
природе
человека,
хорош и стоит
вне
возможных
упреков.
Он
разъяснял,
что
подлинный
живописный
талант
«обладает
врожденным
пониманием
форм,
пропорций и
красок, так
что при
некотором
руководстве
начинает
быстро и
правильно
изображать
все это» (463). При
этом он
утверждал,
что врожденный
характер
художественной
одаренности
особенно
сказывается
в случае живописного
дарования во
«вкусе к
телесному», в стремлении
«делать его
рельефным и
осязательным
посредством
надлежащего
освещения» (463).
Подчеркивая
врожденность
дарования,
Гете как
будто
склонен в
связи с этим
преувеличивать
значение
личного
начала и
субъективной
автономии в
художнике. Он
не только говорит,
что одно
изучение и
воображение
«недостаточны
без
природных
данных» (480), но,
как бы сгущая
субъективистический
смысл своих утверждений,
разъясняет,
что художник
носит в самом
себе
«антиципацию»
мира и что
наличием
этого
предзнания
определяется
то, что
художник
может
увидеть и
постигнуть в
самом
объективном
содержании
мира. «Кругом свет
и краски,
говорил Гете,
но, если бы
света и
красок не
было в нашем
собственном
глазу, мы не
могли бы их
воспринимать
вне нас». «Если
бы я не носил
уже в себе,
возражал он
Эккерману,
весь мир, все
155
исследование
и весь опыт
были бы лишь
мертвыми,
тщетными
потугами». «... Я с
помощью
антиципации,
утверждал
он, вполне
справлялся с выражением
мрачного
состояния
разочарованности
в жизни моего
героя
(Фауста. В. А.) или
любовными
настроениями
Гретхен...» (220).
Силой
«антиципации»,
присущей ему
как художнику,
Гете
объяснял
правдивость
и точность
изображения
жизни,
достигнутые
им в «Гёце фон
Берлихингене»,
драме,
написанной
им в юности. «Я
написал
своего «Гец
фон Берлихинген»,
говорил он,
молодым человеком,
двадцати
двух лет, и
десять лет спустя
был изумлен
правдивостью
своего изображения.
Как известно,
ничего
подобного я не
имел
возможности
ни пережить,
ни видеть и
поэтому
знание
разнообразных
состояний
человека
могло быть
мне дано лишь
антиципацией»
(219).
С этими
положениями
Гете, которые
как будто
выдвигают на
первое место
личные,
субъективные
условия
интеллектуальной
организации
художника,
сводя
искусство не
только к
реализации
изначально
врожденных
художнику
дарований, но
даже к
осуществлению
некоторого
«предзнания»
или
«антиципации»
жизни,
[по-видимому,
легко
согласуется
ряд других
его
положений, в
которых он
подчеркивает
н
е-произвольность
и
независимость
художественного
вдохновения.
По Гете,
всякая
крупная
художественная
удача или
свершение предполагает,
в качестве
'необходимого
условия,
наличие
особого акта,
который Гете,
следуя
традиции,
называет
«вдохновением»
и который
знаменует
готовность
художника стать
орудием или
проводником
сил, источник
коих лежит
вне всякого
возможного
воздействия
или
регламентации.
«Всякая
продуктивность
высшего
порядка,
говорил
Гете, всякая
значительная
идея, всякое
изобретение,
всякая
крупная
мысль,
приносящая
плоды и
имеющая
длительный
результат,
все это
никому не подвластно,
все это не
признает
ничьей власти
на земле.
Такие
явления
человек
должен рассматривать,
как
нежданные
подарки
свыше, как
чистых детей
божиих,
которых ему
надлежит
принять с
радостной
благодарностью
и чтить» (760).
Подчеркивая
спонтанность
художественного
вдохновения,
независимость
его результатов
от
сознательной
и волевой
установки,
Гете, вместе
со всей
традицией
объективного
идеализма,
склонен
видеть в
художнике
простого
проводника
или
посредника между
людьми и
высшим
объективным
разумом,
направляющим
поток жизни.
«В таких
случаях, говорил
он, в
человеке
часто
приходится
видеть
орудие
высшей вилы,
управляющей
миром, сосуд,
признанный
достойным
для того,
чтобы воспринять
божественное
влияние» (760). В
метафорах,
напоминающих
мысли
Платона,
развитые в
«Ионе» и в
«Федре», Гете
определяет
безотчетность
и
неподвластность
вдохновения,
как
проявление
демонического
начала в
человеке.
«Здесь есть,
говорит он,
нечто родственное
демоническому,
которое полновластно
овладевает
человеком и
делает с ним
все, что
угодно, и
которому он
отдается бессознательно,
воображая,
что
поступает по
собственным
побуждениям»
(760). Какое бы
значение ни
имела
последующая
сознательная
работа
художника
над своим
произведением,
как бы ни
была при этом
велика роль
мастерства,
предания, в
основе
всякого
крупного художественного
создания
всегда лежат,
по Гете,
некоторое
изначальное
впечатление,
мысль или
образ,
которые
рождаются в
нем как непосредственный
дар
вдохновения,
и которые, в
своей сути,
не могут быть
результатом преднамеренной
работы или
сознающего
свои цели
замысла. Так,
по Гете,
первая мысль
шекспировского
«Гамлета»
возникла как
неожиданное
впечатление,
как дух
целого, и он в
глубоком
волнении
созерцал
отдельные
положения,
характеры и
156
общую
развязку (см. 760).
На эту мысль
«Гамлета», продолжает
Гете, Шекспир
мог смотреть,
как на
«чистый
подарок
свыше, на
который сам
он не
оказывал
никакого
непосредственного
влияния, хотя
возможность
получить
подобное
впечатление
существовала
только для
такой души,
как шекспировская»
(760761).
Настолько,
по-видимому,
сильна была в
Гете
уверенность
в спонтанной
силе
вдохновения,
в его
независимости
от власти и
от
результатов
сознательной
работы
художника,
что, опираясь
на эти мысли,
Гете
извлекал из
них ряд
нормативных
выводов
относительно
поведения
художника.
Из этих
выводов на
первом месте
Гете ставит
принцип верности
художника
самому себе.
Через все эстетические
высказывания
Гете проходит
мотив
глубочайшего
убеждения в
том, что во
всех своих
задачах,
замыслах и
работах художник
должен
оставаться
верен
прирожденным
началам и
склонностям,
образующим
ядро его художественной
индивидуальности.
«Мы должны прежде
всего быть в
согласии с
самими собой,
говорит
Гете Фальку,
и тогда
только мы сумеем,
если не
устранить, то
все же, по
крайней мере,
сгладить в
известной
степени окружающую
нас
дисгармонию».
Он
восхищался молодыми
англичанами,
жившими в
Веймаре, восхваляя
в них не ум, не
образование
и не нравственные
качества, но
прежде всего
их совершенную
цельность,
«смелость
быть тем, чем
создала их
природа»,
отсутствие
всего «половинчатого
и
искривленного»
(769). Ценя высоко
цельность,
Гете
высказывался
за свободу
оригинального
развития,
которая, как
он думал,
одна может
обеспечить
соблюдение
художником
верности
самому себе.
Наблюдая условия
воспитания
молодежи в
своем отечестве,
он с горечью
отмечает, что
в Германии
«все направлено
к тому, чтобы
преждевременно
приручить
вольную
юность,
вытравить из
нее натуру,
оригинальность,
дикость, так
что в конце
концов
ничего не
остается,
кроме филистерства»
(770). Он выделяет,
как одно из самых
важных
доказательств
неуничтожимости
индивидуального
начала,
способность
человека
стряхивать «с
себя все то,
что ему не
свойственно»
(503), и свои
художественные
удачи
измерять
степенью
(самостоятельности,
которой ему
удалось
достигнуть,
преодолев поэтические
влияния, в
тени которых
он вырос. «...Вы
не имеете
понярия,
разъясняет
он Эккерману,
о том, какое
значение
Вольтер и его
великие
современники
имели для
меня в юности
и до какой
степени они
господствовали
тогда над
умами людей.
Из моей
биографии,
продолжает
он, также
недостаточно
видно... чего
мне стоило
отстоять в
борьбе с ними
свою
самостоятельность,
стать на
собственные
ноги и найти
истинное
отношение к
природе» (484).
Потребность
следовать во
всем голосу
собственного
сознания,
осуществлять
действия,
вытекающие
из глубины
собственной
личности,
проявлялась
в нем с такой
властной и
неотразимой
силой, что он
не только не
боялся
вступать в
противоречия
с собственными
высказываниями,
как только
возникал в
нем другой
строй мыслей,
но иногда активно
выступал с
своеобразными
поэтическими
самоопровержениями,
с
произведениями,
сознательно
написанными
в отмену
того, что он
думал и писал
раньше. Так,
он показал однажды
Эккерману
только что
написанное
им стихотворение
«Kein Wesen kann zu mchts zerfallen» * и тут
же объяснил,
что он
написал эти
стихи в
противоречие
некогда им
напечатанному
стихотворению
«Derm alles muss zu nichis zerfallen» **,
которое
казалось ему
в настоящий
момент
превратным и
не выражающим
истины.
Не
одобряя
политической
тематики и политической
направленно-
157
сти в
поэзии, он,
однако,
восхищался
песнями
Беранже, так
как находил,
что у Беранже
политическая
установка
составляла
одно с его
личностью,
вытекала из
самой
природы его характера
и сама была
этой
природой.
«Беранже,
разъяснял он
Эккерману,
счастливо
одаренная
натура,
имеющая
крепкую
внутреннюю
основу, свободно
развивающаяся
изнутри и
находящаяся
с собою в
полной
гармонии» (811).
Глубоко убежденный
в том, что
только тот
художник
может быть
подлинно
плодотворным,
кто остается
верным
самому себе,
не вступая в
противоречие
с
собственной
личностью, с
ее склонностями,
способностями
и
тяготениями,
Гете считал
совершенно
бесплодной и
не достигающей
никакой цели
всякую
поучающую
художника
критику,
указывающую
ему пути его
поведения и
направление
желательного
для него развития.
Он осуждал
французского
рецензента из
«Le Temps» за то, что
тот «пытается
предписывать
поэту путь и
указывает
ему, куда он
должен идти».
Он говорил,
что это
«большая
ошибка; таким
образом
никогда
нельзя исправить
поэта».
Обобщая этот
случай и
возводя его к
некоему
принципу
эстетики, он
находил, что
вообще нет
«ничего
глупее, как
сказать
поэту: ты
должен был бы
сделать то-то
и то-то, так-то
и так-то!» В
качестве
«старого
знатока» он
уверял, что
«из поэта
нельзя
сделать
ничего иного,
кроме того, к
чему он
способен от
природы», и
что «если вы
захотите во
что бы то ни
стало
принудить
его быть другим,
вы его
уничтожите» (803).
Он полагал,
что навязываемые
поэту советы
и
предписания нецелесообразны
не потому,
что они сами
по себе
нехороши, но
потому, что
они основаны
на ложном
предположении,
будто художник
может быть
проводником
действий, источник
которых
лежит вне его
собственной
личности и не
зависит от ее
естественных
склонностей.
Он говорил,
что только
сам поэт знает,
«какими
чарами он
способен
наделить свой
замысел», и
что поэтому
«не надо ни у
кого спрашивать
совета, когда
хочешь
что-либо написать»
(334). Он ссылался
при этом на
собственную
повесть для
«Годов
странствования»,
сюжет
которой он
обдумывал
еще во времена
Шиллера и
которую
Шиллер
советовал ему
обработать
восьмистрочными
стансами, в
то время как
оказалось,
что для нее
наилучшая
форма
изложения
проза (см. 334).
Говоря о
том, что
писателю
необходимо
учиться у
мастеров,
Гете тут же
указывает,
что для плодотворности
этого
изучения
требуется, «чтобы
тот, у кого мы
хотим
учиться,
отвечал нашей
природе» (281), и
что вообще
«учатся лишь
у того, кого
любят». Он
разъяснял,
что,
например, Кальдерон,
при всем
своем
величии и
несмотря на
всю свою
великолепную
сценическую
технику,
которой,
казалось бы,
можно было
поучиться,
никогда не
имел на него
никакого
влияния, ни
хорошего, ни
дурного, но что
он мог бы
оказать
сильное
влияние, например,
на
родственного
ему по духу
Шиллера, если
бы во время
Шиллера
существовали
переводы
Кальдерона
на немецкий
(см. 281).
По тем же
основаниям
Гете
предостерегал
художников
от каких бы
то ни было
попыток форсировать
разрешение
художественных
задач, помимо
вдохновения,
твердо
убежденный,
что всякая
попытка
действовать
в обход вдохновения
и независимо
от личной
склонности
художника
наперед
обречена на
неудачу. «... Мой
совет, ничего
не
форсировать,
говорил он
Эккерману, и
лучше
проваландаться
и проспать
непроизводительные
дни и часы,
нежели
сделать в
течение них
нечто такое,
что впоследствии
отнюдь не
доставит нам
радости» (761).
Мы могли
бы еще
умножить ряд
высказываний
Гете,
которые,
по-видимому,
все
свидетельствуют
о том, что в
вопросе о
значении
личной одаренности
и
творческого
предрасположения
Гете
склоняется к
точке
158
зрения
полной
личной
автаркии
художника,
иначе, к
убеждению,
будто все,
что человек
может сделать,
как художник,
заранее
лимитировано
и как бы
наперед
предуказано
свойствами,
качеством и
объемом его
дарования.
И все же,
как ни
выразительны
относящиеся
сюда суждения
Гете, они
представляют
только одну грань
его
подлинной
мысли! Было
бы большой ошибкой,
если бы мы на
основе этих
высказываний
сделали
вывод, будто
Гете умалял
или недооценивал
значение
культуры,
традиции, изучения,
воспитания
художественной
воли. Утверждая
спонтанность
личности
художника, независимость
вдохновения,
необусловленность
его никакими
усилиями
сознательной
рефлексии,
Гете имел в
виду не
столько результаты
художественной
работы, не
столько ее
конкретный
итог когда
работа эта
превращается
в
объективный
факт, в
наличие
готового,
начинающего
жить
самостоятельной
жизнью произведения,
сколько
первоначальное
ее условие,
пусть
необходимое,
но далеко не
достаточное.
Уже в
приведенных
выше
суждениях, направленных
как будто на
доказательство
полной
врожденности
художественного
дарования,
его полной
независимости
от изучения и
сознательного
воздействия,
имеется ряд
оговорок,
ограничивающих
и суживающих
тенденции
художественного
нативизма.
Уже говоря об
«антиципации»,
о
независимости
художественного
изображения
от
действительного
изучения и
опыта, Гете
разъясняет,
что
предзнание
вообще
«простирается
только на
предметы, созвучные
таланту», что
поэту
врождена
лишь область
чувств,
обнимающая
все то, что
зовется
душевными
состояниями,
но что со
всем прочим
он «должен
ознакомиться...
или путем
личного
опыта или
используя
описание
других» (220). Сам
Гете говорит,
что если
фаустовское
пресыщение
жизнью и
диалектика
чувства
Гретхен были
ему даны в
силу
предзнания,
то с другой
стороны, для
того чтобы
сказать:
Wie traurig steigt die
unrvollkommne Scheibe Des spaten Monds mit feuchter Glut heran *,
«понадобилось
некоторое
наблюдение
природы» (220). Но
и в тех
случаях,
когда
исходной точкой
создаваемого
художником
произведения
оказывается
вдохновение
или впечатление,
данное ему в
порядке
некоего
предвосхищения
целого,
наличие
вдохновения
и дарования,
способного
на создание
больших
вещей, еще
далеко не
решает, по
Гете, вопрос
об окончательной
судьбе и о
социальной
ценности произведения.
Говоря о
самобытности
и вдохновении,
Гете имел в
виду лишь
наметить
условие,
определяющее
возможный
для данного
художника
ранг, указать
доступный
ему тип, качество,
высоту
совершений
его
искусства. В
то же время,
утверждая,
что качество,
до которого в
состоянии
возвыситься
мастер, лимитируется
прирожденным
типом и
предначертанными
границами
его
дарования,
Гете был далек
от мысли,
будто одного
дарования
достаточно
для того,
чтобы
врожденное
художнику
предзнание
вещей стало
их
действительным
знанием.
Напротив,
сокровенная
мысль Гете,
питавшаяся в
нем всем
опытом его
долгой жизни,
состояла
скорее в том,
что
реализация
художественного
замысла,
перевод
художественного
факта из
предвосхищающего
видения в реальный
факт
искусства,
способного
оказывать
длительное
воздействие,
возможен лишь
при условии,
если
озаряющее
художника
непосредственное
усмотрение
образа будет
опосредствовано
большой
работой,
предполагающей
высокую
сознательность,
упорное
преодоление
трудностей,
продолжительное
наблюдение,
изучение и
усвоение
159
результатов
художественного
развития
предшествующего
искусства. В
той же
беседе, в
которой он
разъяснял
Эккерману,
что
первоначальным
источником
«Гамлета»
могло быть
лишь
«неожиданное
впечатление
как целое»,
«чистый
подарок
свыше, на
который сам
он не
оказывал
никакого
непосредственного
влияния», он
указывал, что
помимо уяснения
или усвоения
этого как бы
свыше нисходящего
впечатления
существует
еще иная сторона
художественной
работы,
направленная
на
конкретизацию
художественного
впечатления,
сторона, не
менее важная
и необходимая.
«... Есть также
продуктивность,
говорил он,
иного рода,
которая уже
больше
подвержена
земным
влияниям и
больше
находится во
власти... К
этой области,
продолжал
он, я
причисляю
все,
относящееся
к выполнению
плана, все промежуточные
звенья цепи
мыслей, конец
которой уже
ясно стоит
перед вами; я причисляю
сюда все то,
что
составляет
видимое тело
и плоть
художественного
произведения»
(760). Так, если
Шекспир мог
смотреть на
первоначальный
образ
Гамлета, как
на дар свыше,
то все
«позднее
выполнение
отдельных
сцен и те
реплики,
которыми
обмениваются
действующие
лица», по Гете,
«были уже
вполне в его
власти, так
что он мог
заниматься этим
ежедневно и
ежечасно и
мог неделями
разрабатывать
свое
произведение
по собственному
желанию» (761).
Ограничивая
значение прирожденного
начала в
искусстве,
Геге отнюдь
не вступал в
противоречие
с самим собой,
со своими
высказываниями,
имевшими целью
утвердить
необходимость
прирожденного
дара или
склонности.
Возможность
сочетания
обоих
тезисов:
первого,
выдвигавшего
непосредственность,
независимость,
автаркию
художественного
восприятия
мира, и
второго, вводившего
факт
художественного
вдохновения
в
опосредствующее
русло
сознательной
работы и
примыкающего
к традиции
изучения, основывалась
в
представлениях
Гете не на простом
компромиссе
и не на
эклектической
половинчатости.
Возможность
эта
обусловливалась
глубокой, по
сути
диалектической
трактовкой
самого факта
индивидуальности.
Утверждая,
что «в
искусстве
личность
все», что
достоинство,
качество и
объем того,
что может
сделать художник,
обусловливаются
тем, что он
представляет
собою, как
индивидуальность,
Гете вовсе не
был склонен
видеть в
личности некую
абсолютно
самобытную,
метафизически
непроницаемую
и
самодовлеющую
единицу. Напротив,
он был
глубоко
убежден в
том, что спонтанность
личного
бытия и
действова-ния
есть не более
как иллюзия и
что личная
автаркия, на
которой
эстетический
романтизм и
индивидуализм
строят свои
гордые
расчеты,
совершенно
фиктивна.
Полагая, что
все, что
человек, в
качестве
художника,
может
сделать, определяется
данным
качеством
его личности,
он под
личностью
разумел не
какую-то
простую и
неделимую
«сущность», но
скорее
весьма сложное
и по своей
природе
собирательное
существо,
представляющее
результат
скрещения
действующих
в обществе
культурно-исторических
сил и
традиций.
«Ведь в
сущности все
мы коллективные
существа,говорил
он Сорэ, что
бы мы о себе
не
воображали» (844).
Он хорошо понимал,
что то, что мы
в человеке,
исходя из впечатления
неделимого
единства его
действова-ния
и характера,
считаем его
личным
достоянием,
есть скорее
лишь результат,
результат
опосредствования
исконного
ядра
индивидуальности
непрерывным воздействием
мира, природы
и общества.
«Много
говорят об
оригинальности,
говорил он Эккерману,
но что это
означает? Как
только мы рождаемся,
мир начинает
влиять на нас
и так до
конца нашей
жизни» (282). Он
называл
дураками художников,
«которые
хвалились
тем, что не берут
себе за
образец
никакого
масте-
160
pa и всеми
своими
произведениями
обязаны исключительно
своему
собственному
гению... Как
будто бы
нечто
подобное
возможно!восклицал
он, и как
будто
внешний мир
на каждом
шагу не
внедряется в
них и не
формирует их
по-своему,
несмотря на
их
собственную
глупость» (844845).
Собирательная
природа
индивидуальности
художника,
опосредствованный
характер
всего того,
что поверхностное
воззрение
считает в
художнике непосредственно
ему
принадлежащим,
сводила на
нет в его
глазах
автономию
личного начала
и личного
достояния.
«Как
незначительно,
восклицает
Гете, то, что
мы в
подлинном смысле
слова могли
бы назвать
своей
собственностью!
Мы должны
заимствовать
и учиться как
у тех,
которые жили
до нас, так и у
тех, которые
живут с нами.
Даже
величайший
гений не далеко
бы ушел, если
бы он захотел
производить
все из самого
себя» (844).
Формирующей
силе
традиции,
окружения,
изучения
Гете придавал
значение
столь
большое, что,
перед лицом
этого
значения,
оригинальность,
так он думал,
сводится не
столько к
достигаемым
результатам,
не столько к
окончательной
форме и
составу
производимого,
сколько к той
энергии и
силе, с какой
художник
отдается освоению
и изучению
перерабатываемых
им материалов.
«Что же мы
можем
назвать
своим собственным,
вопрошал
Гете
Эккермана,
кроме
энергии,
силы,
желания? Если
бы я мог
указать,
признавался
он, все то, чем
я обязан
великим
предшественникам
и современникам,
то по
исключении
всего этого у
меня
осталось бы
очень
немного» (282). «Но,
говоря по чести,
заметил он в
другом
месте,мне
самому
принадлежит
здесь лишь
способность
и склонность
видеть и
слышать,
различать и
выбирать,
оживлять
собственным
духом то, что
я увидел и
услышал, и с
некоторой
ловкостью
передавать
это другим» (845).
Он говорил: «Я
обязан
своими
произведениями
отнюдь не одной
только
собственной
мудрости, но
тысяче вещей
и лиц вне
меня, которые
доставили
мне материал»
(845). Он высказал
как-то Эккерману
желание
написать
статью или
главу о влияниях,
утверждая,
что тема эта
богаче того,
что о ней
можно
подумать и
что «в конце
концов все то
есть влияние,
что не мы
сами» (438). Он утверждал,
что даже
поверхностный
взгляд на
произведения
искусства
производит в
нас
изменения,
которые не могут
остаться без
влияния на
нашу художественную
личность и на
судьбу нашей
художественной
продукции. «Я
утверждаю,
повторял он
Сорэ, что
если бы...
живописец
только прошел
вдоль стен
этой комнаты
и бросил
самый беглый
взгляд на
рисунки
великих
мастеров, которыми
они увешаны,
то он, при
всем своем гении,
вышел бы
отсюда иным и
выросшим» (845).
С той же
энергией и с
той же
убежденностью,
с какими он
утверждал
принцип
прирожденности
художественного
дарования и
требовал от
писателя
прежде всего
верности самому
себе,
осуществления
того, что
заложено в
его личности,
он настаивал
на том, что талант
родится не
для самотека,
не для беззаботного
произрастания,
что он
действительно
растет и
осуществляет
заложенные в
нем возможности
только путем
изучения
мастеров. «Талант
не для того
рождается,
говорил он, чтобы
быть
предоставленным
самому себе;
он должен
обратиться к
искусству и к
хорошим мастерам,
которые
сумеют
что-нибудь из
него сделать»
(307). Он ссылался
на советы
Леонардо да
Винчи,
который
говорил, что
если молодой живописец
не знает
перспективы
и анатомии,
то его
следует
свести к
хорошему
учителю (см. 307).
Он говорил,
что
драматический
писатель,
желающий
добиться
плодотворного
действия
своего
искусства,
«должен... неустанно
работать над
своим само-
161
усовершенствованием»
(698), что не
довольно выработать
надлежащее
умение, «мало
обладать
талантом» (425),
что всякий
талант
«должен укрепляться
знаниями и
только таким
образом он
может
развить всю
свою мощь», и
что только
дураки
воображают,
будто они
«потеряют свой
талант, если
будут
стараться
приобрести
знания» (317). Он
называл
превосходными
те таланты,
которые
ничего не
могут
сделать без
подготовки,
бегло,
«натура
которых требует,
чтобы
предмет их
деятельности
был ими
глубоко и
спокойно
изучен». Он
говорил, что
хотя такие
таланты
«часто
приводят нас
в нетерпение,
так как лишь
редко от них
можно
ожидать того,
что как раз
отвечало бы
настроению
минуты, и все
же именно
этим путем
достигается
высшее
совершенство»
(221).
Говоря о
необходимости
изучения и
образования,
он настаивал
на том, что
образцами для
изучения
должны быть
только
подлинные крупные
художники и
что поэтому
изучать надо
«не тех,
которые
рождаются,
живут и умирают
вместе с
нами, но
великих
людей
прошлого времени,
труды
которых
сохраняют
неизменную
ценность и
пользуются,
одинаковым
уважением в
течение
столетий» (698). Он
настолько
ценил,
изучение
искусства
больших
мастеров, что
именно в этой
потребности
общения с великими
предшественниками
видел
«признак высоких
задатков» (698).
Предпочитая
образовательное
действие искусства
старых
мастеров, он
был далек от
недооценки
того, что
художнику
дает общение
с лучшими из
его
современников.
Рассматривая
личность, как
существо
собирательное,
он в анализе
сил,
образующих
неповторимое
своеобразие
художественной
индивидуальности,
немалое
значение придавал
возбуждающей
силе
соревнования,
деятельности
общения и
обмена
мыслей с современниками.
Он говорил,
что «не добро
человеку
быть одному,
и в
особенности
нехорошо ему
работать
одному» (504) и что
для того,
чтобы ему
что-нибудь
удалось, «он
нуждается в
участии и
поощрении» (504).
Он утверждал,
что свою
«Ахиллеиду» и ряд
баллад он
написал
благодаря
Шиллеру и что
Эккерман
может
приписать
себе такое
же.
побуждающее
и
оплодотворяющее
значение в
деле
завершения
второй части
«Фауста» (см. 504).
Он не
только
призывал к
изучению
великих художников
прошлых эпох,
но при этом
настаивал,
что изучение
это должно
быть
длительным и
повторным. Он
говорил, что
художники
меньшего
ранга не
могут длительно
хранить в
себе
содержание
больших
произведений
и что они
«должны время
от времени
возвращаться
к ним, чтобы
оживить в
себе
впечатление»
(281).
По его
мысли, круг
изучения,
необходимый
для развития
и реализации
подлинного
таланта,
далеко не
должен
ограничиваться
одним лишь
тем искусством,
в котором
художник
работает
непосредственно.
Он полагал,
что для
полной
зрелости
художника
необходимо
изучение и
смежных
искусств,
которые
могут помочь
ему охватить
предмет со
всех сторон и
сделать
изображение
более
выразительным.
Он
высказывал
мнение, что
актер должен
«учиться
также у
ваятеля и у
живописца» и
что для
исполнения,
например, роли
греческого
героя «ем)
безусловно
необходимо
хорошенько
проштудировать
дошедшие до
нас античные
статуи, чтобы
усвоить себе ту
непринужденную
грацию, с
которой
изображенные
«а них
древние
сидели,
стояли, ходили»;
«он должен
прилежным
изучением
лучших древних
и новых
писателей
развивать
свой ум» (695).
Он
утверждал,
что если
художник лишен
возможности
учиться у
кого-нибудь
из современных
мастеров и у
своих
великих предшествен-
162
ников, то
он должен во
всяком
случае
учиться у
природы,
которая
всегда
налицо. Он
осмеивал
реакционное
мистическое
течение современной
ему живописи,
представители
которой
отрицали
необходимость
изучения
великих
мастеров и
утверждали,
будто
художнику,
для того
чтобы
сравниться с
лучшими из
них,
необходимы
только гений
и благочестие.
Он метко
возражал им,
говоря, что
учение это
потворствует
самомнению и
лени и что
успех его в
среде
посредственностей
объясняется
тем, что
«благочестие»,
равно как и
прирожденный
гений не
требуют
никакого обучения
(см. 583)
Выдвигая
тезис о
необходимости
тщательного
культивирования
таланта
посредством
усвоения
великого
искусства
предшественников,
он не прошел
и мимо
вопроса об
источниках
этого
изучения. Он
разъяснял, что
число этих
источников
бесконечно и
что истинно
плодотворный
талант
черпает отовсюду
все, что
способно
питать и
растить его
природные
силы и
склонности.
«Своим развитием,
говорил он
Эккерману,
мы обязаны
тысяче
воздействий
на нас
великого
мира, из которого
мы черпаем и
усваиваем
себе все, что
можем, и все,
что нам
подходит. Я
за многое
должен
благодарить,
говорил он о
самом себе,
греков и
французов; я
бесконечно обязан
Шекспиру,
Стерну и
Гольдшмидту.
Однако этим
источники
моего
развития
далеко еще не
исчерпаны;
разыскивать
их можно до бесконечности,
но в этом нет
никакой
надобности» (408).
«Все великое
совершенствует,
если только
мы умеем
постичь его,
как следует»,
сказал он,
возвращаясь
к этому же
вопросу в
другом месте
(413). Он
удивлялся
слабости, с
какой Байрон
парировал
упреки
критики, осуждавшей
его за
сделанные им
позаимствования,
и прибавлял
при этом, что
Байрон
должен был
ответить
примерно в
таком духе. «Все,
что у меня,
мое!.. а взял ли
я это из
жизни или из
книги не все
ли равно?
Вопрос лишь в
том, хорошо
ли это у меня
вышло!» (267). Что
касается до
самого себя,
то он
откровенно
заявлял, что
в его
«Клавиго»
есть целые
места, взятые
им из записок
Бомарше, хотя
и
переработанные
так, что в них
не узнаешь
сырого
материала,
послужившего
для них
источником.
Он был вообще
того мнения,
что о большом
таланте,
живущем в
замечательное
время и в
благоприятной
обстановке,
едва ли можно
в точности
сказать, кто
были его
учителя до
того
многообразны
источники
его
образования
и развития.
Он говорил, что
«Клод Лоррен
бесспорно
обязан школе
Каррачи не в
меньшей
степени, чем
своим ближайшим
известным
учителям» (468). Он
осуждал схематизм
историков
искусства,
которые говорят,
например, о
Джулио
Романо, что
он был учеником
Рафаэля, не
замечая, что
«точно так же
можно было бы
сказать- он
был учеником
своего века» (468)
В
рассказах о
самом себе, о
путях
собственного
(развития, он
отмечал,
помимо
влияния поэтов,
живописцев, художников,
образовательное
влияние эстетиков,
ученых,
мыслителей,
философов.
«То, что
Лессинг,
Винкельман и
Кант,
говорил он, были
старше меня и
что первые
двое влияли
на меня в
юности, а
последний в
старости,
имело для
меня большое
значение» (282). Не
менее важным
для себя
считал он и
тот факт, что
на его глазах
началась
деятельность
братьев
Гумбольдтов
и Шлегелей
(см. 282).
Глубокое
убеждение
Гете в том,
что большие произведения
искусства
могут
возникнуть
только у
художников,
упорно
работающих над
образованием
своего
таланта,
опирающихся
на изучение
великих
предшественников
и совершенствующих
свой замысел
путем непрерывной
и
сосредоточенной
работы над
ним, ни в чем
не нашло
выражения
более яркого,
чем в борьбе
Гете против
дилетантизма.
163
В
дилетантизме
Гете видел
совершенно
бесплодное, чуждое
всякому
подлинному
свершению и
лишенное
всякой
ценности
расточение
сил. Характерным
признаком и
даже
сущностью
дилетантизма
он считал
неспособность
дилетанта к
самоограничению,
к упорному и
сосредоточенному
труду, к
преодолению
препятствий
и трудностей
путем
терпеливого
изучения
предмета. В связи
с этим
единственный
результат
дилетантизма
и как бы
справедливое
возмездие он
видел в
неустранимой
для
дилетанта
художественной
немощи, в
отсутствии
подлинных
идей или в
случае
наличия их
зародыша в
неспособности
овладеть ими
и довести
замыслы до
подлинно
художественного
выражения. «...
Вас, дилетантов,
цитировал
он из
Моцарта,надо
ругать,
потому что
обыкновенно
с вами происходят
две вещи: или
у вас нет
собственных
мыслей, и вы
берете чужие,
или же, если у
вас есть
собственные
мысли, то вы с
ними не умеете
обращаться» (307).
Он называл
этот афоризм
«дивным» и
находил, что
слово,
сказанное
Моцартом о
музыке,
приложимо ко
всем
искусствам.
Особенно
пагубным и
бесплодным
для
искусства он
считал
неспособность
дилетантов к
сдержке, к
ограничению
лишь тем, что
доступно их
силам, к
правильному
учету того,
что лежит в
действительных
границах их
возможностей.
Он говорил,
что дилетанты
«всегда хотят
взяться за
такое дело,
которое им не
по силам», так
как «не знают
тех трудностей,
которые
сопряжены с
работою» (342).
В
противовес
самонадеянности
и бесплодной
расплывчатости,
характерных
для дилетантизма,
Гете в
качестве
важнейшего
правила
художественного
поведения
выдвигал принцип
сдержки,
самоограничения
доступным, а
также
принцип
концентрации
всех сил на
избранном
задании.
«Вообще,
поучал он
Эккермана,
берегитесь
разбрасывания
и сосредоточьте
свои силы.
...Правда,
талант
думает, что
он тоже может
делать все
то, что на его
глазах
делают
другие, но
это,
разъяснял
Гете, не так, и
ему
приходится
раскаиваться
в своих faux frais» (253). «...
Соберите все
свои силы,
повторял он,
для чего-либо
значительного
и отбросьте
©се, что для
вас
бесполезно и
вам не
подходит» (254).
Он
постоянно
твердил о
трудностях,
какие стоят
на пути к
истинному
художественному
совершенству,
и утверждал,
что если бы
каждый знал в
свои ранние
годы, сколько
совершенных
вещей уже
существует и
что
требуется для
того, чтобы
сделать вещь,
достойную
стать с ними
рядом, то из
сотни
молодых
людей, пишущих
стихи, едва
ли один
почувствовал
бы в себе
достаточно
твердости,
таланта и
мужества,
чтобы
спокойно
идти к
достижению
подобного
мастерства
(см. 276277).
Оглядываясь
на весь
пройденный
жизненный
путь, вспоминая
свои удачи и
ошибки, он
все более
утверждался
в мысли, что
для
художника
самое великое
искусство
«уметь себя
ограничивать
и изолировать»
(279).
С этой
точки зрения
он даже
находил, что
столь
ценившаяся
им в другом
отношении
способность
излучать
присущую
энергию на
многое,
готовность
всеми силами
отдаваться
исполнению
многообразных
знаний и
задач,
выдвигавшихся
перед ним жизнью
и доступных
ему при
многосторонней
одаренности
при всей
своей
объективной
плодотворности,
сузила все же
объем и
значение его
деятельности
как
художника.
Поэтому, не
считая, что
силы,
потраченные
им на научные
занятия, на
министерскую
деятельность,
на редакторскую
работу и на
руководство
театром были
потрачены
попусту,
рассматривая,
как уже было
отмечено,
различные
продукты
своей производительности,
как
равноценные
«символы»,
Гете в то же
время
находил, что
как худож-
164
н и к он
еще больше
выиграл бы в
своем значении,
если бы он
осуществлял
в своей жизни
большую
сосредоточенность
на задачах
поэтических
и
литературных.
Особенно
охотно он
ссылался при
этом на свои
занятия живописью
и
скульптурой,
как на пример
деятельности,
в целом ложно
направленной,
несмотря
на все
частные
преимущества,
какие это
изучение ему
доставило. «...
Мое стремление
практически
заняться
изобразительным
искусством,
говорил он
Эккерману,
было ложным,
потому что у
меня не было
для этого
природных
данных и они
не могли
развиться у
меня» (277). Он
рассказывал,
что только
путешествие
в Италию
разрушило в
нем иллюзии
относительно
его
живописного
призвания,
обнаружив с
совершенной
ясностью, что
его изобразительный
талант «не
мог
развиваться
ни технически,
ни
эстетически»
и что поэтому
из его
стремлений
«ничего не
вышло» (277). Даже
научные
занятия, в
которых он
был
признанным
мастером и
которые
поставили
его в ряд
крупнейших
натуралистов
нового
времени, казались
ему по
отношению к
основному
стержню его
поэтической
работы
растратой или,
по меньшей
мере, оттоком
сил,
ослабляющим
мощь и
уменьшающим
объем того,
что он мог бы
сделать как
художник, не
излучай он
свои способности
в столь
многие
стороны. «Я
слишком много
времени
тратил,
признавался
он как-то
Эккерману,
на вещи,
которые,
собственно, не
входили в мою
специальность.
Если я подумаю,
что сделал
Лопе де Ве-га,
то число моих
поэтических
произведений
кажется мне
ничтожным.
Мне
следовало бы
больше
придерживаться
своего
собственного
ремесла. Если
бы,продолжает
он дальше
полушутливо,
я не
занимался
так много
камнями (т. е.
геологией и
минералогией.
В. Л.), и лучше
употреблял
свое время, я
обладал бы
прекраснейшими
драгоценностями
из
бриллиантов»
(279).
Даже в
тех случаях,
когда на
занятия,
побочные по
отношению к
своему
прямому делу,
он тратил
чрезвычайно
много
времени и
сосредоточивал
на «их много
сил,
нецелесообразность
этой траты
казалась ему
очевидной
при сопоставлении
результатов
проделанной
работы с теми,
какие всегда
достигаются
мастерами, для
которых
данная
область является
не побочной,
но прямой
сферой их подлинного
призвания.
В сфере
пластических
искусств
живым критерием,
ясно
указывающим
принципиальное
различие
между
результатами
работы дилетанта
и подлинного
призванного
знатока, для
Гете были
суждения его
друга,
веймарского
историка
искусства
Мейера. Я
«тоже потратил
полжизни,
признавался
Гете
Эккерману, на
созерцание и
изучение
произведений
'искусства, я все
же в
некоторых
отношениях
не могу равняться
с Мейером», он
«гораздо
острее
оценивает
произведение
и умеет во
многих
отношениях
осветить его
по-новому.
Таким
образом я
снова и снова
учусь
понимать,
заканчивает
он это
признание,
что это значит
быть в
какой-нибудь одной
области
великим...» (279280).
Даже в
сфере
прямого и
подлинного
призвания
самоограничение,
упорное
устранение всего
излишнего,
сосредоточенность
на самом
глазном и
самом
необходимом,
готовность
поступиться
эффектными
деталями и
заманчивыми
подробностями
ради наивысшей
концентрации
мысли и
наисильнейшего
действия
Гете вменял
художнику
как первое правило
его метода.
Он
неоднократно
показывал,
что
отсутствие
в надлежащей
мере самоограничения
составляло
неустранимый
недостаток даже
такого
гиганта,
каким был
Шиллер. Он
говорил, что
пьесы
Шиллера,
особенно
написанные
им в юности,
страдают
излишними
длиннотами,
«никак не
могут прийти
к концу», и
причину
этого
несовершенства
видел в том,
что Шиллер
«так много
хотел...
сказать, что
не
165
был в
состоянии
овладеть
собою» (818). Даже
сознав
впоследствии
этот свой
недостаток и
всеми силами
стараясь
устранить
его при помощи
изучения и
труда,
Шиллер, по
мысли Гете, никогда
не мог
окончательно
совладать с ним.
В этой
творческой
неудаче крупнейшего
поэта Гете
видел живое
доказательство
высоких
требований
самоограничения,
целеустремленности,
какие
искусство предъявляет
художнику.
«Вполне
овладеть своим
предметом,
говорил он
все по тому
же поводу,
удержать
себя в узде и
сосредоточиться
только на
безусловно
необходимом
дело, требующее
от поэта
богатырских
сил; это
гораздо труднее,
чем
обыкновенно
думают» (818).
Считая
изучение,
развитие
мастерства в
упорном
труде,
самоотречение,
концентрацию
сил и сдержку
необходимейшими
условиями действительного
совершенства,
Гете в других
художниках
высоко ценил
эти черты,
как наиболее
достойные
подражания и
удивления.
Сторонник
мысли,
объявляющей
талант
врожденным
даром, он в то
же время
твердил, что
не талант сам
по себе
(величина, по
его мнению,
данная и в
качестве
таковой
непререкаемая),
но именно
труд,
изучение,
прилежание
составляют в художнике
то, что
должно быть
предметом восхищения.
В этом
отношении он
высоко ставил
Вальтера
Скотта и
утверждал,
что характерные
для этого
писателя
уверенность
и основательность
рисунка,
всеобъемлющее
знание реального
мира он
достиг лишь
«изучая всю свою
жизнь
важнейшие
явления,
наблюдая их и
ведя о них
ежедневные
беседы» (392). Он
находил, что
у этого
писателя
решительно
все велико: материал,
содержание,
характеры,
обработка, но
при этом
особенно
восхвалял
«неутомимое
прилежание в
предварительном
изучении» (570). По
той же
причине,
характеризуя
Виланда, он в
числе других
превосходных
качеств
этого поэта с
особым
восхищением
отмечает
прилежание,
железное
терпение,
настойчивость,
которыми он
превосходил
всех.
Диалектическое
разрешение
противоречия
между
убеждением
во
врожденности
художественного
таланта и
требованием
величайшей
дисциплины,
упорного
труда,
постоянного
изучения,
усвоения
традиций
высокого мастерства
открыло перед
Гете путь к
разрешению
другой
эстетической
антиномии
противоречия
между субъективным
и
объективным
направлениями
в искусстве.
Вряд ли
кто с большим
убеждением,
чем Гете, настаивал
на том, что
художник
может выразить
в искусстве
лишь самого
себя, запечатлеть
лишь
присущий ему
субъективный
способ
видения и
понимания
мира. Гете
был настолько
проникнут
этой мыслью,
что, как мы уже
отметили,
даже процесс
усвоения и
подражания
понимал не
как
пассивную
рецепцию, но как
активное
действие
отбора,
ассимилирующего
только то,
что
соответствует
личным склонностям,
личной
организации,
и устраняющего,
как заведомо
бесплодное и
ненужное, все
то, что по
природе
своей чуждо
личности и не
может стать
элементом,
питающим ее
силы. Начиная
от
простейшего
акта
зрительного
впечатления,
содержание
которого, по
Гете, в болыней
мере, чем об
этом думают,
обусловлено структурой
субъекта и
его органов
восприятия *,
и кончая
уовоением
сложнейших
содержаний,
требующих
участия всех
самых высших
органов
интеллектуальной
сферы, наши
реакции на
мир,
выражения
наших
впечатлений
и тем более
наши
художественные
акты представляют,
по Гете, лишь
реализацию в
концентрированных
формах нашей
субъективности,
того, чем мы
сами
являемся и на
что мы сами
способны
Этим
убеждением
не только
проникнуты
все идеи Гете
об искусстве,
этот тезис,
высказанный
в уже
цитированном
афоризме «в
искусстве
личность
все», в
принципе
«верности художника
самому
166
себе», не
только
определяет
собою
содержание
гетевской
эстетики, но,
как не трудно
показать,
лежит в основе
всех
представлений
Гете об
условиях продуктивности
человеческой
деятельности
идет ли речь
об искусстве,
о науке или
философии.
Только
убеждением
Гете во
всеоп-ределяющем
значении
личного
начала можно
объяснить,
например,
странный и
непонятный при
всяком
другом
освещении
афоризм, в
котором он, характеризуя
значение
знаменитого
математика
Лагранжа,
сказал, будто
источник научного
величия
Лагранжа в
том, что
Лагранж был
хороший
человек (см. 420).
Со всем
тем Гете был
весьма далек
от эстетического
субъективизма.
Подлинный
смысл всех
суждений, в
которых он
напирает на
значение
личного начала,
раскрывается
лишь в полном
контексте его
высказываний
и прежде
всего лишь
при точном
учете того,
что он
разумел под
личностью.
Как было уже
показано
нами в
анализе противоречия
между
прирожденностью
дарования и
необходимостью
культивировать
его путем
изучения,
личность для
Гете
понятие сложное,
многообразно
обусловленное
и диалектически
опосредствованное.
Непосредственность,
простота,
неделимость,
данность
личного начала
оказываются,
по Гете,
непосредственностью,
простотой,
неделимостью
и данностью, реальными
только с
точки зрения
поверхностного
и первого
впечатления.
На деле
то, что мы
зовем
личностью,
есть, по Гете,
не столько
простая
данность,
сколько сложный
итог истории
развития
индивида, и
складывается
итог этот не
столько из
неделимых и
простых
элементов,
укорененных
в некоторой
врожденной
сущности,
сколько из
сложного
комплекса
всего, что
было активно
усвоено, переработано
и
объективировано
личностью за весь
ее жизненный
путь.
Поэтому,
провозглашая
решающее
значение личной
организации,
Гете отнюдь
не приближался
к
субъективному
идеализму,
для которого
существует
не мир, но
лишь
«представление»
о нем,
обусловленное
тем или иным
устройством
головы
субъекта.
Подлинный
смысл
относящихся
сюда
афоризмов
имеет в виду
оттенить
лишь
убеждение
Гете в том,
что в
продуктах
творчества
человека не
может быть
никаких
элементов,
нейтральных
и внешних по
отношению к
личности
автора, не переработанных
им, не
прошедших
через его ассимилирующую
и
пластически
воздействующую
активность.
Таким
образом, не
вступая ни в
какие противоречия
с самим
собой, Гете
соединяет
принцип
верности
художника
личному
началу, предрасположениям
и силам его
личной
организации
с принципом
по сути
материалистической
объективности,
рассматривающей
в качестве
реального
объективного
факта не
только само
художественное
произведение
и не только
предметы и
явления,
послужившие
моделью или
исходной
точкой для
его создания,
но также
рассматривающей
самое личность
художника, со
всеми ее
данными
качествами и
предрасположениями,
как реальный
элемент, представляющий
результат
развития и
объективного
взаимодействия
гораздо
более широких
сил и фактов,
глубоко
укорененных
в социально-исторической
жизни.
Нет
поэтому
ничего удивительного
в том, что
наряду с
тезисами и суждениями,
как будто
имеющими
целью утвердить
спонтанность
личного
начала, Гете,
с настойчивостью
ничуть не
меньшей, с
силой выражения,
ничуть не
уступающей
первым, выдвигает
ряд,
по-видимому,
совершенно
иных, но на
деле с ними
диалектически
сопряженных положений,
прямо
направленных
на подрыв всякого
субъективизма
и на
сознательное
утверждение
объективной
ориентации
искусства.
Более
того. Если в
суждениях,
которые
непроницательный
читатель
167
мог бы
счесть за субъективистские,
Гете просто
спокойно описывал,
как он ее
понимал,
реальную
связь между
результатами
художественного
труда и конкретными
условиями
его
реализации в
развитии и
деятельности
индивида, то
наряду с этим
во всех
случаях,
когда ему
казалось, что
от
усмотрения
этих условий
делают
незаконный
скачок и
утверждают
субъективизм
в качестве
метафизического
принципа
эстетики,
Гете
обрушивался
на
субъективистские
теории со
всем
темпераментом,
на какой он только
был способен.
Он не
только
громит
«субъективность»,
как общую
болезнь
нашего века
(см. 290), но, в качестве
интимнейшего
убеждения,
сообщает
Эккерману
свою
уверенность
в том, что «все
эпохи,
которые идут
назад и
охвачены
разложением,
полны
субъективизма,
зато все эпохи,
которые идут
вперед, имеют
объективное
направление».
Всякая
чрезмерная
рефлексия,
направленная
на самого
себя, самоанализ
и копание в
недрах
собственной
личности и
личных
переживаний
были ему
ненавистны,
как признак
бесплодия и
как примета, показывающая,
что в
человеке
ослабла энергия
и воля к
подлинной
продуктивности.
Ни один из
принципов
идеалистической
философии не
был ему
настолько
чужд, как
принцип
самопознания,
провозглашенный
еще Сократом
и положенный
в
видоизмененной
форме в основу
теории
новейшего
субъективизма.
«Во все времена,
сообщал он
Эккерману,
говорили и
повторяли,
что каждый
должен
стремиться
познать самого
себя.
Странное
требование,
восклицал он,
которому до
сих пор никто
не мог удовлетворить
и которому в
сущности
никто и не должен
удовлетворять»
(463).
Идеалистическому
учению,
заставляющему
весь объективный
мир
вращаться
вокруг
субъекта и
присущих ему
форм чувства
и категорий
познания, как
будто бы этот
мир был их
порождением или
проекцией,
Гете с
истинно
материалистической
воодушевленностью
противопоставляет
противоположное
воззрение. Он
говорит, что
«человек
всеми своими
чувствами и
стремлениями
привязан к
внешнему
миру» и что
человеку приходится
«познать этот
мир и
заставить его
служить себе,
поскольку
это
необходимо для
его целей» (463).
Он утверждал,
что «каждое
здоровое
стремление,
исходя из
внутреннего
мира,
устремляется
к миру
объективному,
и это
характерно
для всех
великих эпох,
которые были
полны
подлинного
стремления и
движения
вперед и были
по природе
своей объективны»
(292). Он
опровергал
лозунг
самопознания,
говоря, что о
самом себе
«человек знает
лишь тогда,
когда он
наслаждается
или страдает»
и что о себе
он может
узнать
только то,
«чего он
должен
искать и чего
избегать. Вообще
же говоря,
говорил он
Эккерману,
человек
существо
темное он не
знает, откуда
он приходит,
не знает,
куда уходит,
очень мало
знает о мире
и меньше
всего о самом
себе. Я,
прибавлял он,
также себя
не знаю, и да
избавит меня
от этого бог»
(463). В контексте
подобных же
мыслей он в
одном из
любопытных
афоризмов,
записанных
Эккерманом,
осуждал
«слишком
чувствительную
совесть»,
которая
«высоко ценит
свое моральное
«я» и ничего не
хочет
простить ему.
Такая
совесть
делает
человека
ипохондриком,
если только
она не
уравновешивается
энергичной
деятельностью»
(597).
Возражения
Гете против
субъективизма
имеют в виду
не только
общие
принципы
философии и
мировоззрения.
Они
непосредственно
направлены
против
субъективизма
в искусстве и
в эстетике.
Он говорил,
что пока поэт
«выражает
свои немногие
субъективные
ощущения, его
еще нельзя назвать
поэтом» и что
он станет
подлинным поэтом
лишь тогда,
когда «сумеет
овладеть всем
миром и найти
для него
выражение... И
тогда, утверждал
Гете, он
неиссякаем и
может быть вечно
168
новым, в
то время как
субъективная
натура быстро
высказывает
то немногое,
что в ней
внутренне
заключено, и
гибнет,
впадая в
манерность» (291).
Настолько
ценным была в
глазах Гете
объективность
художественного
выражения,
его способность
быть не
только
отголоском
личного мира
художника, но
и полотном,
воспроизводящим
объективные
явления и
силы,
составляющие
содержание
жизни, что,
исходя из
критерия
этой ценности,
Гете, в
известном
отношении,
отдавал
пластическим
искусствам
преимущество
перед
поэзией. Он
утверждал,
что
стихотворение
«производит
гораздо
менее
определенное
впечатление
оно
возбуждает
настроения,
которые у
каждого
различны в
зависимости
от характера
и свойств
слушателя» (367).
Напротив, великое
преимущество
пластического
искусства он
усматривал в
том, что оно
«носит чисто
объективный
характер», а
потому,
привлекая
нас к себе, «не
особенно
захватывает
наши чувства.
Такое
произведение,
разъяснял он Эккерману,или
ничего не
говорит нам,
или действует
на нас
совершенно
определенным
образом» (367). Из
этих
положений он
выводил, что
поэзия
должна в
доступных
для нее пределах
стремиться к
той же
многосторонней
полноте
объективного
выражения,
которую
осуществляет
более
счастливая
по своей
природе
пластика, и
что поэт,
подобно певцу,
должен петь
не только те
ноты, которые
ему
естественно
даются и не
представляют
трудностей
для
исполнения,
но должен
также
приобрести и
другие,
недостающие
ему ноты, так
как в своем
искусстве
ему
необходимо
«овладеть всеми
звуками» (291).
Требование
максимальной
объективности,
т. е. полноты,
широты
художественного
охвата и
пластической
силы объективирующего
впечатления,
ставило Гете
лицом к лицу
с одним из
труднейших
противоречий
эстетики.
Состоит это
противоречие
в том, что
задача
воспроизведения
как можно
более
широкого и
объективного
содержания,
выходящего
за пределы
личного мира
художника и
совпадающего
с
объективной
закономерностью
жизни, не
мирится как
будто с
другим эстетическим
принципом,
который
гласит, что единственным
подлинным
объектом
художественного
изучения и
воспроизведения
может быть не
абстрактный
мир общих
законов, но
лишь конкретный
образ
конкретных и
индивидуальных
предметов.
В
суждениях
Гете об
искусстве
противоречие
это является
узлом целого
ряда важнейших
эстетических
проблем. В
разрешении
этих проблем
сказался в
полном
блеске
диалектический
гений Гете,
стоящий на
высоте самых
глубоких
идей, до
которых
сумела подняться
эстетика
немецкого
классического
идеализма.
Некоторая
разбросанность
и случайность
этих
высказываний,
вызванных, как
было уже
указано,
всегда
каким-нибудь
частным
фактом или
впечатлением,
и потому не изложенных
в
систематической
форме,
опирается
зато на такой
конкретный
художественный
опыт, на
такую
всестороннюю
и глубокую
рефлексию о
конкретных
фактах
искусства,
перед лицом
которой
часто
бледнеют и
кажутся абстрактными,
стороною
касающимися
предмета
эстетические
суждения
Шеллинга и
Гегеля.
Принципиальные
основы для
решения
указанного
противоречия
Гете черпал в
диалектическом
взгляде на
отношение
между общим и
частным. По
его мысли,
возможность
объективного
содержания и
объективной
значимости
искусства
обеспечивается
природой
самих связей
между общим и
индивидуальным:
частное и
особенное не
изоли-ровно
от общего и
не исключает
его своим
наличием;
напротив,
общее может
быть усмотрено
и
удостоверено
в своем
качестве объективной
общности
только через
усмотрение
частного и
индивидуального,
кото-
169
рое,
таким
образом,
отнюдь не
исчерпывается
своими
непосредственными
частными свойствами
и
определениями,
но
оказывается
в то же время
носителем и
проявителем
общего.
Из этой
диалектической
сопряженности
общего и
частного
Гете выводит
возможность
и реальную осуществимость
задачи,
которую он
ставит перед
искусством и
которая
сводится к
тому, что
художник
должен
«поставить
«ад собою интересы
целого и
дела» (276).
Осуществимой
задача эта
оказывается
потому, что
все частное,
изображаемое
поэтом или
вообще
художником,
таит в себе
возможность
при
надлежащей
установке и
при
надлежащем
усмотрении
проявить
общие законы
и общие
тенденции.
«Каждый
характер,
сообщал Гете
Эк-керману,
как бы
своеобразен
он ни был, и
все изображаемое,
начиная от
камня до
человека,
заключает в
себе нечто
общее, потому
что все повторяется
и нет ни
одной вещи в
мире, которая
была бы в нем
лишь один раз»
(182).
Но
частное не
только
заключает в
себе возможность
выявления
общих
закономерностей
и связей,
через это
частное
действующих.
По мысли Гете
и мысль эта
имеет
решающее
значение для
всей
эстетики,
общее
реально
существует только
в частном и
только через
частное может
быть в своем
качестве
общего
обнаружено.
Из этого
принципа
Гете выводит
основное
убеждение
своей
эстетики,
которое
сводится к
требованию
художественного
усвоения и
художественного
изображения
частного и
особенного,
как
единственного
возможного
для
художника
метода
восхождения
к общему,
составляющему
цель его
стремлений. Именно
в этом
диалектическом
смысле он
утверждал,
что схватить
и изобразить
частное
(особенное) и
составляет
истинную
жизнь
искусства и что
«поэт должен
уметь
схватить
особенное и, поскольку
оно содержит
в себе нечто
здравое,
воплотить в
нем общее» (283). И
в этой же связи
он утверждал,
что
необходимость
специализации,
самоограничения
и сосредоточивания
художественной
деятельности
на однажды
избранной
сфере
обусловливается
той же
диалектикой
общего и
частного, которая,
как он думал,
исключает
возможность
одновременного
и
равномерного
развития
всех
человеческих
способностей.
Всякий
«должен
развиваться,
как нечто
обособленное»,
но при этом
должен
стремиться
«получить
понятие о
том, что человечество
может
создать в
своей совокупности»
(277). Он говорил,
что
«единичный
случай
приобретает
общий смысл и
становится поэтичным
именно
потому, что
за него
берется поэт»
(168). И это свое
утверждение
расширял до степени
универсального
нормативного
правила или
предписания
художественного
поведения.
Из этого
же принципа
он выводил,
как его
необходимые
диалектические
следствия,
ряд
заключений,
общий смысл
которых состоит
в том, что не
существует
непоэтических
предметов и
что главным
источником и
поводом для
создания
художественных
вещей должны
быть
впечатления
и факты
текущей, современной
действительности.
Он
осуждал
нормативные
каноны
немецких эстетиков,
которые
любят «много
говорить о поэтических
и
непоэтических
предметах», и
уверял, что «в
сущности, нет
ни одного реального
предмета,
который был
бы непоэтичен,
если
художник
умеет надлежащим
образом
использовать
его» (367368). Тезису
этому он
придавал
значение
настолько
большое, что,
при всей
своей
нелюбви к
крайностям
французского
романтизма,
считал
несомненным
положительным
результатом
романтического
движения
установление
нового взгляда
на объекты
художественного
воспроизведения,
взгляда,
согласно
которому
впредь ни на
один
170
предмет
в широком
мире и
многосторонней
жизни не
станут
смотреть как
на
непоэтический
(см. 809810).
С
особенной
энергией он
настаивал на
том, что
искусство должно
находить для
себя повод,
сюжет и питательные
материалы в
событиях и
впечатлениях
текущей
современности.
Он говорил,
что «современность
предъявляет
свои права» и
что то, что
«ежедневно
волнует
мысли и
чувства
поэта, хочет
и должно быть
высказано» (167).
Он любил
повторять,
что
«действительность
должна дать
мотивы,
моменты,
подлежащие
оформлению,
ядро
произведения,
но «чтобы
сделать из
этого
прекрасное
живое целое,
нужно творчество
поэта» (168).
Относя
этот
критерий к
самому себе,
он с удовлетворением
указывал, что
его
собственные
стихотворения
всегда
возникали на
основе
впечатлений текущей
жизни, как
осознание и
выражение общего
смысла,
играющего
своими
лучами на гранях
частного и
даже порою
интимно
личного
явления. «Все
мои стихи,
говорил он,
стихи «по
поводу» (sind Gelegenheitsgedichte),
они навеяны
действительностью,
в пей имеют
почву и
основание.
Стихи, не
связанные с
жизнью, для
меня ничто» (168).
Он повторял,
что «мир так
велик и
богат, и
жизнь так
разнообразна,
что в поводах
для стихов никогда
не будет
недостатка»,
и что все
стихотворения
должны быть
написаны «по
поводу» («es mussen alles
Gelegenheitsgedichte sein»), «это
значит,
действительность
должна дать повод
и материал
для
произведения»
(168).
В ряде
его суждений
с
поразительной
силой запечатлелось
присущее ему
сознание
полноценности
каждого
текущего
мгновения,
глубокое
убеждение в
том, что
значение
больших
периодов и
даже величие
самой
вечности складываются
именно из
этих
мгновений,
бегущих одно
за другим и в
своей
особенности
несущих также
и общую им
всем
тенденцию
или направленность.
«... Всегда
цените
настоящее,
говорил он
Эккерману.Да,
каждое
явление и
даже каждый
миг имеют
бесконечную
ценность,
потому что
они являются
выразителями
целой вечности»
(189). Раскрывая
причину
художественной
удачи своей
«Трилогии
старости», он
разъяснил,
что источник
художественного
действия
«Трилогии» в
том, что,
создавая ее,
он относился
к настоящему,
как делают
игроки, ставящие
на карту
значительную
сумму: «... я старался,
пояснял он,
возвысить
данную
минуту,
насколько
возможно,
избегая, однако,
преувеличений»
(196). По той же
причине он советовал
поэтам
датировать
каждое написанное
ими
стихотворение,
имея при этом
в виду не
столько
увековечение
самого факта
написаний,
сколько
прежде всего
закрепление
в памяти
живого и
конкретного
контекста,
настоящего,
которое
послужило
поводом и исходной
точкой для
создания
каждой вещи (см.
185).
Та же
диалектика
общего и
частного,
универсального
и
индивидуального,
объективного
и
субъективного,
усвоенная не
как абстрактный
принцип, но
как
конкретное
воззрение,
взращенное
всем
огромным
художественным
опытом и
овладевшее
его мыслью с
непосредственностью
и наглядной
силой почти
натурального,
органического
ощущения, дает
ему в руки
ключ к
разрешению
ряда противоречий,
касающихся
уже не
объекта
художественного
труда, но
метода и
способов его
освоения и
воспроизведения.
По мысли
Гете,
сопряженности
общего и
частного в
предмете
художественного
изображения
должна
соответствовать
такая же
сопряженность
конкретного
и универсального
в формах,
функциях и
методах, с
помощью
которых этот
предмет
изображается
в искусстве.
Соответственно
тому, как
общее
существует и
проявляется
в качестве
общего лишь
через
частное и
единичное,
так и при
воспроизведе-
171
нии в
искусстве
общий смысл,
понятие, идея
произведения
могут
выступить
лишь как
результат
усвоения
конкретной
ткани,
составляющей
основу и
содержание художественной
вещи. Идейная
значимость и
идейная
направленность
произведения,
согласно
мысли Гете,
никогда не
могут реализоваться
сами по себе,
как
абстрактные
мысли и
лозунги, как
тезисы,
механически
введенные в
структуру
вещи. Свое
значение и
воздействие
они могут
осуществить
только
будучи
конкретной
идеей, в
конкретном
образе
укорененной
и из
конкретного
материала
вытекающей.
Исходя
из этой
мысли, Гете
выступает
как энергичный
противник
всяческого
эстетического
рационализма
и всяческой
рассудочной
дидактики.
Глубоко
убежденный в
том, что только
идейная
содержательность,
только идейная
насыщенность
способны
сообщить
произведениям
искусства
действительную
высоту, а
также обеспечить
за ними
возможность
непреходящего,
длительного
и
плодотворного
воздействия,
Гете в то же
время
решительно
отвергал всякую
попытку
рассматривать
идейную зарядку
как элемент,
который
может быть
внедрен в
произведение
как таковой,
не становясь
при этом субстанцией,
невидимо
разлитой по
всей конкертнои
поверхности
образа и
неотделимой
от его
конкретного
содержания.
Отсюда
энергия его
возражений
против рассудочной
идеологичности
в искусстве,
возражений,
которые не
только не
имеют ничего
общего с
проповедью
безыдейности,
но являются
прямой ее противоположностью.
Именно
потому, что
Гете хотел
видеть в
художественном
произведении
силу,
способную не
однажды
только, но многократно,
в ряде
последующих
восприятий организовывать
мысль,
насыщать ее
высокими
идеями и
направлять к
еще более
высоким
идейным
задачам и
замыслам, он
не мог
допустить, чтобы
возможность
столь
глубокого и
плодотворного
влияния была
парализована
или подорвана
дурным
воздействием,
какое, по его
убеждению,
непременно
должна была
оказать идея,
оставшаяся
внешней по
отношению к
самому произведению,
не возникшая
из его
собственного
сложения и
развития, не
слившаяся воедино
с его
конкретной
тканью.
Только в этом
и ни в каком
ином смысле
должны быть
понимаемы
бесчисленные
высказывания
Гете, направленные
против
рассудочной
дидактики, против
идейности, не
сумевшей
слиться с
самим
произведением,
стать
одушевляющим
принципом
его
структуры и
организации,
высказывания,
которые,
будучи взяты
вне контекста
всех воззрений
Гете, могли
бы ошибочно
быть приняты,
как признак
недооценки
идейного
начала и ведущего
начала
идейности в
поэзии.
Отвлеченную
дидактику,
рационализм,
отделяющий
идейную
направленность
от конкретного
генезиса и
конкретного
содержания художественной
вещи, Гете
отвергал я как
принцип
творчества и
принцип
критики и
истолкования
произведений
искусства.
Опираясь
на свой
собственный
художественный
опыт, Гете
указывал, что
подлинно
плодотворный
поэт никогда
не стремится
к воплощению
в своем
произведении
какой-либо
абстрактной
идеи. «... Не моя
манера, разъяснял
он по поводу
«Фауста»,стремиться
воплощать в
поэзии
что-нибудь абстрактное.
Я
воспринимал,
продолжает
он, впечатления,
впечатления
чувственные,
полные жизни,
милые,
пестрые,
бесконечно
разнообразные,
которые мне
давало
возбужденное
воображение;
и мне как
поэту не
оставалось ничего
больше как
только
художественно
округлять и
оформлять
такие
созерцания и
впечатления
и выражать их
в живом слове
так, чтобы и
другие, читая
или слушая
изображенное
мною,
получали те
же самые
впечатления»
(719).
172
Следуя
этим мыслям,
Гете
сознательно
отвергал
всякую
попытку
свести к
отвлеченным идеям
содержание
даже тех
своих
произведений,
которые
почитаются в
качестве
наиболее
идейных,
наиболее
богатых
мыслями, наиболее
значительных
в идейном
отношении. Он
утверждал,
что «Фауст»
есть «нечто
совершенно
несоизмеримое»
и что «тщетны
все попытки
сделать его
доступным
нашему
рассудку» (484485).
По его мысли,
в
произведениях,
подобных «Фаусту»,
«Одиссее»,
«Жиль-Блазу», ясными
и
значительными
могут быть
лишь отдельные
их части,
целое же
«всегда
остается несоизмеримым,
нo именно
поэтому,
подобно неразрешенной
проблеме,
снова и снова
приковывает
к себе
внимание
людей» (348). К
числу таких
же
несоизмеримых
произведений
он причислял
и «Вильгельма
Мейстера»,
говоря, что этот
роман
«принадлежит
к числу
наиболее трудно
постигаемых
продукций» и
что у него самого
«ключа к нему,
пожалуй... нет.
Ищут центральный
пункт,
жаловался он
Эккерману,
найти его не
легко и,
пожалуй,
искать не
стоит. Мне
кажется,
прибавлял
он, что богатая,
разнообразная
жизнь,
проходящая
перед нашими
глазами,
значит
кое-что и
сама по себе
без
выраженной
тенденции,
которая дает
ведь лишь
отвлеченное
понятие» (268).
С
неменьшим
недоумением
отвечал Гете
и на вопрос о
том, какую
абстрактную
идею положил
он в основу
своего
«Тассо». Идею,
отвечал он Эккерману,
да вот уже и
не знаю!
Предо мною
была жизнь Тассо
и моя
собственная;
я слил в одну
эти две странные
фигуры со
всеми их
особенностями,
и таким
образом
вышел образ
Тассо; как
контраст ему,
я выставил
Антонио, для
которого у
меня также
нашлись оригиналы.
Остальные
придворные,
житейские и любовные
отношения
были
одинаковы и в
Веймаре и в
Ферраре, и я
имею право
сказать о моем
изображении:
оно кость от
костей моих и
плоть от
плоти моей
(см. 718). Не иначе
было, по Гете,
и с «Фаустом».
«Вот они
подступают
ко мне и спрашивают,
ворчал он,
какую идею
хотел я воплотить
в своем
«Фаусте»? Как
будто я сам,
восклицал он,
это знаю и
могу это
выразить!.. В
самом деле,
пояснял он,
хорошая это
была бы
штука, если
бы я
попытался
такую
богатую,
пеструю и в
высшей
степени
разнообразную
жизнь,
которую я вложил
в моего
«Фауста»,
нанизать на
тощий шнурочек
одной единой
для всего
произведения
идеи» (719).
Поиски
абстрактной
идеи, лежащей
в основе
произведения,
казались Гете
ложным
стремлением,
не
отвечающим
существу
поэтического
творчества
не только тогда,
когда
предметом
этих поисков
становились
его
собственные
поэмы и
романы; с не меньшей
энергией
Гете
отвергал
возможность
сведения
произведения
к
абстрактной
идее и у других
писателей и
художников.
Так, он Отвергал
работу
Гинрихса,
посвященную
анализу эстетических
принципов
трагедий
Софокла,
именно
потому, что
Гинрихс «при
рассмотрении
греческой
трагедии»
исходит из
идеи, и потому
что он
полагает,
будто и
Софокл «при
замысле и
разработке
своих пьес
исходил из
идеи и,
руководясь
ею, определял
характеры,
пол и
положение
своих
действующих
лиц» (688). Напротив,
по
разъяснению
самого Гете,
Софокл в своих
трагедиях
«отнюдь не
исходил из
идеи, но
обыкновенно
брал
какую-нибудь
давно уже
готовую сагу
своего
народа, где,
конечно, уже
имелась
некоторая
идея. Он же
думал лишь о
том, чтобы
изобразить
ее возможно
лучше и
действеннее
для театра» (688).
Развивая
эти мысли,
Гете не хотел
сказать, будто
Софоклу не
было
никакого
дела до идеологического
и
нравственного
воздействия
своих пьес.
Гете хотел
доказать
лишь ту мысль,
что
идеологическое
воздей-
173
ствие
трагедий
Софокла
могло иметь
своим непосредственным
источником
не абстрактную
идею и что
оно вытекло
из самой
художественной
трактовки
сюжета. «Если
в самом
предмете
заключено,
разъяснял
Гете,
нравственное
воздействие,
то оно
проявится,
хотя бы сам
поэт не думал
ни о чем
другом, кроме
наиболее
яркой и
художественной
обработки
предмета. Если
поэт,
продолжал он,
имеет такой
возвышенный
душевный
склад, как
Софокл, то
его воздействие
всегда будет
нравственным,
какую бы
позицию он ни
занял» (690). И
Гете
доказывает, что
непосредственной
целью
Софокла, руководившей
им в замысле
его трагедий и
в работе над
ними,
постоянно
было впечатление
на зрителей и
что лучшее
тому доказательство
различная
художественная
трактовка
сходных
положений в
«Филоктете» и
в «Эдипе в
Колоне» (см. 690).
Напротив,
основным
недостатком
Шиллера и главным
источником
всех его
художественных
неудач Гете
считал присущую
Шиллеру
тенденцию
подчинять трактовку
драматического
или
поэтического
произведения
наперед
данной
абстрактной
идее, которая
не вытекала у
Шиллера как художественный
итог
художественной
разработки
сюжета, но
присоединялась
к нему как бы
извне, оставаясь
легко
отделимым от
него и
чужеродным в его
ткани
элементом. В
этом смысле
Гете утверждал
что
«философское
направление
Шиллера
принесло
вред его
поэтической
деятельности»,
так как,
исходя из
него, Шиллер
«отвлеченную
мысль...
поставил над
природою,
больше того,
мысль
уничтожила
природу» (194). По
Гете,
тенденциозный
идеологазм
Шиллера
приводил его
к
превратному
идеализму, к
убеждению,
будто то, что
представлялось
его мысли, должно
было
случиться
«независимо от
того,
соответствовало
ли оно
природе или
противоречило
ей» (194). «Грустно
видеть, говорил
Гете о
Шиллере, как
такой
необыкновенно
одаренный
человек
терзает себя
философскими
идеями,
которые ему
ничем не
могут помочь»
(194). Период, в
течение
которого
Шиллер
пытался
сделать
поэзию и
драматургию
проводником
наперед
данных и
организующих
структуру
произведения
абстрактных
идей, Гете
называл
«несчастным
периодом
умозрений».
Он отвергал,
как
противоестественную,
мысль
Шиллера,
будто
сентиментальная
поэзия «может
существовать,
не имея над
собой той
непосредственной
наивной
почвы, из
которой она
как бы
вырастает», и
важным
эстетическим'
недостатком
Шиллера
считал то,
что Шиллер не
мог «творить
с известной
бессознательностью
и как бы
инстинктивно;
наоборот, он
должен был
подвергать
рефлексии
все, что он
делал» (194). Такой
способ
действий
прямо отражался,
по Гете, на
результатах
работы Шиллера;
по
утверждениям
Гете, Шиллер
«слишком часто
действовал
под влиянием
предвзятой
идеи, не
обращая
достаточного
внимания на
тот предмет,
с которым
имел дело» (429).
Другим
недостатком
Шиллера,
прямо
вытекавшим из
господства
над ним
абстрактных
идей, Гете
считал
неспособность
Шиллера к
органическому
и спокойному
развитию
сюжета, к тихому
вынашиванию
его до полной
законченности
и
определенности,
которые
сделали бы невозможными
дальнейшие
неустойчивые
искания и
сомнительные
в своей
необходимости
варианты.
Восхищаясь
дарованием
Шиллера,
талант
которого, по
словам Гете,
«очень подходил
для театра»,
Гете в то же
время отмечал,
что
постоянное
подчинение
трактовки и
сюжета идее
сделало то,
что Шиллер
«на всякий свой
сюжет...
смотрел как
бы только
извне», «всегда
колебался»,
«никогда не
мог
закончить» и
«не охотник
был до
больших
мотивировок».
«...Его спокойное
развитие
изнутри, заключал
Гете, было
ему чуждо» (269).
Напротив, в тех
произведениях,
которые, как
например
174
письма
Шиллера,
писались им
вне
руководства
предвзятой
абстрактной
идеи, Шиллер
вырастал в
глазах Гете в
писателя
первоклассной
силы
дарования. «...
Стиль Шиллера
богаче и
сильнее
всего,
говорил Гете,когда
он не
философствует,
как это я мог
отметить еще
сегодня по
его в высшей
степени значительным
письмам,
которыми я
как раз теперь
занят» (233).
Единственной
областью
поэзии, в
какой Гете
считал
возможным подчинять
разработку
произведения
непосредственно
абстрактной
идее, которую
это произведение
должно было
выразить,
были маленькие
стихотворения,
«где может
быть твердо
проведено
единство и
которые
легко охватить
взглядом,
каковы,
например,
«Метаморфоза
животных»,
«Метаморфоза
растений».
Таково
стихотворение
«Завещание» и
многие
другие» (719).
Единственным
крупным
произведением,
где Гете
работал над
проведением
одной идеи, было
«Избирательное
сродство».
Однако, считая,
что роман
стал
вследствие
этого более
понятным для
ума, Гете
высказывал
сомнение в том,
выиграл ли он
оттого в
своих
художественных
качествах.
Напротив,
резюмируя
свои мысли,
высказанные
в разное
время по
этому вопросу,
Гете
решительно
склонялся к
мнению, что «поэтическое
произведение
тем лучше, чем
оно
несоизмеримее
и
недоступнее
для рассудка»
(719). В этом же
смысле он
утверждал,
что «фантазия
имеет свои
собственные
законы,
следовать
которым не
может и не
должен
рассудок. Если
бы фантазия,
уверял Гете,
не могла
создавать
вещи, которые
навсегда
останутся
загадками
для рассудка,
то фантазия
вообще не
многого бы
стоила.
Именно этим
поэзия
отличается
от прозы, в
которой рассудок
всегда
бывает, может
и должен быть
хозяином» (369).
Отвергая
выведение
художественной
разработки
из
отвлеченной
идеи в сфере
художественного
творчества,
Гете отвергал
это
выведение
также и в
сфере художественной
критики и
эстетики.
Огромным недостатком
немецкой
эстетической
критики Гете
считал
стремление
немецких
исследователей
сводить
содержание
художественных
произведений
к
абстрактным
идеям. Он
потешался
над современными
ему немцами,
которые
«делают себе жизнь
тяжелее, чем
это нужно
своими
глубокими
мыслями и
идеями,
которые они
всюду разыскивают
и всюду
вкладывают» (718).
В противовес
этой
тенденции
Гете
выдвигал
непосредственность
и
естественную
силу впечатлений,
как
конкретную
основу
художественных
произведений.
«Имейте же,
наконец,
мужество,
призывал он, отдаться
впечатлениям,
разрешите
вас
позабавить,
растрогать,
поднять,
научить,
вдохновить и
зажечь
стремлением
к великому,
но только не
думайте, что
суетно все
то, з чем нет
какой-нибудь
абстрактной
мысли или
идеи!» (718).
С
отрицанием
генетического
приоритета абстрактных
идей тесно
связывается
у Гете вся
его, в высшей
степени
характерная
для его
эстетических
воззрений,
концепция
демонического.
Гете был убежден
в том, что
высочайшие
вершины
художественного
творчества,
представленные
деятельностью
гениальных
художников,
характеризуются
подчинением
искусства не
абстрактному
рассудку и не
идейной
тенденциозности,
но особой
силе, которую
Гете называл
«демоническим»
началом в
человеке и
которой
сущность казалась
ему
иррациональной.
В этом смысле
он говорил,
что в поэзии
«бесспорно
имеется нечто
демоническое
и притом
преимущественно
в
бессознательном,
которое не в
состоянии
постичь ни
рассудок, ни
разум, и
которое именно
поэтому
производит
такое
могучее впечатление»
(569).
Демоническое
он ближе
определял,
как «то, чего
не могут
постичь ни
рассудок, ни
разум», и
175
утверждал
при этом, что
в области
искусств демоническое
начало
«проявляется
сильнее в
музыке,
меньше в
живописи» (567). К
музыке
сказанное о
бессознательном
«применимо в
чрезвычайной
степени,
разъяснял
Гете, ибо она
стоит
настолько высоко,
что не
поддается
рассудочному
толкованию, и
от нее
исходит
такое действие,
которое все
себе
покоряет и в
котором
никто не в
состоянии
отдать себе
отчет» (569).
Осуждение
абстрактного
идеологизма
и предвзятой
идейности,
извне
навязываемой
произведению,
не
рождающейся
вместе с ним
из его
конкретной
ткани,
сопровождалось
у Гете
известной
реабилитацией
чувственности
и
чувственной
фантазии в
противовес
рассудочной
рефлексии,
неспособной,
по его мысли,
быть завязью
подлинно
художественных
произведений,
Гете с
преувеличенной
настойчивостью,
грозившей
обернуться
тенденциозностью
другого рода,
выдвигал
непосредственную
силу
чувственных
образов
фантазии, как
реальную
основу и как
неоскудевающий
источник
материалов
для
искусства. Он
говорил, что ни
одно
искусство не
может
обойтись без
«прелести
чувственности»
и что
художнику,
который «обращается
к
идеальному»,
хочет
«изобразить
более
высокие
движения
нашей души»,
напротив,
трудно
достигнуть,
«чтобы
изображение надлежащим
образом
затрагивало
чувственность
и чтобы оно
не было сухим
и холодным» (417).
В его глазах
чувственная
наглядность
и
конкретность
изображения
были
настолько
необходимыми
условиями
всякой
художественной
работы, что
он
рекомендовал
художникам
самый выбор
сюжета и темы
согласовать
с наличными у
них
ресурсами
чувственного
воображения
По этой же
причине он
полагал, что
в старости,
когда
иссякает в
художнике
естественно
бивший в нем
в дни его
молодости
ключ чувственной
фантазии,
художник
должен переходить
на такие
сюжеты,
которые в
самих себе,
так сказать,
объективно
заключают
необходимую
чувственную
основу. Он
полагал, что
«Ифигения» и
«Тассо»
удались ему
потому, что
он «был тогда
молод» и его
чувственность
«была достаточно
ярка, чтобы
пропитать
идеальный
материал и
оживить его» (417).
И, напротив,
он находил,
что для
старости
такие
идеальные сюжеты
не подходят,
и считал, что он
поступает
благоразумнее,
«избирая такие,
в которых уже
самый
материал
заключает в себе
известную
чувственность»
(417418). В этом же смысле
он говорил,
что
подлинная
свобода обнаруживается
в художнике
только в том
случае, если
произведение
ему по силам,
и что «одного
изучения..
недостаточно
без силы
воображения»
(480).
Вырванные
из контекста
всего
гетевского мировоззрения,
положения
эти могут
сойти за
проповедь
алогического
сенсуализма,
за эстетику
непосредственного
художественного
восприятия,
не освещенного
лучами мысли
и не
переработанного
в сфере
мышления.
Возможности
такого
понимания к
тому же
способствует
беспечность,
с какою Гете
высказывал
свои мысли,
не облекая их
в форму
строгих
определении
и не боясь нисколько
впасть в
противоречия
с другими своими
суждениями, в
другое время
и по другому поводу
высказанными
При
первоначальном
впечатлении
суждения
Гете
казались
проповедью
чистого
алогизма и
сенсуализма
даже
наиболее
проницательным
умам, вступавшим
с ним в
общение.
Таким
пропагандистом
чистой чувственности
показался
Гете,
например,
Шиллеру. В
письме к
Кернеру от 12
августа 1787
года Шиллер с
некоторой
тревогой и
сомнением
отмечает
подмеченное
им у Гете «гордое
философское
презрение ко
всякому отвлеченному
мышлению и
исследованию
в соединении
с доведенной
до
аффектации
привязанностью
к природе и
покорностью
пяти внешним
чув-
176
ствам». По
словам
Шиллера,
«какое-то
детское простодушие
разума
отличает
Гете и всю его
здешнюю
секту. Тут
предпочитают
отыскание
трав или
занятие
минералогией
погружению в себя,
в пустые
рассуждения
и выводы». И
Шиллер
находил, что
идея Гете
хотя и хороша
и здорова,
однако лри
этом «можно
впасть в
большие
преувеличения».
Однако
преувеличения
эти, как ни
бросаются
они в глаза,
были скорее
слишком
сильным акцентом,
оттенявшим значение
оставленной
без внимания
чувственной
фантазии,
нежели
воззрением,
принципиально
умалявшим
роль
мышления и
значение
идейной
наполненности
в искусстве.
Засилье
рефлективности
в эстетике, в
художественной
критике, а
также в самом
искусстве
давали Гете
гораздо
больше
поводов к
выступлению
против
абстрактной
рассудочности,
нежели к спокойному
и
всестороннему
анализу отношений,
связывающих
в
художественном
произведении
его
чувственные
элементы с
его идейной
функциональностью.
Конкретность
эстетических
суждений
Гете,
непосредственным
поводом к которым,
как мы уже
указывали
выше, всегда
было
какое-нибудь
впечатление
текущей художественной
жизни или
личное
переживание художественного
опыта,
гораздо чаще
вызывали
Гете на
защиту прав
непосредственного
представления
и фантазии,
нежели на
защиту
неоспоримых
для него прав
художественной
мысли. И все
же алогистом
и
сенсуалистом
Гете не был.
Даже отводя
«демоническому»
началу, стоящему
якобы
превыше
рассудка и
разума, крупную
роль в жизни
искусства, не
отрицая
своей
подвластности
этому началу,
Гете признавался,
что в его
собственной
натуре
ничего «демонического»
нет (см. 566567), и что
всем, чего
ему удалось
достигнуть в
искусстве, он
обязан постоянному
труду,
изучению и
размышлению. В
полном
соответствии
с тем, что он
по этому
вопросу
думал в сфере
естествознания
и философии *,
Гете и здесь,
в сфере эстетики,
полагал, что
свое
действительное
значение
непосредственные
данные
чувственности
и конкретные
образы
фантазии приобретают
лишь в меру
того, как они
подвергаются
переработке
в сфере мысли
и в
соответствии
с законами
мысли.
Полемика
Гете
направлена
не против
идейного
искусства, но
против сведения
художественной
идеи к идее
абстрактной,
против
подмены
искусства и
художественных
средств
воздействия
сухой и вне
искусства
лежащей
дидактикой и
абстрактным
морализированием,
внешне
соединенными
с некоторыми
чисто
формальными
и потому
бесплодными
элементами
искусства.
Полнота
идейного
насыщения,
понятая, как
необходимое
условие
подлинной
плодотворности
искусства,
нигде не выступает
у Гете с
такой
ясностью, как
в его суждениях
о
художественной
форме.
Если бы
последний
смысл
полемики
Гете против
абстрактной
рассудочности
коренился в
философии
безыдейности,
то в своей
эстетике
Гете должен
был бы
выступить
сторонником
формалистической
трактовки
искусства.
На деле
мы видим
совершенно
иное. Менее,
чем кто бы то
ни было, Гете
был склонен к
недооценке
значения
формы, т. е.
способности
художника
доводить
произведение
до высшей степени
действенности
и
выразительности.
В своей
характеристике
Вальтера
Скотта он
отмечает, что
Вальтер
Скотт, как и
сам Гете, как
и другие подобные
им художники,
«обращают
внимание... на
то, как написано»
(400)
произведение
искусства. Он
иронизирует
по адресу тех
женщин,
которые читают
книгу ради
того, чтобы
найти в ней
достойного
любви героя,
и поучает их,
что «так не
следовало бы
читать», что
«вопрос не в
том, нравится
ли вам тот
или другой отдельный
характер, а
в том,
нравится ли книга»
(393). Настолько
велико и
решающе, но
Гете, значение
фор-
177
мы в искусстве,
что действие
ее Гете считал
распространяющимся
гораздо дальше
сферы
непосредствнных
эстетических
впечатлений.
Па Гете, даже
моральный
эффект произведения,
его
способность
определять
собою
поведение
людей,
склонять их к
различному
образу
поведения решается
качеством и
типом
художественной
формы. «...
Различным
поэтическим
формам, оказал
он как-то
Эккерману,
присуще
большое таинственное
влияние. Если
бы
содержание моих
«Римских
элегий»,
пояснил он,
изложить в тоне
и размере
байроновского
«Дон Жуана», то
все
сказанное
там
показалось
бы совершенно
непристойным»
(210). Он отклонил
предложение
Гетлинга,
советовавшего
ему заменить
в одном из
его
стихотворений
выражение «Priester
Ho-raz» более
подходящим, с
точки зрения
содержания,
вариантом «Priester
Properz», так как
находил, что
последнее
«звучит плохо».
Но,
утверждая,
что
способность
произведения
действовать
определяется
совершенством,
с каким это
произведение
сделано, Гете
был как
нельзя более
далек от
мысли, будто
принцип
формы лежит
вне сферы мысли
и смысла.
Напротив, в
формализме,
отделяющем
технику от
искусства, а
искусство от
создающего
это
искусство
человека,
Гете видел
воззрение,
неверное по
существу,
бесплодное и
губительное,
как принцип
творчества.
Одним из
тягчайших
пороков
дилетантизма,
всегда столь
ему
ненавистного,
он считал обычное
среди
дилетантов
мнение,
будто, овладевая
техникой,
формальным
умением компоновать,
они тем самым
овладевают
искусством.
«Они
обыкновенно
думают,
говорил он,
что стоит
овладеть
техникой и
дело сделано
и можно себя
считать
настоящим
мастером; но
они очень
заблуждаются»
(265). На основе
формалистического
заблуждения,
отмечал Гете,
«пишутся
тысячи
стихов,
содержание
которых равно
нулю и
которые
имеют мнимую
жизнь лишь благодаря
ощущениям,
которые они
пробуждают, и
звонкому
стиху» (265).
В
противовес
формалистическому
воззрению
дилетантов,
Гете
утверждал,
что истинная
сила
художественного
произведения
обусловлена
значением и
ценностью
темы, лежащей
в его основе.
Он говорил,
что темы
имеют важность,
о размерах какой
даже не
подозревают,
и что
«настоящая сила
и влияние
стихотворения
заключается в
ситуации, в
соде-ржании» (265).
Даже в тех
случаях,
когда поэт
своей прямой
задачей
ставит освоение
нового
формального
приема, ломающего
шаблоны
поэтики и
ставшие
обычными
правилами и
канонами,
его. работа
должна исходить,
по Гете, не из
самодовлеющего
интереса к
форме, но из
мотивов,
настолько
значительных,
чтобы их
высота и
значение
могли проложить
путь к
усвоению
необычной
формы,
которая
понадобилась
поэту для их
реализации. В
одном месте
Гете говорит,
что, будь он
молод, он
нарочно
пошел бы
против модных
технических
причуд: «Я
стал бы
употреблять,
говорит он,
аллитерации,
ассонансы,
бедные
рифмы... но
я,выразительно
добавляет он,
обратил бы
все свое
внимание на
самую суть
дела и
постарался
бы написать такие
хорошие вещи,
что все
восхищались
бы и заучивали
их наизусть» (546).
Отрицая
формализм в
корне, как
принцип творчества,
Гете
последовательно
отвергал всякое
подражание
одного
художника
другому,
пусть даже
крупнейшему,
которое
исходит не от
великой личности
автора,
служащего
образцом, и
опирается не
на
современное
значение
мотивов, составлявших
некогда
корень его
искусства, но
в
формалистическом
варварстве
пытается
овладеть его
так
называемой
формой или
техникой,
приспособляя
ее или к
совершенно
иному, или
даже к
совершенно
пустому и
ничтожному содержанию.
Попытки
современных
178
Гете
немецких
драматуров
овладеть,
например,
драматургической
техникой
Шекспира казались
Гете в корне
ошибочными,
дурно направленными.
«Шекспир,
говорил Гете
Эккерману, в
серебряных
чашах подает
нам золотые
яблоки. Мы получаем,
изучая его
произведения,
серебряные
чаши, а
кладем туда
только
картошкуи это
плохо» (288289).
Восхищаясь
Шекспиром,
как величайшим
художником, о
котором «нельзя
говорить»,
ибо «все, что
говоришь,
несостоятельно»
(288), Гете в то же
время с
удовлетворением
отмечал, что
наиболее
ценные произведения
современной
ему
западноевропейской
драматургии
возникли вне
влияния Шекспира
и что авторы
их шли
самостоятельным
путем. «Я
хорошо
поступил,
говорит Гете,
что отделался
от него
(Шекспира. В.
А.) «Гёцем фон
Берлихингеном»
и «Эгмонтом», и
Байрон очень
хорошо
сделал, что
относился к
нему без
особенного
решпекта и
шел своею дорогой.
Как много
отличных
немецких
авторов
погибли,восклицал
Гете,
подавленные
Шекспиром и
Каль-дероном»
(288).
Но
возражения
Гете
направлены
не только против
формалистического
понимания
процесса
творчества. С
не меньшей
энергией Гете
обрушивается
и на
формализм в
эстетике, на
формалистический
принцип в
художественной
критике.
Приоритету
содержания,
мотива,
смысла в
процессе
создания
произведения
должен
соответствовать,
по Гете,
приоритет их
и в процессе истолкования
и объяснения
уже
созданных вещей.
С огромной
силой, с
горячностью,
почти юношеской,
Гете
ополчается
против
формализма современной
ему
художественной
критики. Не
отрицая
учености и
эрудиции
Августа-Вильгельма
Шлегеля, он
осуждает в
его лице самый
принцип
формалистической
трактовки искусства.
Не без юмора
и не без
сарказма рисует
он портрет
Шлегеля, в
котором
современный
читатель
может узнать
прообраз
многих черт современного
нам
формализма.
«Нельзя отрицать,
говорит Гете,
Шлегель
знает
бесконечно
много.
Чувствуешь
почти страх
перед его
чрезвычайными
познаниями и
его огромной
начитанностью.
Но ведь
это,говорит
Гете, далеко еще
не все.
Эрудиция еще
не есть
мысль. Его критика
бесспорно
одностороння;
во всех пьесах
он обращает
внимание
только на
скелет
фабулы и
композиции,
всегда занят
лишь отыскиванием
мелкого
сходства с
великими предшественниками
и нисколько
не интересуется
той живою
прелестью
изображения
и тем
отпечатком
высокой души
автора,
которые мы
наводим в его
произведениях»
(693). По Гете, все
формальное
искусство и
вся
формальная
сноровка не
имеют
никакого
значения, если
через их
посредство
не
обращается к
читателю и не
говорит с ним
воодушевляемая
большими
мыслями и
чувствами
значительная
личность. «Но
что толку во
всех
ухищрениях
таланта,
говорит Гете,
если в
театральных
произведениях
не выступает
перед нами
привлекательная
или
величественная
личность
автора. Это
единственное,
что, по Гете,
входит в культуру
народа...» (693).
В
формализме
современных
ему
филологов и эстетиков
Гете видел
признак
неплодотворности
времени
величайшее
осуждение в
его устах,
значение которого
становится
понятным во
всем объеме,
если мы
припомним,
какой смысл
влагал Гете в
понятие
плодотворности.
«Это всегда
признак
непродуктивности
эпохи,
говорил он, если
занимаются
мелкими
техническими
деталями; а
если
отдельный
человек этим
занимается,
это признак
его личной
непродуктивности»
(546). В
формалистических
же
преувеличениях
и
извращениях
он видел один
из крупнейших
недостатков
литературного
романтизма, в
особенности
французского.
Он отмечает, что
литературная
революция во
Фран-
179
ции,
стремившаяся
вначале к
созданию
новой литературной
формы, не
остановилась
на одной
форме, но
привела к
тому, что
вместе со старой
формой
«отбрасывают
и теперешнее
содержание» (809).
При этом в
погоне за
внешними
эффектами
«становится
невозможным
углубленное
изучение и
последовательное
основательное
развитие
таланта и
человека
изнутри» (810).
Ту же
формалистическую
тенденцию он
отмечал и в
развитии
современной
ему немецкой музыки*.
«Странно,
сказал он
как-то
Эк-керману,
куда уводит
нас далеко
продвинутая
техника и
механика
новейших
композиторов.
Их
произведения
уже не
музыка, они
выходят за
пределы
человеческих
ощущений и тому,
что слышишь,
нельзя найти
отзвука в уме
и сердце» (319).
Полубезотчетная
диалектика,
какою были пронизаны
мысли Геге об
искусстве в
вопросах об
отношении
общего к частному
и
индивидуальному,
чувственного
к разумному,
абстрактного
к
конкретному,
коренящегося
в личном
отношении к
порождаемому
социальной
традицией и
т. д., вплотную
подводила
Гете к
разрешению
одного из
центральных
противоречий
эстетики
противоречия
между
искусством и
действительностью,
т. е. между
результатом
художественного
воспроизведения
предмета и
его
непосредственным
содержанием,
каким он
обладает как
элемент
действительности
в природе
или в социально-исторической
жизни.
Способ,
посредством
которого
Гете разрешал
это
противоречие,
с величайшей
наглядностью
не только
показывает,
насколько
выдвигался
он над
наивным
эстетическим
натурализмом
и
сенсуализмом,
но в то же
время оттеняет
глубокую
диалектичность
эстетической
мысли Гете. И
действительно,
вся эстетика
Гете
пронизана
убеждением, которое,
если
высказать
его в
раздельных
тезисах,
покажется
явным
противоречием,
но которое,
однако,
выражает
реальнейшую
диалектику
искусства.
Противоречие
это может быть
формулировано
в следующих
положениях: 1)
исходной
точкой,
источником,
моделью и
предметом
изображения
в искусстве
может быть
только
природа и
только д е
й-ствительная
историческая
жизнь людей,
во всем своем
реальном
содержании, 2)
свое
подлинное
значение произведение
искусства
получает
лишь при том
условии, если
результатом
изображения
в нем будет
уже не
природа, как
таковая, и не
историческая
жизнь в
непосредственном
своем
содержании,
но природа и
история,
опосредствованные
искусством,
т. е.
показанные в преломлении
тех задач,
которые
автор ставил
перед собой
как художник.
Что
принцип
верности
природе был в
глазах Гете
критерием
достоинства
художественного
произведения,
порукой
ценности и
высокого
значения
источников
художественного
воодушевления,
было достаточно
уже показано
всем
предыдущим
изложением.
Гораздо
важнее
остановиться
на другой
стороне
указанного
противоречия.
Именно здесь
обнаруживается
высокая
зрелость и
глубина
эстетической
мысли Гете.
Именно здесь
выясняется,
что
натурализм
Гете может
быть назван
натурализмом
лишь ъ очень
ограниченном
и условном
значении термина.
И
действительно,
в глазах Гете
природа,
понятая как
модель и как
объект
изображения
в искусстве,
была лишь
исходной
точкой, не
решающей еще
вопроса о
конкретном
результате
воспроизведения.
А так как
результат
этот Гете, в
соответствии
с тем, что уже
было указано
выше, ставил
в
зависимость
от
разработки и
трактовки,
опирающейся
на приемы и
навыки искусства
и
художественной
традиции,
создаваемые
глубоким
изучением
современного
и предыдущего
искусства,
то, в
последнем
счете, критерием,
определяющим
ценность
180
произведения,
для Гете была
не
фотографическая
верность
изображения
действительности,
«о скорее
сила и
убедительность,
с какими
художник
сумел
изображенные
им натуральные
отношения
сделать
проводниками
своих задач и
замыслов,
возвышающихся
«ад
непосредственным
содержанием
природной
действительности
и потому
зачастую уже
неадекватных
этим
отношениям.
В
искусстве
даже тогда,
когда
предметом его
изображения
является
природа, Гете
выдвигает на
первое место
трактовку, руководящую
точку зрения
автора, и
притом точку
зрения,
понятую не в
качестве
абстрактной
идеи, но в
качестве
конкретного
итога или
результата
художественного
освоения темы,
в котором
видная роль
принадлежит
почерпнутому
автором из
искусства и
воспитанному
долгим
изучением
способу
художественного
осознания,
опосредствования
и выражения
непосредственных
впечатлений.
Природа
поэтому не
была для Гете
безусловно
прекрасной и
во всех своих
явлениях одинаково
ценной
моделью для
искусства.
Уже
обращаясь к
природе как к
источнику
своих
изображений,
художник осуществляет,
по Гете,
известный
отбор, подсказываемый
ему
направлением
его мысли, его
задач и
намерений. «Я
очень хорошо
знаю, говорил
Гете
Эккерману,
что природа
часто
обнаруживает
недостижимое
очарование; однако
я не думаю,
что она
прекрасна во
-всех своих
проявлениях»
(699). Но и там, где
природа кажется
нам
прекрасной и
совершенной,
искусство не
просто
отражает в
своих
образах созерцаемую
художником
красоту и
совершенство,
искусство
имеет своей
задачей выразительность
особого рода,
которая
часто достигает
необходимой
степени
концентрации
лишь при
условии, если
наблюдаемые
в природе
естественные
отношения и
элементы
будут
несколько
сдвинуты,
видоизменены
в
направлении
наибольшей
выразительности.
При этом степень
удачи
художественного
изображения определяется,
по Гете,
отнюдь не
величиной самого
угла
отклонения
от
натуральных
отношений
модели, но
исключительно
соответствием
между этим
отклонением
и теми конкретными
выразительными
задачами,
какие
художник
перед собою
ставит.
Задачи же эти
как это
вытекает из
всего
мировоззрения
Гете ни в
коем случае
не могут быть
отделяемы от
личности
художника, от
направления
его
интересов, от
его
социально-исторической
ориентации. Поэтому,
узаконивая
известное
отклонение искусства
от природы и
подчинение
натуральных
отношений
отношениям,
диктуемым конкретными
задачами
художественного
выражения,
Гете был
чрезвычайно
далек от принципа
формалистической
эстетики,
которая закон
«остранения»
или
«деформации»
введенного в
произведение
материала
объявляет
самодовлеющим
и независящим
от идейной
ориентации
автора принципом
художественной
истории. Как
бы ни был
велик угол
возможного
для художника
отклонения
его
изображения
от «натуральных»
пропорций
предмета,
послужившего
ему моделью,
это
отклонение
определяет,
по Гете,
художественную
значительность
произведения
не самого по
себе, «о лишь в
качестве
элемента неделимого
и цельного
художественного
выражения.
Поэтому,
оправдывая,
как эстетическую
неизбежность,
необходимость
отклонения
искусства от
природы,
критерием
допустимости
известного
изменения
натуральных
отношений
Гете считал
не
поддающееся
общему определению
и для всякого
случая
вполне конкретное
подчинение
допущенного
художником
нарушения принципов
натуралистической
точности основной
задаче
художественного
выражения.
По этой
причине Гете,
с одной
стороны,
считал
недопустимыми
такие
отклонения
от натуры,
которые, в
силу слишком
резкого раз-
181
рыва или
противоречия
между
изображенным
в произведении
и
наблюдаемым
в
действительности,
могут
воспрепятствовать
возникновению
искомого
художником
впечатления.
Именно в этом
смысле Гете
твердил, что
художник «должен...
верно и
смиренно
копировать
природу... не
должен
произвольно
изменять
строение
скелета,
расположение
сухожилий и
мускулов какого-нибудь
животного,
чтобы не
исказить присущего
ему
характера» (705).
Это «значило
бы, уверял
Гете,
убивать
природу» (705).
Но
вместе с тем
Гете
настойчиво
повторял, что
«в высших
областях
художественного
воплощения,
благодаря
которым
картина
только и
становится
настоящею
картиною»,
художник
«может
распоряжаться
гораздо
свободнее. Он
может
прибегать
даже к
фикциям» (705).
Примером
такой
совершенно
необходимой,
законной и в
высшей
степени
плодотворной
фикции он считал
ландшафт
Рубенса, где
тень от человеческих
фигур падает
в глубь
картины, а от
деревьев,
наоборот, к
зрителю, и
где, таким образом,
свет вопреки
всем законам
земного освещения
падает сразу
с двух
сторон. В
допущенном
здесь
Рубенсом
отступлении
от законов
натуры Гете
видел
обнаружение
специфической
природы
самого
искусства,
которое, по
его
утверждению,
ведет
двойное
диалектическое
бытие, будучи
одновременно
и подчинено
природе
своего
предмета и
над нею господствуя.
«Двойной
свет,разъяснял
он Эккерману,
во всяком
случае
насилие над
природою, вы имеете
полное право
сказать, что
это противоестественно.
Но если это и
против
природы, то я
говорю,
продолжал
он, что-то в то
же время и
выше природы;
я говорю, что
это дерзкий
прием
мастера,
которым он
гениально
показал, что
искусство не
безусловно
подчинено
закону
естественной
необходимости,
но имеет свои
собственные
законы» (704705).
Поэтому для
художника
характерно,
по Гете,
двойственное
отношение к
природе: «... он
ее господин и
вместе с тем
раб. Он ее раб,
поскольку он
должен
действовать
земными
средствами,
чтобы быть
понятым; он
ее господин,
поскольку он
эти земные
средства подчиняет
и заставляет
служить
своим высшим
намерениям» (705).
Подчинение
принципа
натуралистической
точности
общей задаче
художественного
выражения
имело в
глазах Гете
решающее
значение.
Опираясь на
это значение,
Гете
склонялся к
мысли, что
подлинные
художники,
строго
говоря,
никогда не
писали с самой
действительности
и что
последняя
всегда
выступает в
их
произведениях
в значении некоторой
фикции «ли
видимости,
подчиненной интересам
выражения. В
этом смысле
он утверждал,
что Рубенс,
Пуссен и Клод
Лоррен не писали
с натуры, что
картины,
подобной
ландшафту
Рубенса, «вы
никогда не
увидите в
природе; и то
же самое надо
сказать о
ландшафтах
Пуссена или
Лоррена,
которые нам
кажутся тоже
очень
естественными,
хотя мы
напрасно
стали бы
искать их в
действительности»
(705).
Великолепные
формы
античных
лошадиных голов
Гете
объяснял не
тем, что
греческий художник
работал с
лучшей, чем
нынче, натуры,
но тем, что он
сам «с
развитием
культуры и искусства...
вырастал...
воплощая
природу, отражал
в ней
собственное
высокое
совершенство»
(406), «поднять
низшую
реальную
природу до высоты
своего духа и
сделать
действительным
то, что в
явлениях
природы, в силу
внутренней
слабости или
внешних
препятствий,
осталось
простою
возможностью»
(407). Но не иначе
обстоит дело,
по Гете, и с
искусством
наших дней.
Принципом
искусства во
всех его
видах
является не
принцип
натуралистической
верности, но
принцип
видимости, подчиненной
задаче
выражения. В
этом смысле,
говоря об
искусстве
Клода
Лоррена, Гете
находил, что
хотя в его
картинах
«высочайшая
степень
правды, но
нет
182
и следа
действительности»
(458), и что
«истинная идеальность»
в искусстве
«в том и
заключается,
что она
пользуется
реальными
средствами для
создания
правды,
вызывающей
иллюзию действительности»
(458).
Всюду,
где Гете
касается
вопроса об
отношении
художественного
образа к
действительности,
мерою
возможного и
допустимого
для
художника
отклонения
от натуры
Гете
провозглашает
поставленные
художником
задачи
выражения.
Так, он
разъясняет,
что в одной
из гравюр
нидерландской
школы, где
изображается
игра
матросов в
кости на
бочке, «кости
брошены, как
это
показывают позы
матросов,
однако на
поверхности
бочки они не
'нарисованы,
так как иначе
получились бы
перерывы
света, что
испортило бы
живописный
эффект» (496). Той
же заботой о
впечатлении
Гете
объясняет
часто
наблюдаемые
у Шекспира
грубые
логические
несообразности
и противоречия,
в которых, по
мысли Гете,
следует
видеть не
результат
забывчивости
или
невнимания
автора, но
прежде всего
результат
тенденции, в
силу которой
Шекспир «заставляет
своих
действующих
лиц говорить
каждый раз
то, что более
всего
подходит и
может
произвести
наиболее
сильное
впечатление
именно в
данном месте,
и не вдается
в особенно
тщательные
изыскания
относительно
того, не
вступают ли
эти слова в
явное
противоречие
с тем, что
сказано в
других
местах» (706).
Подчинение
принципа
натуралистической
верности
изображения
принципу
господствующей
тенденции
выражения
Гете
проповедовал
не только как
отвлеченное
положение
эстетики.
Подчинение
это было для
Гете
принципом
его
собственного
творчества.
Как на образец
конкретного
следования
этому принципу
Гете
указывал на
собственную
поэтическую
автобиографию.
«Я назвал ее
(книгу. В. А.) «Правда
и поэзия»,
рассказывал
он Эккерману,
так как она
при помощи
высших
тенденций поднимается
над более
низкой
реальностью»
(588). Напротив,
стремление к
натуралистическому
безразборчивому
повторению в
искусстве действительности,
не
освещаемому
лучами анализирующего
и
отбирающего
воззрения, Гете
рассматривал
как признак
эстетического
варварства
или, в
крайнем
случае, филистерства.
Он потешался
над Жан
Полем, который
из духа
противоречия
назвал свою
биографию
«Правдой», «как
будто
правда о
жизни такого
человека
могла
показать
что-нибудь
кроме того,
что автор был
филистером» (588).
Одной из
важных сфер
применения
принципа подчинения
натуралистической
правды правде
художественного
выражения
Гете считал
изображение
средствами
искусства
исторической
действительности.
По Гете,
историческими
в произведении
искусства
могут быть
только факты,
но никак не
характеры, в
изображении
которых с
непреложной
силой
сказывается
закон
главенства
выражения
над
передаваемым
фактическим содержанием.
«Ни один
писатель,
утверждает
Гете,
никогда не
знал тех
исторических
характеров,
которые он
изображал, а
если бы он их
знал, то он
вряд ли мог
бы их такими
изобразить.
Поэт должен
знать, какое
впечатление
он хочет
произвести, я
сообразно этому
создавать
характеры
своих
персонажей» (348).
«И на что
существовали
бы поэты,
восклицает
он ниже, если
бы они только
повторяли рассказы
историков.
Поэт должен
идти дальше и
давать нам
нечто более
возвышенное
и прекрасное»
(349). Так
поступал он
сам в своих
исторических
драмах. «Если
бы я хотел,
разъяснял он
Эккерману,
своего Эгмонта
сделать
таким, каким
его
изображает
история,
отцом дюжины
ребят, то его
легкомысленное
поведение
показалось
бы нелепым;
поэтому мне
нужно было
создать
другого
Эгмонта,
который
соответствовал
был больше
его поступкам
и
183
моим
поэтическим
намерениям. И
тогда получается,
как говорит
Клерхен, мой Эгмонт»
(348349). Но не иной
была, по Гете,
трактовка исторических
сюжетов и у
других
великих писателей
древнего и
нового
времени. Так,
греки, по
Гете, тем и
были велики,
«что они
меньше
придавали
значения
верности
изложения
какого-либо
исторического
факта, чем
тому, как
изображает
его поэт» (349). Наиболее
выразительным
примером
художественной
трактовки
заданных
историей или
преданием
характеров и
сюжетов Гете
считал
обработку
мифа о
Филоктете,
осуществленную
тремя
величайшими
греческими
трагиками:
Эсхилом,
Софоклом и
Еврипидом. По
разъяснению
Гете, задача
при этом
сюжете «чрезвычайно
проста:
Филоктета
вместе с его
луком надо
увезти с
острова
Лемноса, но
вопрос о том,
каким
образом это
сделать,
говорит Гете,
и является
как раз
задачею для
поэта; именно
в этом
проявились
сила
воображения
каждого и
превосходство
одного над
другим» (349). В конкретном
развитии и
разработке этого
сюжета
должны были,
по Гете,
перед каждым
поэтом
неизбежно
встать сотни
конкретных,
вытекающих
из данного
сюжета
вопросов и
вещей,
«которые все
зависят от
воли поэта, и
в выборе или
невыборе
того или
другого варианта
каждый поэт
стремился
проявить более
высокую
мудрость, чем
его
соперники... И
так должны
были бы,
рассуждает
Гете, поступать
и
современные
авторы, а не
задаваться вопросом,
обрабатывался
ужо этот
сюжет или нет,
и не рыскать
по югу и
северу в
погоне за необыкновенными
происшествиями,
которые
часто носят
достаточно
варварский характер
и производят
впечатление
именно только
как
происшествия»
(349350).
Еще с
большим
восхищением,
чем о Софокле
и об
Еврипиде,
Гете говорит
о Шекспире,
который по
его словам,
«идет еще
дальше: он
превращает
своих римлян
в англичан» (349).
И здесь, по
Гете, он прав:
«Иначе,
говорит он,
его нация не
поняла бы его»
(349). «...Ести
хотите
почувствовать
свободу его
духа,
заметил Гете
однажды
Эк-керману, то
прочтите
«Троила» и
«Крессиду»,
где он сюжет
«Илиады» обрабатывает
по-своему» (289).
Напротив,
художественным
недостатком
высоко
ценимого им
итальянского
писателя Манцони
Гете
признавал то,
что у Манцони
«слишком
много
почтения
перед
историей, и
по этой
причине он
очень охотно
присовокупляет
к своим
пьесам рассуждения,
в которых
доказывает,
как правдиво
он во всех
подробностях
отображает
историю» (348).
Таким
образом, и в
произведениях,
источником и
материалом
которых
служат
исторические
события, лица
и характеры,
Гете требовал
для
художника
свободы
трактовки сюжета,
усматривая
задачу поэта
не в рабском
копировании
данных
исторического
предания, но
в таком
воспроизведении,
которое подчиняло
бы все детали
в
характеристике
действующих
лиц
преобладающей
выразительной
тенденции.
Исторический
персонаж, историческая
ситуация
рассматриваются
в поэтике
Гете не как
самодовлеющие
данные
сюжета, но
как элементы
неделимого
целого
художественного
выражения.
Эта
особенность
художественного
метода Гете
не стоит
одиноко в
ряду его
эстетических
воззрений.
Преодоление
натурализма
и
натуралистического
историзма
естественно
связывается
у Гете с
преодолением
эстетического
сенсуализма
и
интуитивизма.
Только в
свете
раскрыты*
выше
взглядов становится
до конца
понятным
смысл
возражений
Гете против
абстрактного
идеологизма в
искусстве. В
своей
эстетике
Гете вел
двустороннюю
борьбу.
Только одним
острием
борьба эта
была обращена
против
рационализма
и абстрактного
идеологизма.
Только там,
184
где
рационалистические
предрассудки
преграждали
путь к
пониманию
особенности
искусства,
Гете преувеличенно
подчеркивал
значение
природной
одаренности,
способность
интуитивного
усмотрения
истины, а
также
значение
непосредственного
чувственного
восприятия.
Но в то же
время всюду,
где
искусству
грозила
противоположная
крайность
опасность трактовки,
которая
рассматривает
художника,
как «чудо природы»,
как
гениальное
наивное дитя,
бессознательно
«играющее»
своими
силами и в
безотчетном
наитии, без
всякого
предварительного
изучения и
подготовки
порождающее
произведения
совершенного
искусства,
Гете в противовес
этой
тенденции
выдвигал ряд
других положений.
В основе их
лежит мысль,
что искусство
есть работа
интеллектуального
порядка,
которая, при
всей своей
специфичности,
все же
предполагает,
как всякая
интеллектуальная
работа,
способность
сознательно
овладевать
материалами
впечатлений,
доставляемых
историей,
жизнью,
произведениями
искусства. В
искусстве
такова
последняя
лшель Гете
только тот
может
формовать
подлинные
произведения
искусства,
кто может, т. е.
умеет,
формовать
самого себя,
деятельно
образовывать
свой ум,
фантазию и
способность
выразительной
активности.
Умение это
предполагает
в качестве
необходимого
условия образование,
культурную
традицию,
деятельность
опосредствующего
мышления.
Если художник,
как художник,
есть то, чем
его сделали
история,
общество и
его личное
развитие, то,
как факты
искусства,
его
произведения
суть то, чем их
сделали не
только
фантазия и
импровизация,
но также и з
у-чение
искусства
предшественников
и
современников,
практическое
овладение
всеми
необходимыми
средствами выражения.
В
выяснении
этой стороны
вопроса
обнаруживается
одна из
плодотворнейших
тенденций
деятельности
Гете. Среди
немецких
эстетиков,
создавших
взгляд на
искусство
как на
развивающуюся
деятельность,
а не как на сумму
только уже
созданных
мертвых
произведений
искусства,
Гете
принадлежит
одно из первых
мест. Живая,
играющая
всеми
оттенками и противоречиями
диалектического
смысла эстетическая
мысль Гете
равно
возвышается
и над
бесплодной
дидактикой
рационализма
и над
реакционным
алогизмом
сторонников
антиисторической
интуиции.
Обилие
диалектических
оттенков,
аспектов и
противоречий
органическая
примета
мысли Гете.
Она
непосредственно
следует из
конкретности
его мышления,
в котором
каждый
вопрос
возникал «е
как общая
проблема, но
как
конкретная
задача, подсказанная
диалектикой
самого
развивающегося
предмета или
дела.
Вряд ли
поэтому
вообще
возможно да
и нужно ли?
свести в
гладкую
систему
эстетические
воззрения
Гете,
рассеянные в
дневнике Эккермана.
Отдельные
выпирающие
противоречия,
неясности,
несообразности,
по-видимому,
так и
останутся
несогласованными.
Корень их
лежит
слишком
глубоко в несообразностях
и
противоречиях
самой немецкой
действительности.
Органически
ощущая
сопряженность
искусства с
социальной
жизнью и
историей,
Гете был
лишен
возможности
раскрыть
конкретное
содержание
социально-исторической
обусловленности
искусства. Для
этого еще не
созрели
условия в
самой исторической
жизни
Германии. Не
только
искусство
оставалось
еще не
разгаданным
в своей социально-исторической
основе, но и
то, что тогда
в Германии
называли
«жизнью» и
«историей»,
далеко еще не
имело
подлинных
признаков
реальной
жизни и
реальной
истории.
Оставаясь на
уровне
«идеологического
представления»,
«история»
граничила в
сознании
таких людей, как
Гете, с
фактами
«искусства».
Было бы
бесполезно и
бессмысленно
требовать от
Гете больше
то-
185
го, что
могла дать
его
гениальность.
Гете жил во
время, когда
для деятелей
его социального
класса, даже
передовых,
даже такого
ранга, как
Гете, еще не
наступила
возможность
перешагнуть
границу понимания
и действия,
указанную им
их исторической
эпохой.
Перешагнуть
через эту
границу Гете
мог бы
только,
перестав
быть сыном своего
века и своего
класса. Такие
переходы, вообще
говоря,
возможны.
Более того,
они совершенно
необходимы.
Но условия
для таких переходов
существуют
не везде и не
во всякое
время. Для
Германии
условия эти
созрели лишь
спустя
полтора
десятка лет
после смерти
Гете, когда
два
величайших
мыслителя XIX века
Маркс и
Энгельс
отделились
от породившего
их класса и
возглавили
практически
и
теоретически
революционную
классовую
борьбу
немецкого и
международного
пролетариата.
ФИЛОСОФИЯ
И ЭСТЕТИКА
РУССКОГО
СИМВОЛИЗМА
I.
ПОЛИТИЧЕСКОЕ
ЛИЦО
РУССКОГО
СИМВОЛИЗМА
Русский
символизм
выступил на
рубеже XIXXX веков
одновременно
и как
художественное
поэтическое
течение, и
как течение философское,
и как особое
направление
эстетики. Во
всех этих
разнообразных
своих проявлениях
символизм
обнаружил
определенное
общественно-политическое
лицо, представляя
собой один из
видных
фактов
общественно-политического
развития и
расслоения
русской
буржуазной
интеллигенции
XX века.
Общественно-политическое
содержание
символизма
не менее
сложно, чем
его
философское
или художественное
содержание.
Даже на
внешний
взгляд
символизм не
представляет
единства,
распадается
на группы, а
иногда
осуществляется
в деятельности
отдельных, не
склонных к
участию в
литературных
объединениях
и группировках
лиц.
Насколько
сложен
символизм,
видно из судьбы,
постигшей
виднейших
его
представителей
в эпоху
Великой
социалистической
революция.
Одни из
вождей
символизма
как например
Мережковский,
стали
политическими
эмигрантами,
злейшими
врагами
победившего
революционного
народа.
Другие, как
например
Андрей Белый
и
Максимилиан
Волошин, приветствовали
революцию
как факт
социального
и политического
освобождения
народа, но
остались
чужды и даже
враждебны
философским
и научным
основам
революционного
мировоззрения
революционного
класса.
Третьи, как
Блок, не
только
радостно
встретили
бурю социалистической
революции, но
нашли в себе
мужество
открыто
порвать с
теми кругами
буржуазной
интеллигенции,
которые
видели в
Октябрьской революции
«разрушение
цивилизации»
тянули
символистов
в стан
контрреволюции.
Четвертые,
как например
Валерий
Брюсов, не
только
приняли
Октябрьскую
революцию
как событие
всемирно-исторического
значения,
уничтожающее
общество
эксплуататоров,
призывающее
к жизни и
творчеству
миллионы
трудящихся, но
решились
претворить
свою идейную
оценку
события в
практическое
действие,
вступили в
ряды партии
рабочего
класса
партии большевиков.
И все эти
люди
числились
когда-то в
одном течении,
носившем
общее
название.
Не менее
сложны и
идейные
теоретические,
философские,
эстетические
корни и
источники
русского
символизма.
Философы и
эстетики
символизма
не в большей
степени
однородны,
чем его
публицисты и
политические
писатели.
Одни, как
Бальмонт,
исходили из
бесформенных,
бледных и
пустоватых
теософических
мечтаний, не
заслуживающих
названия
теории и философии.
Другие, как
Валерий
Брюсов,
чуждались
теоретической
философии и
вырабатывали
собст-
187
венные
эстетические
принципы
через изучение
искусства и
критики
западных,
главным
образом
французских,
символистов,
восходивших
своими
корнями к
французскому
же и отчасти
немецкому
философскому
и эстетическому
романтизму.
Третьи, как
Мережковский,
черпали
теоретические
основы из
философско-исторических,
эсхатологических
и христологических
схем,
антитез,
сопоставлений
и параллелей.
Четвертые,
как Вячеслав Иванов,
искали
теоретической
опоры в философии
и эстетике
античного
мира,
преломленной
через
истолкование
Фридриха
Ницше, а
также в эстетике
немецкого
идеализма и
особенно романтизма.
Пятые, как
Андрей Белый,
порывисто и
страстно
переходили
от одной
философской
школы к
другой, от
Владимира
Соловьева к Канту
и Вагнеру, от
Канта к
Шопенгауэру,
от
Шопенгауэра
к Ницше, от
Ницше к
оккультизму
и
антропософии
Рудольфа
Штейнера.
Шестые, как
Блок,
скептически
относились
ко всякому
абстрактному
теоретизированию
и предпочитали
строить свое
понимание
искусства,
опираясь на
непосредственные
впечатления
личной и
общественной
жизни, на
личный
художественный
и
общественный
опыт.
Все это
сложное,
представленное
большим кругом
лиц, в том
числе
несколькими
очень крупными
художественными
дарованиями,
течение
необычайно
поучительно
отражало в своем
развитии
сложные противоречия
общественной
жизни России
XX века. В
идейной
эволюции
символизма
отобразились
и
русско-японская
война, и
богатейший
событиями
период
революции 1905
года, и реакция,
последовавшая
за
подавлением
революции, и
империалистическая
война, и
Октябрь. На
всех этих
этапах
своего
развития,
отражавших
этапы
классовой
борьбы,
потрясавшей
великую
страну и
составлявшей
основное историческое
содержание
ее
существования,
символизм,
несмотря на
беспрерывно
происходившее
в нем
внутреннее
расслоение, внутреннюю
борьбу его
групп и
фракций,
отколы
отдельных
лиц, сохранял
некоторое
основное
единство,
которое
позволяет
говорить о
нем, как об
определенном
течении
русского
искусства XX
века.
Определить
основной
идейный
центр этого течения
не так-то
легко. Какие
авторы, какие
литературные
группы, какие
издания, какие
теоретические
настроения, в
какой период
их развития
представляли
идейное лицо
символизма?
Что ближе к
идейной
сущности
символизма:
эстетическое
мировоззрение
Брюсова, или
философско-теософические,
эстетические
и
литературоведческие
работы
Андрея Белого,
или статьи
Блока о
русской
интеллигенции?
«Новый путь»,
или «Весы», или
«Факелы»?
Мы не
думаем
полностью
решить этот
вопрос в
небольшой
работе, нами
здесь
предлагаемой.
Но мы
полагаем, что
определить
направление,
в каком
следует
искать
решение
задачи, в
настоящее
время уже
возможно.
Одна из
крупных
ошибок
историко-литературного
анализа,
допущенных в
отношении
символизма,
состоит в
том, что
символизм
часто определяли
как течение
исключительно
художественное,
сравнительно
далекое от
общественной
жизни и
борьбы.
Общественные
позиции
символистов
не раз
определяли
как позиции
людей, которые
искусством,
прелестью
рифмы,
энергией
художественного
изобретательства
пытались
оградиться
от жизни, от
ее актуальных
общественно-политических
проблем. В
символизме
часто
пытались
усмотреть
явление
деградирующей
художественной
культуры, для
которого все
культурные
проблемы
превращаются
в проблему
искусства, а
все проблемы
искусства в
проблемы
формы.
В этом
понимании
символизма
бесспорно
правильно
отразился
188
один из
результатов
идейного
развития символизма,
но никак не
его сущность.
Действительно,
от
теоретических
литературоведческих
работ
символистов
до теорий
литературного
формализма,
выступившего
в первые годы
империалистической
войны,
тянется
прямая
генетическая,
хотя и не
единственная
нить.
Напрасно в
свое время
теоретики
формализма
пытались
представить
дело так,
будто
русский формализм
возник, как
реакция
против
идеалистических
и
мистических
учений
символизма,
как стремление
противопоставить
априорным
умозрительным
построениям
позитивное
истолкование
. реальных
фактов
искусства.
Повышенный
интерес к
«фактам
искусства» и
прежде всего
к такому
«факту» его,
каким
является форма,
бесспорно
чрезвычайно
характерен для
символизма.
Влияние
работ Андрея
Белого и
отчасти
Валерия
Брюсова на
возникновение
формалистических
методов
-литературоведения
неоспоримый
и, кажется,
уже никем
серьезно не
оспариваемый
факт. Ниже
будет
показано, что
этот факт не
случайность
и что в самой
сути
символизма
были
заложены
черты, которые
должны были
вести теорию
символистов
по склону
формализма.
И все же
эти черты
производные,
не выражающие
подлинной
природы
символизма.
Природа же
эта состоит в
том, что
русский
символизм
возник как
течение, поставившее
своей
задачей
разрешение
не одних
только
формально-художественных,
но в первую
очередь
практических
философско-исторических,
этических,
общественно-политических
задач. По
разъяснению
Андрея Белого
разъяснению,
особенно
знаменательному
именно
потому, что
Андрей Белый
был автором
знаменитых
статей о
формальном
строении русского
стиха,
художественные
формы«лишь эманация
человеческого
творчества;
идеал красоты
идеал
человеческого
существа; и художественное
творчество,
расширяясь,
неминуемо
ведет к
преображению
личности» (3, 10).
«Правы законодатели
символизма,
писал тот же
Андрей Белый,
указывая на
то, что
последняя
цель
искусствапересоздание
жизни.
Последняя
цель
культуры
пересоздание
человечества;
в этой
последней
цели
встречается
культура с
последними
целями
искусства и морали;
культура
превращает
теоретические
проблемы в
практические»
(3, 10).
Взгляд
этот на
искусство и
культуру,
оформленный
Андреем
Белым в
понятиях
неокантианской
«теории
ценностей»,
имел, однако,
отнюдь не
теоретическое
только
происхождение:
он был внушен
символистам
поколения
Андрея
Белого всем
ходом
развития
русской
жизни. В годы,
предшествовавшие
первой
русской
революции,
основная
задача,
сознававшаяся
огромными
массами
людей,
состояла
действительно
в «пересоздании
жизни»,
точнее
говоря, в
революционном
изменении
общественного
строя
огромной
страны,
заживо
придавленной
гниющим колоссом
самодержавия
и
буржуазно-помещичьим
гнетом.
Философско-религиозные,
философско-эстетические
формулировки
о
«пересоздании
жизни» были
не чем иным,
как идейной
перелицовкой,
при помощи
которой
писатели-символисты
осознавали
для себя те
самые задачи,
которые,
отнюдь не в
таком
трансформированном
виде, ставили
перед собой
более
широкие круги
буржуазной
интеллигенции
накануне революции
1905 года. Ход
первой
революции, с
беспощадной трезвостью
разоблачавшей
истинный
классовый
политический
смысл всех
формул, лозунгов,
программ и
теорий,
неумолимо
вел к тому,
что неясные
фразы о
«пересоздании
жизни» должны
были
наполниться
конкретным
содержанием.
Такие
события, как
поражение в
Маньчжурии, 9
января,
всеобщая
забастовка,
Московское
восстание,
требовали
более ясного
и конкретного
ответа на
вопрос, в чем
должно было,
по
представлению
символистов,
состоять
провозглашенное
ими, как неот-
189
ложная
задача,
«пересоздание
жизни».
Символизм
должен был
раскрыть
политический
смысл своей
«философии
культуры» и
«эстетики»
Наиболее
полно смысл
этот был
раскрыт
символистами
в ряде
статей,
рецензий и
заметок, напечатанных
в журнале
«Весы» за 1904 1909 годы.
«Весы» были
центральным
органом
символистов,
средоточием
их лучших
литературных
и
публицистических
сил в
наиболее
важные годы
литературной
истории
символизма, в
наиболее
критические
годы
расслоения
буржуазной
интеллигенции.
Внимательное
изучение
содержания
«Весов» сразу
обнаруживает
ошибочность
версии,
представляющей
символизм
сугубо
эстетическим
чуть ли не
аполитичным
литературным
движением.
Изучение это
представляет
огромный
политический
интерес. «Весы»
не только
художественный,
но и публицистический
Орган
русского
буржуазного
искусства эпохи
первой
революции и
реакции,
представленный
талантливыми
поэтами,
прозаиками,
критиками и
теоретиками.
Формация
русского
символизма, в
лице Андрея
Белого, Валерия
Брюсова,
Вячеслава
Иванова,
Эллиса, выступала,
как
определенное
общественно-политическое
течение в
литературе.
Эти поэты и
теоретики
были вместе и
публицистами,
политическими
писателями.
Их журнал
быстро,
чувствительно
и в
определенном
классовом
смысле реагировал
на
политические
события и явления
современности
Начиная
с самых
первых
книжек
журнала и вплоть
до последней,
вышедшей в
конце 1909 года, «Весы»
были не
только
эстетическим,
но и боевым
публицистическим
органом. В
критических
статьях, в
рецензиях, в
библиографических
заметках
«Весы»
откликались
не только на
факты
литературной
и художественной
жизни, но
также и на
события
жизни общественной
и
политической.
На
протяжении шести
лет своего
существования
журнал «Весы»
великолепно
отражал, а во
многих
отношениях
даже
упреждал
эволюцию
русской буржуазной
интеллигенции.
Русский
буржуазный
либерализм
в силу условий
исторического
развития
классовой борьбы
в России и
хода
революции 1905
года сложился,
развивался и
действовал,
как движение
реакционное,
антидемократическое
и контрреволюционное.
Литературным
изложением и
саморазоблачением
сущности
политического
направления
буржуазного
либерализма
в
публицистике
оказался знаменитый
сборник
«Вехи». «Для
современной
эпохи, писал
В. И. Ленин в
своей статье
«О «Вехах»», характерно
то, что
либерализм в
России решительно
повернул
против
демократии » (1,
19, 172).
Литературным
эстетическим,
критическим и
поэтическим
саморазоблачением
той же, по
сути
антидемократической,
сущности буржуазного
либерализма
в искусстве
оказался
журнал
символистов
«Весы».
Редакторы,
идеологи и
авторы
«Весов»
далеко не
ограничивались
изложением
своих
взглядов по
вопросам
поэзии и
искусства.
Они писали о
русской
революции и
конституции,
об интеллигенции,
о
пролетариате,
о
большевиках,
о демократии,
о свободе
слова и т. д.
Они пытались на
страницах
своего
журнала
осуществить переоценку
всей истории
русской
литературы и
литературной
критики Они
вели яростную
кампанию
против одних
писателей и
прославляли
других.
Мемуары
Андрея
Белого
сознательно
или бессознательно
скрадывают,
скрывают,
затушевывают
всю эту,
порой
чрезвычайно
темпераментную,
острую и
целеустремленную,
контрреволюционную
по сути
борьбу русского
символизма.
Мемуары эти
превратно изображают
и ту крупную
роль, которую
сам Белый
играл в
«Весах» и во
всем
развитии
символизма.
190
Все
направление
журнала
«Весы»,
развивавшегося
в годы первой
русской
революции и в
годы
послереволюционной
реакции, было
не только
антипролетарское,
антисоциалистическое,
но и
антидемократическое.
К «Вехам» в полной
мере
применена
ленинская
характеристика
веховского
либерализма:
«...в данное время,
писал Ленин
о «Вехах»,
либеральной
буржуазии в
России
страшно и
ненавистно
не столько
социалистическое
движение
рабочего
класса в
России,
сколько
демократическое
движение и
рабочих и
крестьян, т. е.
страшно и
ненавистно
то, что есть
общего у
народничества
и марксизма,
их защита
демократии
путем
обращения к
массам» (1, 19, 172).
Именно
эту линию
борьбы
против
демократии
проводили
«Весы». «Для нас,
представителей
символизма,
как
стройного
миросозерцания,
писал Эллис,
нет ничего
более
чуждого, как подчинение
идеи жизни,
внутреннего
пути индивидуума
внешнему
усовершенствованию
форм
общежития.
Для нас не
может быть и
речи о
примирении
пути
отдельного
героического
индивидуума
с
инстинктивными
движениями
масс, всегда
подчиненными
узкоэгоистическим,
материальным
мотивам» (5, 1907, XII, 67).
Борясь
против
демократии,
символисты
боролись
против ее
литературы и
искусства. Они
систематически
клеветали на
Горького, стремились
внушить
своим
читателям
мысль, будто
Горький
перестал
существовать
как художник
с тех пор, как
он стал в
ряды партийных
пролетарских
писателей.
Под
псевдонимом
Антон
Крайний
Зинаида Гиппиус
писала по
поводу
выхода в свет
романа
Горького
«Мать»: «Какая
уж это
литература? Даже
не революция,
а русская
социал-демократическая
партия сжевала
Горького без
остатка» (5, 1907, VII, 58).
Уже в 1905
году «Весы»
устами
Сергея
Кречетова и И.
Смирнова
объявили
своим
читателям,
«будто
Горький умер,
как
писатель».
Эти
утверждения
для приличия
сдабривались
лицемерными
напоминаниями
о первых рассказах
Горького,
романтику
которых
критики
всячески
стремились
противопоставить
революционной
тенденции и
реалистическому
письму
позднейшего
Горького
друга и ученика
Ленина.
«Померк,писал
Сергей
Кречетов,
дерзновенный
пришелец,
бандит,
презиравший
размеренность
жизни. И если
Горького
кто-либо (!!) чтит
теперь, то не
за то, что он
пишет» (5, 1905, III, 94). И
совершенно в
тон Сергею
Кречетову И.
Смирнов утверждал,
будто
Горький
«исписач-ся» и
будто ключ его
творчества,
«брызнувший
сначала
свежей
струей, превратился
теперь в
грязную лужу»
(5, 1905, IV, 48). В статье «Проект
всеобщего
примирения»,
высказывалось
клеветническое
утверждение,
будто успех
Горького,
почитавшегося
в течение десяти
лет (1898-1908) «первым
у нас
писателем»,
нельзя
объяснить
ничем, «кроме
пресловутой
«кривой»,
которая
вывозит», и будто
Горький
«никогда не
выдвигался
над уровнем
второстепенного
бытовика» (5, 1908, IV, 47).
В статье
«Господа
рассказчики»
реакционнейший
идеолог
«Весов» Борис
Садовской,
договорившийся
в другой
книжке того же
журнала-до
архилакейского
умиления перед
«кротостью и
благородством
Александра второго»
(5, 1906, IIIIV, 92), злобно
глумился над
талантливым
пролетарским
писателем
Серафимовичем,
ругал его за
пролетарскую
тенденцию (5, 1909, II,
83).
Наряду с
Горьким,
Серафимовичем
постоянным
объектом
яростной
критики
«Весов» были и писатели-народники.
Под
псевдонимом
Ptyx один из
группы
символистов-весовцев-Борис
Садовской
напал на
Короленко. И
здесь в вину этому
честному писателю
ставилась
публицистическая
тенденция
его писаний,
а переход
Короленко в ряды
191
журналистики
трактовался,
как нечто для
писателя
постыдное и
презренное:
«Этот раздутый
кружковой
критикой,
писал
Садовской,
типично-провинциальный
«быто»-писатель-интеллигент
уже лет
пятнадцать
как заткнул
начавший
иссякать
фонтан
своего писательства,
окончательно
перейдя на
амплуа
журналиста» (5,
1909, I, 91).
Обрушиваясь
против
«публицистики»,
символисты
имели в виду
не
публицистику
вообще, но
только
публицистику
демократическую.
Противантидемократической
контрреволюционной
публицистики
они не только
ничего не
имели, но они
сами усердно
ею
занимались и
отводили ей
много места
на страницах
своего
небольшого
журнала.
Линия
этой
весовской
публицистики
отчасти совпадает
с линией «Вех»,
отчасти же
прямо-таки опережает
«Вехи».
Острота
классовых и
политических
боев,
сделавших
первую
русскую революцию
«репетицией»
революции
Октябрьской,
сделала
революционную
буржуазную
публицистику
19051909 годов
также ареной
«репетиции»
многих идей,
веяний и
течений,
которые во всей
своей
отчетливости
и
обнаженности
выступили
значительно
позже.
Актуальная ценность
изучения
этой
реакционной
публицистики
в том, что
изучение это
помогает выяснить
теоретические,
идейные
истоки и прообразы
современных
буржуазных
реакционных
и даже иногда
прообразы
современных
фашистских
«идей».
История
идейного
развития
русского
символизма, и
в частности
развития «Весов»,
полностью
подтверждает
это наше
утверждение.
Вот
некоторые
факты.
В глазах
перепуганных
революцией
либералов
«конституция»
17 октября
представлялась
крайним
пределом
революционных
достижений.
Все, что шло
дальше этой
«конституции»,
т. е. вся
действительная
борьба
пролетариата
и трудового
крестьянства
против
самодержавия
и буржуазии,
вызывала у
них
глубочайшую
ненависть,
ибо она угрожала
государству
и культуре
помещиков,
купцов и
фабрикантов.
В страхе
перед
дальнейшим
движением
революции
русский
буржуазный
либерализм,
открыто
порвавший с
демократией,
начинает
славословить
военную силу
и полицейскую
организацию,
ограждающую
«порядок» от
покушений
демократии. С
«Вехами»,
призывавшими
русских
граждан
благословлять
помещичье-буржуазную
власть,
«которая одна
своими
штыками и
тюрьмами еще
ограждает»
интеллигентов
«от народной
ярости» (6, 1909, 88), перекликаются
еще более
откровенные
в этом
вопросе
«Весы». Еще до
выхода в свет
«Вех» сотрудник
«Весов» Вл.
Каллаш взял
на себя дело
защиты
злейших
жандармов,
шпионов и
доносчиков
России
Николая I. В
рецензии на
книгу М. Лемке
«Николаевские
жандармы и
литература»
Каллаш
свысока
высмеивал
книгу Лемке
именно за то,
что она
«пылает
запоздавшим
лет на 70
негодованием
против
Булгариных, Бенкендорфов,
Фоков и
учиняет им
свирепый разнос»
(5, 1908, III, 97). «Пора бы,
наконец,
поучал этот
апологет
николаевского
Третьего
отделения,
прекратить
«разнос» Булгариных
и
Бенкендорфов
давно бы их
можно было
понять (!) и
поставить на
соответствующую
историческую
полочку».
Борис
Садовской изо
веек сил
старался
доказать
ошибочность взгляда,
будто
Белинский
был замучен
жандармским
режимом
Николая I.
Этот
«литературовед»
уверял, будто
«версия» о
Белинском-мученике
была создана
друзьями,
издателями и
последователями
знаменитого
критика, которые
стремились
представить
его «именно таким,
каким он
кажется в
создавшейся
о нем легенде»
(5, 1904, 64).
Символисты
сознательно
и планомерно
стремились к
переоценке
всей истории
русской
критики. Они
пытались
дискредитировать,
сни-
192
зить
самых
великих и
мощных ее
представителей
Белинского,
Добролюбова,
Чернышевского.
Неутомимый в
измышлении
гаденькой
контрреволюционной
клеветы,
Борис
Садовской
третировал
Белинского,
как всего
лишь
«простодушного»,
«не слишком
образованного»
писателя, в
личной жизни
«несколько
даже
буржуазного»
(5, 1904, 63). Эволюция Белинского
состояла по
Садовскому
только в том,
что «сбитый с
толку
друзьями» Белинский-де
«под конец
жизни все
более и более
погружался в
болото
ежедневности,
от эстетических
созерцаний
уходя в
крайности социализма»
(5, 1904, 63). По словам
этого
литературного
клеветника и
обманщика, вступление
в ряды
социализма
привело
Белинского к
тому, что он
будто бы
«постепенно
утрачивал
светлую
тонкость
эстетического
понимания» (5, 1904, 63).
После всего
этого
читатель не
удивится,
узнав от
Садовского,
что «нигилист
Писарев с
его
вандализмом
явился
прямым и
естественным
преемником
социалиста
Белинского» (5,
1904, 63).
В
программной
для «Весов»
статье «О
старой и новой
критике»,
написанной в
дни великих
событий
первой
русской
революции,
Садовской
развернул
оценку
развития
русской критики,
напоминающую
антимарксистские
и
антилиберальные
завывания
современных
фашистов. В
лице Садовского
и других
сотрудников
«Весов» русский
буржуазный
интеллигентский
либерализм
порывает не
только со
всякой
демократией,
но и с самим
либерализмом.
Изучающим историю
возникновения
фашистской
идеологии
безусловно
придется
поставить
вопрос о роли
символизма в
этом
возникновении.
Крупным фактом
в
формировании
мировоззрения
символистов
было влияние
Шопенгауэра
и особенно Ницше
Влияние это
начиналось с
эстетических
взглядов обоих
этих
философов, но
простиралось
значительно
дальше,
доходя до
этических и
даже социальных
истоков их
идей. В
эстетике
Шопенгауэра
учения
реакционного
романтизма сочетались
с
платоновской
теорией идей
и с кантовско-фихтевскими
основами
теории познания.
Противопоставление
внепрактической
интуиции
понятиям
интеллекта,
практическим
по
происхождению
и по природе,
романтическое
по духу
учение о
гении как о
субъекте художественного
творчества,
провозглашение
музыки
первым среди
всех
искусств,
наиболее
адекватно
выражающим
алогическую
сущность
«мировой
воли»,
наконец,
мысль об
«искупительной»
функции
искусства,
пресекающего
будто бы посредством
«незаинтересованного»
созерцания
волю к жизни
и неразрывно
с нею связанное
мировое зло,
все эти идеи
эстетики
Шопенгауэра
оказали на
символистов
младшего
поколения
длительное и
глубокое
действие. Не
менее
сильным было
действие на
них идеалистического
учения
Шопенгауэра
о мире как о представлении
для субъекта.
Усваивая
онтологические,
теоретико-познавательные
и
эстетические
идеи
Шопенгауэра,
символисты
впитывали в
себя также и
свойственный
Шопенгауэру
реакционнейший
антидемократизм,
презрение к
массам, к их
творческим
возможностям
и представлениям.
«Романтическое»,
по литературному
происхождению,
учение
Шопенгауэра
«о гении»
имело отнюдь
не
литературный
только, но классовый
и
политический
смысл.
Ненавидевший
революцию 1848
года и
демократию,
не стеснявшийся
открыто
пропагандировать
самый пошлый
и гнусный
антисемитизм,
Шопенгауэр в
области
социально-политических
вопросов, несомненно,
один из
предшественников
современного
немецкого
фашизма.
Еще
более
значительным
было влияние
на символистов
идей Ницше. И
здесь,
начинаясь формально
с эстетики и
теории искус-
193
с т в а,
влияние это
восходило до
самых глубоких
корней
этических и
социально-политических
взглядов
певца «сверхчеловека»,
«расизма» и
«воли к
власти». Из эстетических
воззрений
Ницше
символисты
черпали еще
более резкий,
чем у
Шопенгауэра,
алогизм,
выразившийся
в открытии
сначала на
почве
греческого
искусства
наряду с
мерным,
логическим и
гармоническим
началом
«Аполлона»
алогического,
дисгармонического
и
трагедийного
начала
«Диониса», а
также в
противопоставлении
биологического
инстинкта
интеллекту и
стремлению к
познанию
объективной
истины. Но
уже эти
эстетические
идеи Ницше
были
неотделимы
от
составлявшей
их основу
реакционной
социально-политической
концепции,
которая, при
всей своей утопичности,
политической
наивности и
противоречивости,
предваряет
многие «доктрины»
современного
фашизма. Уже
в этих учениях
эстетические
идеи
неотделимы
от учения о
необходимости
рабства и
иерархического
и авторитарного
построения
общества, от
прославления
хищнической
войны и от
концепции «благородных
рас». В конце
концов не так
легко отделить
то, что в
расистских
рассуждениях
Андрея
Белого
периода 1909
года навеяно
чтением книг
Чемберлена и
Вольфинга
(Эмилия
Метнера), от
того, что «на
ту же тему» он
и другие
символисты
могли
вычитать
непосредственно
из книг
автора
«Человеческого,
слишком
человеческого»,
«Заратустры»
и «По ту
сторону добра
и зла». С
другой
стороны,
Мережковский
и другие
идеологи
символизма
имели известное
влияние за
границей, в
частности в
Германии.
Несомненна
генетическая
преемственность
между
символизмом
и самыми
реакционными
течениями
современной
нам буржуазной
мысли.
Так,
Садовской
утверждал,
что начиная с
Белинского
второго
периода, а
следом за ним
с журналистики
60-х годов, «наша
художественная
критика
погибла в
зародыше»,
что «у нас нет
критики» и
что весь
исторический
путь от 1850 до 1900
года «надо
сплошь зачеркнуть,
выкинуть, как
пустое
место», так
как там-де
«ничего нет».
Развивать
подобную
огульную
оценку русской
критики
можно было
только при
условии полной
дискредитации
крупнейших
ее представителей.
Именно по
этой линии и
шли «Весы».
Наряду с
Белинским
дискредитации
был
подвергнут и
Чернышевский.
Дискредитация
эта из
осторожности
была обставлена
рядом
оговорок и
полупризнаний,
которые
должны были
поддерживать
впечатление
полнейшей
объективности.
Садовской
даже свысока
похваливал
Чернышевского,
как
«трудолюбивого
и способного»
писателя, как
«талантливого
экономиста»,
как «героя
своего
времени». Но
тем более
резко на фоне
этих похвал
«сквозь зубы»
должно было
выглядеть
«развенчание»
Чернышевского
в качестве
литературного
критика.
Процедив
две-три
двусмысленные
похвалы,
садовские
принимались
методически
третировать
великого
революционного
демократа.
Они
объявляли
его
«умеренным и
аккуратным»,
«только
теплым», а не
горячим, «типичным
представителем
золотой
середины». Его
критические
статьи
обзывались
«первым мостом
от эстетики
Белинского к
вандалу
Писареву» (5, 1907, VI, 63, 65)
и т. д.
Одновременно
с
извращением
всех оценок русской
критики
символисты
стремились
извратить
самую
русскую
литературу.
Они не только
отвергали
созданные
критиками-демократами
оценки фактов
русской
литературы,
но
стремились
порой
отрицать и
самые эти
факты, если
только в них
проявлялись
освободительные
или демократические
тенденции.
Так, не раз
уже помянутый
Садовской, с
поспешностью
и безапелляционностью,
выдающими
истинное
направление
его чувств и
мыслей,
утверждал в
рецензии на академическое
издание
Пушки-
194
на, что ни
в каком
случае не
следовало
включать в
пушкинский
текст
эпиграмм
Пушкина на
Карамзина (5, 1906, IX,
50).
Вся эта
весовская
публицистика
прикрывала
свои
действительные
реакционные
и
контрреволюционные
тенденции
особой
«теорией»
дифференциации
литературной
жизни.
Согласно
этой «теории»
публицистическая
направленность
русской
литературы,
имевшая
известное
оправдание в
эпоху, когда
в России еще
не было
никакой
политической
свободы и
литература
возмещала недостаток
гласности и
публичности
в общественной
жизни,
утратила-де
всякий смысл
после
«завоеваний»
конституции
17 октября. Начиная
с этого
момента,
утверждали
символисты,
литература
неизбежно
должна была
дифференцироваться:
«публицистика»
отойти в
сферу прямой
политической
и
парламентской
борьбы, «чистое
искусство»
освободиться
от будто бы не
нужной ему
теперь
политической
тенденции.
Об этой
дифференциации,
кокетливо
играя политическими
терминами,
писал Корней
Чуковский. В
рецензии на
«Книгу
отражений»
Иннокентия
Анненского
Чуковский
заявлял, что
русская
критика,
которая до
революции
была и
(«парламентом,
и
университетом,
и революционной
баррикадой»,
после
революции
«наконец-то
может уйти к
себе в
подполье и
освободиться
от тяжелых
оков
свободолюбия»
(5, 1906, III и IV, 80). «Теперь
критике,
продолжал
Чуковский,
нужно
подполье. Там
искусства не
делают лозунгом
политической
борьбы».
Обращаясь к
публицистической
критике,
Чуковский
приглашал ее
представителей
идти «в
парламент»:
«Пусть себе
они идут в
парламент, но
что же им
делать в
искусстве!
восклицал
Чуковский.
До сих пор им
некуда было
идти и они
поневоле все
свои
парламентские
дебаты о
лошадных и
безлошадных
вели под видом
критики Фета
и
Достоевского».
Еще
знаменательнее
выражал ту же
мысль Эллис.
Быть может,
никто из
весовцев не
обнажил так
явно, как
Эллис,
глубоко
буржуазную и
контрреволюционную
сущность
русского символизма.
«Если вообще
странна,
писал Эллис, теория,
требующая
общественного
вкуса у литературы
(даже у
поэзии), то
она является
абсолютно
неуместной
именно
теперь,
когда, наконец,
завершился в
общих чертах
процесс дифференциации
искусства и
общественности;
когда мы уже
имеем
эмбрион
законодательного
учреждения, с
одной
стороны, и
свободное, созидающее
художественное
творчество
с другой;
когда всякое
дальнейшее
морализирование
в области
политики
лишь
затемняет
рельефную
группировку
общественных
групп» (5, 1907, X, 56).
По-видимому,
эти люди
Корней
Чуковский и Эллис
даже не
понимали,
какое дело
они творили,
когда в 19061907
годах, во
время поражения
революции и
начинавшегося
разгула
реакции,
утверждали,
будто задача
революции
уже
достигнута и
будто за
искусством
уже не
остается
никаких
общественных
обязательств.
Восхищение, с
каким Эллис ссылается
на «эмбрион
законодательного
учреждения»
(т. е. на
Государственную
думу), доказывает
только то,
что для
идеологов
символизма
так же, как и
для кадетов и
всей либеральной
буржуазии,
революция
«кончилась» у той
черты, за
которой
дальнейшее
ее развитие
обращалось
против
землевладельцев,
фабрикантов
и купцов.
Символизм
плоть от плоти
и кровь от
крови
либеральной,
т. е. по условиям
исторического
развития
России антидемократической
и
контрреволюционной
буржуазной
публицистики.
Ход
русской
революции отражался
на всех
сторонах
жизни, вносил
изменения в
содержание
этой
публицистики.
Параллельно
успехам
реакции и
«замирению»
революционного
движения
изменялись и
тема-
195
тика
публицистических
и
теоретических
статей, их
тон, в
идейное
руководство
журналом
вступали
новые лица.
Разумеется,
было бы
ошибкой
представлять
весь этот
процесс, по
существу
«веховского» развития
«Весов», как
процесс
простой,
ясный и
свободный от
противоречий.
Поэты и писатели-интеллигенты,
образовавшие
течение символизма,
ощущали на самих
себе гнет
самодержавия
и помещичье-буржуазного
строя.
Символисты
отчетливо
видели
невежественность,
косность,
мещанство
буржуазной
публики, они
хорошо
понимали, что
эти качества
не могут быть
отделены от
дикости и
косности
общих
политических
условий русской
жизни.
Поэтому
символисты
часто выступали
крайне резко
против
«буржуазности»
и «мещанства»
русской
культуры. Но
эти выступления
символистов
никогда не
были выступлениями
против
социальной
классовой
основы
буржуазного
и мещанского
культурного
уклада.
Уродство
царского и
помещичье-буржуазного
режима,
оскорблявшее
чувства человеческого
достоинства,
толкало
символистов,
по крайней
мере
наиболее
отзывчивых, нравственно
чутких из
них, к
оппозиции, к
протесту
против
насилий и
разгула
дикой реакции.
Более того,
это чувство
оппозиции и
протеста толкало
порой
некоторых из
них в сторону
рабочей
демократии,
внушало
желание
познакомиться
с деятелями
социалистических
партий,
выразить им
политическое
сочувствие.
Но все эти
порывы
останавливались
у черты,
через которую
либерализм,
по самой
сути, перешагнуть
не мог и не
хотел.
Индивидуалистический
протест,
облеченный в
форму
этической и эстетической
критики
общественнонполитической
деятельности,
не покушался
на подлинные
социальные
основы тех
явлений, которые
так оскорбляли
моральное
чувство
символистов.
Ненависть
символистов
к «мещанству»
и к «буржуазности»
не шла дальше
представлений
о
необходимости
таких
политических
изменений,
которые, не
упраздняя
господства буржуазии,
обеспечили
бы
возможность
более
свободной
культурной,
утонченной
работы в
области поэзии,
искусства,
критики,
литературной
и эстетической
теории.
Символисты
стремились к
союзу с
наиболее
культурными
и потому, в
условиях
того времени,
неизбежно
либеральными,
оппозиционными
кругами
буржуазии с
тем, чтобы
культурно
просветить,
облагородить
эти круги,
поднять их до
уровня
понимания утонченных
явлений
западной
буржуазной эстетической
культуры
Символисты
были как раз
той группой
писателей,
которые одной
из своих
первых задач
считали
приобщение
художественной,
эстетической
и
философской
культуры
России к
поэтической,
эстетической
и философской
культуре
Запада.
Поэты-символисты,
работая над
созданием
русской
школы символизма,
работали
вместе с тем
как своеобразные
посредники и
пропагандисты
западной
культуры. Эта
тенденция
символизма
сказалась,
во-первых, в
их
интенсивной
переводческой
деятельности
Бальмонт,
Валерий
Брюсов, Сологуб,
Эллис,
Вячеслав
Иванов
выступали
перед
публикой не
только как
оригинальные
поэты, но
также и как
переводчики
новейших и современных
им
французских
и английских
поэтов. Они
знакомили,
часто
впервые,
русского читателя
с
творчеством
таких
писателей,
как Бодлер,
Верлен,
Малларме,
Верхарн,
Эдгар По, Уитмен;
во-вторых,
«западническая»
тенденция символистов
сказалась в
их тяге к
пропаганде
теоретических
идей
буржуазной
культуры
Запада:
эстетических
и
философских
Символисты
были дружны с
той частью
буржуазной
университетской
академической
молодежи,
которая В то
время
тянулась к
философии и
эстетике
буржуазного
Запада.
Вся эта
своеобразная
«просветительная»
деятельность
символистов
развертывалась
под знаком
интеллектуального
и морального
индиви-
196
дуализма.
Только на
поверхностный
взгляд могло
показаться,
будто
индивидуализм
этот был
направлен
своим
острием
против буржуазных
элементов русской
общественной
жизни и
культуры. На
деле
индивидуализм
этот был
непосредственно
и прежде
всего
направлен
против демократического
движения,
против тех
сил демократического
мировоззрения,
какие имелись
в то время в
русской
общественно-политической,
философской
и
эстетической
жизни. И если
символисты
порой горячо
и резко
отмежевывались
от
«мещанства» и
«буржуазности»,
то делали они
это лишь в
той мере, в
какой это
«мещанство» и
«буржуазность»
не позволяли
быть «до конца»
индивидуалистичными.
Отсюда
понятна
неизбежность
целого ряда
противоречий
в идеологии
символизма
этими
противоречиями
охвачены и
социально-политические
взгляды
символистов,
и их
эстетические
воззрения, и
практика их
искусства.
II.
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ
ПРОТИВОРЕЧИЯ
РУССКОГО СИМВОЛИЗМА
Противоречия
общественно-политических
позиций
русских
символистов
делают
многое ясным
в противоречиях,
которыми
пронизаны их
эстетические
взгляды и
теории.
Возникнув,
как «овое и
притом
боевое
течение
искусства,
противопоставлявшее
себя всем
прочим
явлениям искусства,
символизм с
первых дней
своего
существования
стремился
выработать
теоретическую
программу,
сложиться в
эстетическое
и даже
философское
течение. «Мы
должны,
писал Андрей
Белый в
статье
«Теория или
старая баба»,
разработать
широкие
лозунги
символизма:
должны
превратить
платформу в
теорию; то,
что мы читаем
у Ницше,
Уайльда,
Ибсена,
Метерлинка и
далее у Шюре,
Реми де
Гурмона и
Танкреда де
Визана, что
узнаем про
теорию
Малларме, еще
не есть
защита
символизма и
всего нового
искусства
вообще, а
боевая
платформа;
если мы
дорожим
серьезностью
этой платформы,
мы должны
углубить
поднятые
вопросы...» (5, 1908, IV, 40).
Одним из
краеугольных
камней этой
теории эстетики
и философии
был вопрос о
назначении
искусства и
поэзии, об их
общественной
функции, о
назначении
поэта. Но по
этому
вопросу в
школе
символизма
не было
единства.
Валерий
Брюсов, один
из
крупнейших
руководителей
символизма,
организатор,
идейный
вдохновитель
и сотрудник
«Весов»,
держал курс
на теорию,
которая стремилась
представить
символизм
как чисто художественное
течение и
вынести из
этого представления
«автономию»
искусства,
обосновать
тезис
«независимости»
искусства от общественной
действительности
и от прочих
видов
идеологии. В
статье «О
речи рабской»
(2, 1910, IX, 3134) Валерий
Брюсов
характеризовал
символизм
как
«определенное
историческое
явление,
связанное с
определенными
датами и
именами» (2, 1910, IX, 33).
«Возникшее,
как литературная
школа, в
конце XIX века,
во Франции
(не без английского
влияния),
«символическое»
движение,
разъяснял
Брюсов,
нашло
последователей
во всех
литературах
Европы,
оплодотворило
своими
идеями другие
искусства и
не могло не
отразиться
на миросозерцании
эпохи. Но все
же,
настаивал Валерий
Брюсов, оно
всегда
развивалось
исключительно
в области
искусства» (2, 1910, IX,
33). Поэтому
Валерий
Брюсов
отрицал
подчинение
искусства
науке,
общественности
и мистике.
«Символизм,
писал он,
есть метод
искусства,
осознанный в
той школе,
которая
получила
название
«символической».
Этим своим методом
искусство
197
отличается
от
рационалистического
познания
мира в науке
и от попыток
внерассудочного
проникновения
в его тайны в
мистике.
Искусство автономно:
у него свой
метод и свои
задачи. Когда
же можно
будет,
восклицал
Валерий Брюсов,
не
повторять
этой истины,
которую давно
пора считать
азбучной.
Неужели
после того, Как
искусство
заставляли
служить
науке и общественности,
теперь его
будут
заставлять
служить
религии.
Дайте же ему,
наконец, свободу»
(подчеркнуто
мной. В. А.) (2, 1910, IX, 33).
Еще в 1905
году, в
открытом письме
Андрею
Белому в
пятой книжке
«Весов», Валерий
Брюсов,
защищаясь от
похвал
Андрея Белого,
включившего
его в число
шести ведущих
русских
поэтов по
признаку
идейной направленности
их искусства,
требовал,
чтобы достоинство
поэтов
определялось
прежде всего и
главным
образом по
чисто
художественным
качествам их
произведений.
«Поэтов можно
мерить,
писал
Валерий
Брюсов,
только по достоинствам
и
недостаткам
их поэзии, ни
по чему
другому. Если
в глубинах
русской
поэзии
суждено, как
ты
утверждаешь,
зародиться новой,
еще
неведомой
миру религии,
если русская
поэзия
«провиденциальна»,
то наиболее яркие
представители
этой поэзии и
будут представителями
«Апокалипсиса
в русской поэзии».
Если же этими
представителями
оказываются
поэты
второстепенные,
это значит, что
поэзия здесь
не при чем. И
неужели Блок
более являет
собой
русскую
поэзию, чем
Бальмонт, или
неужели
поэзия
Баратынского
имеет меньшее
значение, чем
моя. Ты
расцениваешь
поэтов по
тому, как они
относятся к
«Жене, облаченной
в солнце».
Критики 60-х
годов оценивали
поэтов по их
отношению
^прогрессивным
идеям своего
времени. Оба
метода подают
друг другу
руки. Нет, я
решительно
отказываюсь
от чести быть
в числе
шести, если
для этого
должен
забыть
Кольцова,
Баратынского,
Бальмонта.
Предпочитаю
быть
исключенным
из
представителей
современной
поэзии, вместе
с Бальмонтом,
чем
числиться
среди них с одним
Блоком» (5, 1905, V.38).
К этой же
мысли
Валерий
Брюсов
возвращается
через год в
статье,
напечатанной
в пятой книжке
«Весов» за 1906
год.
«Программы
настоящих, не
выдуманных
литературных
школ, писал
он здесь,
всегда
выставляют
на своем
знамени
именно
литературные
принципы,
художественные
заветы.
Романтизм
был борьбой
против условностей
и узких
правил
лже-классицизма;
реализм
требовал
правдивого
изображения
современной
действительности;
символизм
принес идею
символа, как
нового
средства
изобразительности.
Объединять
же
художественные
произведения
по признакам,
не имеющим
отношения к
искусству,
значит
отказываться
от искусства,
значит
уподобляться
«передвижникам»
и апологетам
«утилитарной»
поэзии» (7, 1906, 56).
Линию
Валерия
Брюсова,
сводившего
символизм к
одной из школ
«чистого» и
«автономного»
искусства,
поддерживал
в «Весах» и вне
«Весов» Эллис.
Вторя
Брюсову, он
нападал на С.
А. Венгерова,
автора
«Очерков по истории
русской
литературы»,
доказывая
автономность
искусства,
его
независимость
от явлений
общественной
жизни. «Г.
Вен-геров, поучал
Эллис, один
из
убежденнейших
и самых
последовательных
сторонников
господствующего
с давних пор
в нашей
«критике»
воззрения,
согласно
которого
всякое
литературное
явление есть,
прежде всего,
явление общественное,
и,
следовательно,
должно
оцениваться
как таковое» (5,
1906, V, 55). «Но не
доказывает
ли, вопрошал
Эллис,
подобное
смешение
эстетики и
политики в
«литературу»
отсталость,
примитивность
и того и
другого
элемента
русской
жизни» (5, 1906, V, 55).
198
Другое
крыло
русского
символизма
составили
поэты и
теоретики,
вопреки
мысли Валерия
Брюсова
отрицавшие
эстетическую
«автономию»
искусства и
видевшие в
искусстве деятельность,
направленную
на создание
не одних лишь
новых
художественных
форм, но прежде
всего новых
форм жизни,
которые
должны были,
по их
представлению,
обновить все
существование
человечества,
поднять это
существование
на высшую,
свободную от
противоречий
и
дисгармонии
ступень.
Это
крыло было
представлено
несколькими крупными
поэтами и
идеологами
символизма, в
первую
очередь
Андреем
Белым и
Вячеславом
Ивановым. В
известном
смысле
поскольку
речь шла об
отрицании
«чистого
искусства» и
эстетизмак
этому крылу
примыкал и
Блок. Однако
и внутри
группы отрицавших
брюсовский
лозунг
«автономности»
искусства
существовали
немалые
разногласия,
приводившие
порой к
отколу,
внутренней
борьбе и
полемике
между
виднейшими писателями
символизма.
Общим
идейным
источником
антиэстетизма
и взгляда,
рассматривавшего
искусство
как средство
действенной
переделки и
пересоздания
жизни, были,
по крайней мере
для ряда
представителей
этой группы, идеи
Достоевского
о красоте,
долженствующей
спасти мир, и
мистика
Владимира
Соловьева.
Андрей Белый
и Блок
воспитались
и выросли в
атмосфере
соловьевства,
но затем пути
обоих писателей
резко
разошлись.
Андрей Белый
в своей
сложной и
путаной
идейной
эволюции все
больше и
больше
приближался
к взгляду на
искусство,
который всю
ценность
дела художника
полагал не в
создании
художественных
вещей, но в
создании,
нового типа
жизненного творчества.
Валерию
Брюсову,
выдвигавшему
лозунг
автономной
ценности
искусства, Андрей
Белый
напоминал
идеи об
искусстве, которые
Валерий
Брюсов
проповедовал
в 1905 году и
которые были
недалеки от
мысли Белого
о преобразующей
жизнь силе
творчества. В
1908 году, в пятой
книжке
«Весов»,
Андрей Белый
напоминал
читателям
время, когда
Валерий
Брюсов
требовал от
поэта, чтобы
поэт
неустанно приносил
свои
«священные
жертвы» не
только
стихами, но
каждым часом
своей жизни,
каждым
чувством
своей
любовью,
своей
ненавистью,
достижениями
и падениями.
«Пусть поэт, писал
он, творит не
свои книги, а
свою жизнь. Пусть
хранит он
алтарный
пламень
неугасимым,
как огонь
Весты, пусть
разожжет его
в великий
костер, не
боясь, что на
нем сгорит
его жизнь. На
алтарь
нашего
божества мы
бросаем
самих себя.
Только
жреческий нож,
рассекающий
г р у д ь, д а е т
право на имя
поэта» (5, 1908, V, 59).
В этом
лозунге
Брюсова
эпохи 1905 года, а
также в лозунге
Вячеслава
Иванова,
утверждавшего,
что
символизм «не
хотел и не
мог быть
только искусством»,
Андрей Белый
видел
открытое признание
того факта,
что
символизм
представлял
«нечто
большее,
нежели
литературную
школу». «В
течении,
писал Андрей
Белый, сложившемся
во Франции,
как
литературная
школа, а в
Германии
как новое
миросозерцание
(к
символистам
причислял
себя и Ницше),
могло и
должно было
содержаться
нечто
большее, нежели
рассуждение
о чеканке
стиха. Французский
символизм,
правда,
создавался,
как литературная
школа, но
германский
символизм
слагался не
только в
пределах
истории литературы.
Признание
двух
крупнейших
представителей
русского
символизма в
том, что
символизм
не только
литературная
школа, указывает
вовсе не на
измену
заветам символистского
искусства, а
на характер
русского
символизма,
оригинально
выразившегося»
(3, 12). «В проповеднической
ноте,
проявившейся
у величайших
символистов
нашего
времени
Ницше и Ибсена
в том, что они
признают в
художнике
199
творца
жизни, мы и
усматриваем
привнесение
цели,
диктуемой
искусству: из
искусства
выйдет новая
жизнь и
спасение
человечества»
(3, 3).
Но
именно
требование,
чтобы
искусство
стало
творчеством
новой жизни,
ставило
теоретиков
символизма
лицом к лицу
перед политической
действительностью
современной
России.
Современность
эта взывала,
вопила
голосами
миллионов
угнетенных,
бесправных и
забитых
людей о
необходимости
действительно
существенного,
сверху до-визу,
пересоздания
социальных
основ жизни.
Действительность
эта породила
могучее революционное
движение и
героическую
большевистскую
партию,
возглавлявшую
это движение.
Действительность
эта создала
революционную
ситуацию,
перешедшую в
подлинную
первую русскую
революцию.
В
условиях
героической
борьбы
революционных
рабочих и
крестьян
против
самодержавия
и буржуазии
лозунг о
жизнетворчеекой
силе
искусства,
выходящей за
пределы творчества
одной лишь
художественной
красоты, не
мог не
получить
дальнейшего
разъяснения.
Подлинный
смысл этого
лозунга и подлинная
проверка его
истинной
направленности
были возможны
не иначе, как
при условии
внесения полной
ясности в
отношении
группы
символистов
к тому
действительному
революционному
«пересозданию»
жизни, начало
которого
знаменовали
первые шали
революции 1905
года. Художники,
всерьез
полагавшие
смысл искусства
в его
способности
творить
новую жизнь, не
могли
уклониться
от ответа на
вопрос о том,
как
относятся
они к
начатому
революционным
пролетариатом
и всей
революционной
демократией
творчеству
новых форм
жизни.
Мысль, по
которой
искусство
призвано
творить новую
жизнь, не
было
оригинальным
достоянием
символистов.
Мысль эту
впервые в
новое время
развил в
«Письмах об
эстетическом
воспитании»
Шиллер. Уже
эстетика
Шиллера
обнаружила,
что
постановка
вопроса о
жизнетворческой
силе
искусства,
независимо
от вопроса о революционной
переделке
социальных
устоев жизни,
не только
бесплодна, но
является результатом
уже
сложившегося,
готового отрицательного
отношения
художника к
революции,
результатом
неверия в
освободительную
мощь
революционного
действия.
Называя
красоту «нашей
второй
созидательницей»
(12, XXI, 262), Шиллер
старался
вместе стем
убедить
читателя в
неспособности
революционного
действия
быть созидателем
разрушенной
насилием
гармонии и
красоты
человеческого
существа.
«Каждую
попытку
такового
изменения
государства,
утверждал
Шиллер,
следует
считать
несвоевременной
и все
надежды,
основанные
на этой
попытке,
химерическими
до тех пор,
пока раздробление
внутреннего
человека
снова не
прекратится
и его природа
не разовьется
с
достаточной
полнотой,
чтобы самой
быть художницей
и поручиться
за
реальность
политического
создания
разума» (12, VI, 438).
Уже во
времена
Шиллера
взгляд этот
был признаком
крайней
политической
отсталости немецкого
бюргерства.
Эстетика
Шиллера подменяла
реальное
действие
общественного
преобразования
«видимостью»
(Schein)
эстетической
игры. Уже эта эстетика
была
попыткой
ухода
филистерски
настроенного
художника от
действительного
разрешения
остро
сознававшихся
им социальных
противоречий,
попыткой
защиты от
революционной
борьбы,
которая одна
только и могла
устранить
или создать
основы для устранения
этих
противоречий.
В
эстетике
Достоевского
тезис
Шиллера не просто
воспроизводится
в формуле
«красота
спасет мир»,
но
превращается
в боевой лозунг
реакции, в
прямое,
полное
ненависти к
революции
отрицание
200
всех
форм
революционной
борьбы.
Эстетикой
наряду с
религией
великий
романист
пытается
поразить
ненавистный
ему дух
революции.
В прямой
преемственности
с эстетикой
Шиллера и
Достоевского
стоит и тезис
символистов
об искусстве,
призванном
творить новую
жизнь. Тезис
этот вовсе не
является
простым
убеждением
символистов
в великой
творческой
силе
искусства.
Тезис этот
выполняет в
их устах
оборонительное,
объективно
реакционное
значение: он
имеет целью
не только
оградить
искусство и
художников
от прямого,
непосредственного
участия в
деле
революции, но
также
оградить
искусство от
всякого воздействия
на него тех,
кто
революцию
делает, т. е. от
всякого
требования,
предъявляемого
искусству
подлинно
революционной
демократией.
Чем
сильнее
подчеркивали
символисты
преобразующую
силу
искусства,
тем менее обязательной
для
художника,
тем менее
значительными
представлялись
им
общественная
жизнь и
политическая
борьба. Тот
же Валерий
Брюсов,
который
провозгласил
искусство величайшей
революционной
силой,
требовал
ограждения искусства
от давления
на него
общественной
действительности.
«Искусство,
писал Валерий
Брюсов,
может быть,
величайшая
сила, которой
владеет
человечество.
В то время как
все ломы
науки, все
топоры
общественной
жизни не в
состоянии
разломать
дверей и стен,
замыкающих
нас,
искусство
таит в себе
страшный
динамит,
который
сокрушит эти
стены, боле
того оно
есть тот
сезам, от
которого эти
двери
растворятся
сами» (5, 1904,21).
И именно
из этой,
приписанной
им искусству чудодейственной,
якобы
преобразующей
жизнь
способности
Валерий
Брюсов
выводил «автономность»
искусства,
отклоняя
всякую мысль
о том, чтобы
заставить
искусство
«служить
науке и
общественности»
(2, 1910, IX, 3). Не
отрицая того,
что
искусство
может иметь
одним из своих
результатов
«пользу»,
Валерий
Брюсов
.настаивал на
том, что
результат этот
не должен
быть
смешиваем с
назначением искусства,
ничего
общего будто
бы с «пользой»
не имеющим.
«Всегда
останется
возможность,
писал
Брюсов,
указать в том
или ином пользу
искусства. Но
мало ли как
можно использовать
тот и другой
предмет, ту и
другую силу...
Графологи
утверждают,
будто бы по почерку
можно узнать
характер
человека. Но
финикийцы
(согласно
мифу)
изобрели
письмо
совсем не с
той целью.
Крестьянин в
крыловской
басне обрек
топор на
тесание
лучины. Топор
справедливо
заметил, что
он в том не виноват.
В повести
Марка Твена о
принце и нищем
Бедный Том,
попав во
дворец,
пользуется государственной
печатью для
того, чтобы колоть
ею орехи.
Может быть,
Том колол
орехи очень
удачно, но
все же
назначение
государственной
печати иное» (5,
1904, 1,89).
Еще
прямее,
резче,
откровеннее
выразил эту мысль
Эллис. Этот
символист не
только отрицал
законность
требований,
предъявлявшихся
революционными
классами к
искусству, но
прямо видел в
этих
требованиях
доказательство
того, будто
искусство
терпит от
демократии
ничуть не
меньше, чем
от буржуазии.
Не решаясь
формально
признать
буржуазный
характер
искусства и
эстетики
символизма,
отрекаясь
формально от
буржуазии,
писатель этот
на деле
нападал
именно на
демократию и
на пролетариат.
Рассуждения
Эллиса
чрезвычайно
характерны
для
символистов
и уже сами по
себе доказывают
буржуазно-апологическую
суть теории
символизма,
только едва
прикрытую
фразой об
антибуржуазности.
Только
заведомо циничный,
оголтелый
адвокат
буржуазного общества
мог ставить
на одну
линию, как
равноправные
и
равноценные
факты,
201
«материальное
и
практическое
объединение»
миллионеров,
с одной
стороны, и
бедняков, отдающих
за книжку
стихов или
повестей свой
последний
грош, с
другой.
Только
бессовестный
буржуазный
литератор
мог, подобно
Эллису, огульно
обвинять всю
демократию в
недооценке
Пушкина или в
согласии с
Толстым в его
отрицании
Шекспира.
Только
преднамеренно
или
бессознательно
идеализирующий
буржуазное
общество
фантазер мог
воображать,
будто в обществе
этом
возможна
независимость
художника от
буржуазии, от
борющихся
классов и партий.
В 1905 году, в
двенадцатой
книжке «Новой
жизни», В. И.
Ленин ребром
поставил
вопрос о
возможности
независимости
и свободы для
художника в
капиталистическом
обществе. «Свободны
ли вы,
спрашивал
Ленин, от
вашего буржуазного
издателя,
господин
писатель? от вашей
буржуазной
публики,
которая
требует от
вас
порнографии
в рамках и
картинах, проституции
в виде
«дополнения»
к «святому» сценическому
искусству?» (1, 12,
103104).
Символисты
отвечали
Ленину на
страницах «Весов».
В статье
«Свобода
слова» (5, 1905, XI)
Валерий Брюсов
пытался
возражать
Ленину от
имени символистов
и новаторов
западного
искусства. «Я
думаю,
отвечал на
вопрос
Ленина Брюсов,
я думаю, что
на этот вопрос
не один
кто-нибудь, а
многие
твердо и смело
ответят: «Да,
мы свободны!».
Разве Артюр Рембо,
продолжает
Брюсов, не
писал своих
стихов, когда
у него не
было
никакого
издателя, ни
буржуазного,
ни не
буржуазного,
и никакой
публики,
которая
могла бы потребовать
от него
«порнографии»
или чего другого?
Или разве не
писал Поль
Гоген своих картин,
которые
упорно
отвергались
разными жюри
и не находили
себе, до
самой смерти
художника,
никаких
покупателей?
И разве целый
ряд других
работников
«нового
искусства» не
отстаивал
своих
идеалов
вопреки
полному
пренебрежению
со стороны
всех классов общества?»
Брюсов
не понимал,
что примеры
Артюра Рембо
и Поля Гогена
только
подтверждают
истину мысли
Ленина. Ленин
доказывал
вовсе не то,
что в
буржуазном
обществе не
может появиться
честный и
бескорыстный
художник.
Ленин
доказывал
только то,
что такой художник,
буде он и
появится,
может
рассчитывать
увидеть свои
произведения
напечатанными
и
признанными
лишь при
условии, если
они не будут
идти вразрез
с понятиями,
убеждениями,
вкусами,
наконец,
материальными
интересами
буржуазного
издателя.
С другой
стороны,
Брюсов
глубоко
заблуждался,
когда
горделиво
утверждал,
будто школа
русского
символизма
действительно
добивается
независимости
от буржуазии.
«Всю свою
задачу,
писал Брюсов
о русских
символистах,
они
поставили в
том, чтобы и в
буржуазном
обществе
добиться «абсолютной»
свободы
творчества» (5,
1905, XI, 65). То, что было,
в лучшем
случае,
субъективной
мечтой или
пожеланием,
Брюсов и его
единомышленники
принимали за
уже осуществленную
действительность.
Действительность
эта резко
расходилась с
мечтой.
Эволюция
русского
либерализма,
смертельно
боявшегося
всякого
действительного
успеха,
действительного
углубления
революции,
всякого
действительного
потрясения
основ
буржуазного
порядка,
заставляла
символистов
сближаться с
реакционным
крылом
русской
литературы и
публицистики,
приспособлять
свои политические
взгляды и
мнения к
взглядам и
мнениям
этого крыла.
Одним из
самых ярких и
убедительных
доказательств
этого
сближения
оказался ответ
символистов
на появление
знаменитого
сборника
«Вехи».
202
В
идейной
борьбе,
завязавшейся
вокруг «Вех»,
орган
символистов
занял
совершенно
недвусмысленную
позицию
«веховцам»
отвечал один
из
крупнейших
теоретиков
символизма и,
в частности,
«Весов», Андрей
Белый. В
статье
«Правда о
русской
интеллигенции»
по поводу
сборника
«Вехи»,
подписанной
псевдонимом
Яновский,
Андрей Белый
открыто и
темпераментно
выступил на
защиту «Вех».
Знаменательно,
что не только
содержание,
но и способ
защиты,
избранный
Андреем Белым,
целиком и
полностью
совпадает с
идеологией
семи авторов
знаменитого
сборника
реакционной
российской
буржуазии
Как показал
Ленин,
особенность
приема «веховцев»
состояла в
том, что
нападки на
революционною
демократию и
разрыв «со
всеми коренными
традициями»
русского
освободительного
движения
выдавались
«веховцами»
за нападки не
на
демократию,
но всего лишь
на «интеллигенцию»,
за разрыв не
с основами
демократии,
но всего лишь
с
«интеллигенцией».
Механизм
этой
подтасовки,
ее
действительные
политические
мотивы
блестяще
вскрыл Ленин.
« ..Не на
«интеллигенцию»,
разъяснял
Ленин, нападают
«Вехи», это
только
искусственный,
запутывающий
дело, способ
выражения. Нападение
ведется по
всей линии
против демократии,
против
демократического
миросозерцания»
(1, 19, 169). «В
действительности
нападение
ведется в
«Вехах»
только на
такую
интеллигенцию,
которая была
выразителем
демократического
движения, и
только за то,
в чем она
проявила
себя, как
настоящий
участник этого
движения» (1, 19, 170).
«Они порвали
с самыми основными
идеями
демократии, с
самыми
элементарными
демократическими
тенденциями,
но делают
вид, что рвут
только с
«интеллигентщиной»
(1, 19, 170). «Под
прикрытием
криков
против
демократической
«интеллигенции»,
война
кадетов
ведется на
деле против
демократического
движения
масс» (1, 19, 171).
Но
совершенно
такой же
характер
имела защита
«Вех»,
развивавшаяся
Андреем
Белым на страницах
«Весов». В
своей статье
Андрей Белый
яростно
нападал на
демократическую
критику,
разоблачавшую
«Вехи», как
факт окончательного
разрыва
кадетского
либерализма
с
демократическим
движением.
Подобно тому,
как «веховцы»
свои нападки
на демократию
выдавали за
нападки на
«интеллигенцию»,
так и Андрей
Белый свое
нападение на
демократическую
критику «Вех»
стремился
представить,
как
нападение на
«буржуазную
интеллигенцию».
По мнению
Андрея
Белого, суд,
учиненный
демократической
печатью над
сборником
«Вехи»,
доказал
будто, что
печать эта
«существует
не как орган
известной
политической
партии, а как
выражение
внепартийного
целого,
подчиняющего
стремление к
истине идеологическому
быту» (5, 1909, V, 65).
Обвинения,
выдвинутые
честной
демократической
печатью
против «Вех»,
Андрей Белый
называл
«инсинуацией»:
«Поднялась
инсинуация,
писал он,
«Вехи»-де шаг
направо,
тут-де
замаскированное
черносотенство;
печать не
ответила
авторам «Вех»
добросовестным
разбором их
положений, а
военно-полевым
расстрелом
сборника, тем
не менее,
продолжает
Андрей Белый,
«Вехи»
читаются
интеллигенцией
русская интеллигенция
не может не
видеть явной
правдивости
авторов и
красноречивой
правды слов о
себе самой,
но устами
своих
глашатаев интеллигенция
перенесла
центр
обвинений с
себя, как
целого, на
семь
злополучных
авторов» (5, 1909, V, 6566).
«Интеллигенция,
писал далее
Андрей Белый,-эта
духовная
буржуазия
давно
осознала
себя, как
класс,
остается
думать, что
идеологи ее
часто бывают
ею
инспирированы;
ведь она
пишет себе
самой о себе
самой; пресса
угодливое
зеркало русской
интеллигенции
в
негодовании
прессы по
поводу
выхода «Вех»
слышатся
иногда те же
203
ноты,
какие
слышатся в
негодовании
лицемерных
развратников
при виде
наготы;
нагота, в
которой
предстают
нам подчас
слова авторов
«Вех», должна
раздражать
развратных
любителей
прикровенного
слова:
прикровенное
слово сперва
извратило
смысл статей
Бердяева,
Гершензона,
Струве и др., а
потом совершило
над ним
варварскую
расправу» (5, 1909, V, 6667).
Но
Андрей Белый
был вовсе не
единственным
писателем
символизма,
который, ведя
борьбу
против
демократического
крыла
тогдашней
русской
литературы,
выдавал эту
борьбу за
борьбу
против
«буржуазности».
И появление
«Вех» было
далеко не
единственным
поводом для
выступлений,
где имела место
эта
(подтасовка
или подмена
истинного предмета
борьбы и
нападок. Тот
же Андрей
Белый, под
тем же
псевдонимом
Яновский, в
специальной
рецензии,
направленной
против сборника
«Литературный
распад»,
вышедшего в 1908
году, обвинял
писателей-большевиков
и в том числе
Ленина,
который в то
время вел
острую
борьбу с
богдановцами
и прочими
махистами, в
«буржуазности»!
По его следам
шли многие
другие
литераторы
символистского
лагеря.
То же
противопоставление
мировоззрения
символистов
как якобы
демократического
«буржуазному»
выдвигал и
Валерий
Брюсов. В полемике
против
Ленина по
вопросу о
свободе печати
Валерий
Брюсов
уверял
Ленина, будто
символисты
ненавидят
буржуазную
культуру
сильнее, чем
революционеры.
Если в
вопросах
общественно-политических
символисты
более или
менее
искусно прикрывали
свою
антидемократическую
тенденцию,
представляя
свою борьбу
против
демократии,
как борьбу
против «буржуазной
интеллигенции»,
то в вопросах
идеологии
эстетики,
философии
они не
считали даже
нужным
скрывать
свои
антидемократические
позиции. В
статье «Венок
или венец», появившейся
в
одиннадцатой
книжке
«Аполлона» за 1910
год, Андрей
Белый
выражал
неприкрытый страх
и
неприкрытую
вражду к
демократизации
искусства. «С
середины XIX
столетия,
писал Андрей
Белый,
возросла
демократизация
знаний и
философии;
целые слои,
доселе никак
не
причастные
искусству,
являлись все
более и более
законодателями
его судеб, в
настоящую
эпоху не
кружки
эстетически-образованных
людей
участники
жизни искусства;
демократические
массы
отнеслись к искусству
активно,
сместилась
линия развития
искусства;
искусство в
опасности».
Поэтому
лозунг об
искусстве,
призванном будто
бы спасти и
преобразовать
жизнь, неразрывно
связался у
Андрея
Белого с
противопоставлением
символизма,
как
«аристократического»
движения в
искусстве,
искусству демократическому.
«Развитие
символической
школы в
искусстве,
пояснял
Андрей Белый,
как и
проповедь символизма
у Ницше и
Ибсена,
явились
ответом на
распространяющуюся
вульгаризацию
искусства;
аристократические
глубины вечного
символизма
предстали
пред массой в
явной, проповеднической
форме:
символическая
школа в
поэзии
суммировала
индивидуальные
лозунги
художников
(исповедуемые
как Privat-Sache) провозглашением
этих
лозунгов, как
параграфов
художественной
платформы; в
демократических
кабачках, а
не на высотах
академического
олимпийства
началась
проповедь
символизма» (2,
1910, XI, 2). Именно это,
«аристократическое»,
противопоставленное
демократии
искусство и
должно было,
по мысли
Андрея
Белого, «спасти
человечество».
«В
проповеднической
ноте, писал
Андрей
Белый,проявившейся
у величайших
символистов
нашего времени
Ницше и
Ибсена в том,
что они
признают в
художнике
творца
204
жизни, мы
и
усматриваем
привнесение
цели, диктуемой
искусству: из
искусства
выйдет новая
жизнь и
спасение
человечества»
(2, 1910, XI, 3).
Еще
решительнее,
чем Андрей
Белый,
выдвигает
«аристократическую»
платформу
символизма
Эллис. Подобно
тому как в
политическом
вопросе антидемократическая
тенденция
выдавалась
символистами
за тенденцию,
направленную
против
«буржуазности»
и
«интеллигенции»,
так и здесь, в
вопросе об
отношении
художника к
народу,
символисты
пытались
представить
свой «аристократизм»,
как
аристократизм
чисто интеллектуальный.
«Пока не
доказано,
писал Эллис,
что публика
при
социализме
(точнее после
капитализма)...
будет
абсолютно
иная.
Подобные
аргументы,
пояснял
Эллис, самое лучшее
оружие в
защиту
нашего
культа аристократического
(не в
сословном
смысле), индивидуалистического
« стоящего
выше жизни символизма»
(5, 1908, IX, 66).
Однако
провозглашенный
символистами
«аристократизм»
оказывался
далеко не
всегда лишь
«несословным»
и «духовным».
На деле
«аристократизм»
этот, будучи
идейной
формой
антидемократической
сущности
символизма,
приводил
символистов
к прямой
смычке с
самыми
реакционными
и притом
отнюдь не
«духовными»
силами и течениями
русского
буржуазного
общества.
До чего
простиралась
зависимость
символистов
от
'буржуазных
практических,
политических,
а не только
лишь
«духовных»
течений, лучше
всего видно
из того, что
некоторые символисты
(в частности,
Андрей Белый)
выступали с
грубыми
антисемитскими
выпадами и
даже целыми
антисемитскими
«теориями».
Антисемитские
выпады и
настроения
части символистов
явно
перекликались
с откровенно
реакционной
идеологией
буржуазного
национализма
и
империализма.
Не
случайным
фактом или
недоразумением
было
помещение на
страницах
«Весов» письма
итальянского
писателя,
впоследствии
фашиста,
Джовани
Папини,
цинично
выразившего
целую
программу
политического
действия, не
только
совпадающую
с идеологией
империализма,
но во многом
предвосхищающую
основные доктрины
современного
фашизма:
критику парламентаризма
и
демократизма,
идею национальной
и
империалистической
политики, идею
наследования
великим
традициям
древнего
Рима. В
письме этом,
напечатанном
в двенадцатой
книжке
«Весов» за 1905
год, Папини
пытался характеризовать
новое
поколение
итальянской
конечно,
буржуазной
молодежи,
появившееся,
по его
наблюдению,
около 1880 года.
«Генуэзские
оружейники и
миланские
шелковщики,
писал Папини,
очень
хорошо
делают, что занимаются
своими
делами, но
все кажется
тщетным, если
завтра
великий поэт
и великий
философ не
окажут нам
некоторых из
тех слов, без
которых люди
не могут
более обходиться.
И это
поколение,
разъяснял
Папини, не стоит
вовсе вдали
от
политической
жизни, хотя
оно и боится
решиться на
какой-либо
шаг на этом
поприще. Но
это потому,
что политическая
жизнь, по их
взглядам,
должна быть
политикой
национальной,
в полном
смысле этого
слова, а не
парламентарной;
политикой
захвата, а не
страха;
политикой
великого народа,
наследника
великого
народа. Поэтому
они
оставляют в
значительном
количестве, и
это после
шумных
восторгов
первого времени,
ряды
социалистов
и полагают,
что после
опыта в
области
коллективизма
остается
проделать
только один,
и более
героический,
опыт на почве
империализма»
(5, 1905, XII, 59).
Противопоставив
революционному
политическому
действию
преоб-
205
разующее
жизнь
действие
искусства,
символисты
не только не
остались вне
политики, но
всем ходом
своего
развития
увлекались в ряды
с а-мых
реакционных
политических
сил русского
буржуазного
общества.
Вместе с
кадетами они
громят демократию,
делая при
этом вид,
будто громят «интеллигенцию».
Вместе с
русскими (и
немецкими,
вроде
Вольфинга)
националистами
они участвуют
в
антисемитской
травле.
Какой
смысл могло
иметь, в
свете всех
этих фактов,
положение об
искусстве,
«спасающем»
мир? Лишенное,
согласно
замыслу
авторов,
всякого реального
общественно-политического
содержания,
оно должно
было стать
лозунгом не
действительной
борьбы за
новую жизнь и
новый мир, но
лишь
лозунгом
«внутреннего»
морального
преображения
человека.
Если в конце XVIII
века в
Германии
политическая
отсталость
немецкого
бюргерства
привела
Канта и Фихте
к подмене
действительной
революционной
активности
моральной
концепцией
«долженствования»,
«категорического
императива»,
то в начале XX
века в России
реакционность
русской
буржуазии
привела
символистов
к слащавой и
реакционнейшей
философии,
теософской
морали, к
подмене
участия в
революционном
движении
участием в
теоретических
кружках и
сектах,
противопоставлявших
революционному
действию
«внутреннее
очищение»,
«самосовершенствование»
и
«перерождение».
Автономии
морального
закона,
провозглашенной
Кантом и
Фихте,
символисты
противопоставили
подчинение
эстетики и
морали мистике
и религии.
«Последние
цели
искусства,
писал в
статье «Смысл
искусства»
Андрей Белый,
совпадают с
последними
целями
человечества;
последние
цели
индивидуального
роста
диктуются
отчасти
этикой, но
еще более
религией, которая
превращает
эти
индивидуальные
цели в
коллективные.
Искусство,
образуя с
религией и этикой
однородную
группу
ценностей,
все же ближе
к религии,
чем к этике,
поэтому в
глубине
целей,
выдвигаемых
искусством,
таятся религиозные
цели: эти
цели
преображение
человечества,
создание
новых форм» (3, 212).
Насколько
сознательно
было это
противопоставление
«религиозного
преображения
души»
направленности
«внешнего»
политического,
революционного
действия,
видно из
статьи
Андрея
Белого «Луг
зеленый». В
статье этой, написанной
в 1905 году,
русский
символизм
революционному
настоящему и
будущему
России
противопоставлял
мечту о
«Мировой
душе» России,
которая
зацветет, как
зеленый луг
цветами,
освободившись
«от чар и
безумия революции».
Андрей Белый
использовал
образ Катерины
и ее
отца-колдуна
из «Страшной
мести» Гоголя,
развернув их
в прозрачную
реакционную
символику
России и
русской
революции.
Концепция
искусства,
спасающего
мир от революции,
превращающего
проблему
революционного
пересоздания
общества и
проблему
религиозного
пересоздания
души, должна была
привести
символистов
к
противоречию
в самом понимании
искусства.
С одной
стороны,
искусство
должно было,
согласно
этой
концепции,
отказаться
от всяких
притязаний
на
автономное
существование.
Искусство
должно было
слиться до
полной нераздельности
с этикой и
религией,
образы
искусства
должны были
стать
образами
будущего
перерожденного
религией
человека,
каким его
представляли
себе
символисты.
«Искусство,
проповедовал
Андрей Белый,
не имеет
никакого
собственного
смысла, кроме
религиозного;
в пределах
эстетики мы
имеем дело
лишь с
формой,
отказываясь
от
религиозного
смысла
искусства, мы
лишаем его
всякого
смысла» (3, 223).
206
С другой
стороны,
критика
всякого
«внешнего»
действия,
направленного
на переделку
жизни, вела
символистов
к критике
научного познания,
составляющего
основу
революционной
переделки
мира, а стало
быть, и к
критике
взгляда, рассматривающего
искусство
как одно из средств
познавательной
ориентировки
действующего
человека.
Ли-шенное
познавательного
значения,
поставленное
вне задач общественно-политического
действия,
искусство
должно было
необходимо
стаи,
формальным
искусством,
искусством
чеканки
одних лишь
форм.
Так
возникло
одно из
характернейших
внутренних
противоречий
эстетики
символизма.
Эстетика эта
одновременно
и отрицает всякий
формализм, в
пределе даже
отрицает самое
искусство
как
специфическую,
отдельную от
религии область
культурной
практики, и
вместе с тем
насквозь
формалистична,
ведет к
взгляду на
искусство
как на
автономную,
якобы не зависящую
от действия и
познания
область творчества.
С одной
стороны,
эстетика
символизма
отрицает
искусство
ради
искусства, отвергает
эстетизм и
поиски форм
ради форм. «Сущность
искусства,
писал Андрей
Белый, есть
открывающееся
посредством
той или иной
эстетической
формы
безусловное
начало... Углубление
смысла
эстетики
неминуемо подчиняет
искусство
более общим
нормам; в
эстетике
обнаруживается
сверхэстетический
критерий;
искусство
становится
здесь не столько
искусством,
сколько
творческим
раскрытием и
преобразованием
форм жизни.
Идя таким
путем,
сталкиваемся
мы с
многообразием
существующих
форм, приемов
техники, не
вмещающих
смысла
искусства, не
вмещаемых в
этом смысле» (3,
199).
Понятое
в этом смысле
искусство
перестает
даже быть
искусством,
превращается
в некую
«мистерию», в
«теургическое
действо», от
которого
ждут уже не
художественного
познания и
поучения, не
художественного
услаждения,
но реального
«онтологического»,
как сказал бы
философ,
пересоздания
жизни.
«Музыкальность
современных
драм, писал
тот же Андрей
Белый, их
символизм, не
указывает ли
на
стремление
драмы стать
мистерией?
Драма вышла
из мистерии
Ей суждено
вернуться к
ней. Раз
драма
приблизится
к мистерии,
вернется к
ней, она
неминуемо
сходит с подмостков
сцены и
распространяется
на жизнь. Не
имеем ли мы
здесь намека
на превращение
жизни в
мистерию?» (3, 172).
Тенденция
эта к
подчинению
искусства
«творчеству жизни»
в пределе
вела к
совершенному
отказу от
искусства,
как от особой
формы
культурной
практики.
Андрей Белый
пришел к
такому отказу
в «Записках
чудака» в
первом томе
эпопеи «Я»,
появившемся
в 1919 году, в «Записках
Мечтателей»
(кн. 1). Андрей
Белый рассказывает
здесь о
соблазне
писательского
пути,
пережитом им
в его
собственном
развитии.
Соблазн этот
состоял, по
его признанию,
в том, что
искусство,
понятое как
мастерство
формы, могло
превратиться
для него в самоцель.
«Моя жизнь,
рассказывал
Андрей Белый,постепенно
мне стала
писательским
материалом; и
я мог бы года,
иссушая себя,
как лимон,
черпать мифы
из родника
моей жизни, за
них получать
гонорар; и
спокойнейшим
образом
совершенствовать
свои ритмы и
рифмы;
историки
литературного
стиля впоследствии
занялись бы
надолго
моими
страницами» (7, 1,
4).
Переворот,
происшедший
в Андрее
Белом, состоял,
по его
словам, в
решении
отречься от искусства
как
искусства, в
отказе от
мастерства,
от
художественной
формы: «И вот
не хочу.
207
Обрываю
себя самого,
как писателя:
«Стой-ка
ты:
набаловался
ты, устраивая
фокусы с
фразой».
«Где
твоя
священная
точка?»
«Нет ее:
перламутровой
инкрустацией
фразы закрыл
ты лучи,
блещущие из
нее тебе в
душу...»
«Так
разорви свою
фразу: пиши,
как ...
сапожник».
Пишу, как сапожник»
(7, 1,41).
«Моя
истина,
писал далее
Андрей Белый,
вне писательской
сферы; могу я
коснуться ее
одним
способом:
выбросив из
себя в виде
повести этот
странный
дневник
моего
состояния сознания,
пребывающего
в недоумении
и не умеющего
недоуменье
выразить
обычными
средствами писательской
техники...
События,
упразднившие
перед вами
писательский
лик, не со
всеми бывают,
и пусть я
обыденный
человек, да,
но я человек,
профессиональные
литераторы,
часто не люди
мы» (7, 1,43).
Было бы
ошибкой
видеть в этом
восстании Андрея
Белого и
других
символистов
против эстетизма
и против
художественной
формы действительную
победу над
формалистическим
пониманием
искусства.
Восстание
это имело
своей
настоящей
причиной не
столько
стремление
наполнить
искусство
подлинно
серьезным
содержанием,
сколько
стремление
подвергнуть
критике одну
из
существеннейших
черт
современного
общества:
разделение
труда,
профессионализацию
и
специализацию.
В вопросе
этом символисты
типа Андрея
Белого
выступали
заодно с
утопическими
и
реакционными
критиками
профессионализации,
которых так
много
явилось во
второй
половине XIX и в
начале XX века.
Вместо того
чтобы
нападать на
основы
общественного
буржуазного
строя, при
которых
результаты
профессионализации
и
специализации
оказываются
действительно
гибельными
для членов общества,
односторонне
калечащими и
уродующими
человека,
символисты
пытались
отвергать
не на деле, но
«а словах
только
самый принцип
специализации.
«Казалось
мне, пояснял
Андрей Белый,
человека и
нет в
человеке; и
все, что
называем мы
«человеческим»,
обнимает лишь
частности,
черточки,
специальности
человеческой
жизни;
«человека» в
себе ощущал
той точкой,
из которой
порой
блистали
многообразия
человеческих
жизней моих
(лишь случайно
избрал я
одну); ощущал
я в себе столкновение
многих людей;
многоголосая
стая мои
двойники,
тройники
перекричала
во мне
специальность
поэта,
писателя,
теоретика;
искал я
гармонии
неосуществленных
возможностей;
и приходил к
представлению
«человека»,
которого нет
в человеке;
мы все
«человеки»
(лишь с
маленькой
буквы)футляры
Его, Одного» (7,1,45).
Противоречия
специализации
буржуазного
типа
символисты, в
лице Андрея
Белого, истолковывали
как
противоречия,
якобы присущие
всякой
специализации,
без отношения
к тому, из
какого
общественного
уклада она
возникает.
Распространив,
в своем
представлении,
отрицательные
черты буржуазной
специализации
на всякую
специализацию
как таковую,
они за
решение
вопроса сочли
простой
отказ от
самого
принципа разделения
труда и
культурной
дифференциации.
Это решение
вопроса было
так же
реакционно и
утопично, как
в свое время
решение
вопроса, предложенное
Джоном
Рескином,
Львом
Толстым, народниками
с
Михайловским
во главе.
Но
решение это
было, кроме
того, мнимым,
иллюзорным.
Оно
оставалось
одним лишь
пожеланием и
посулом. На
деле «отказ»
от искусства
как от специфической
области
культурного
творчества
вовсе не был
действительным
отказом от
искусства.
Уверяя, будто
он решил
208
писать,
«как
сапожник»,
Андрей Белый
на деле писал
и печатал в
«Записках
Мечтателей»
повесть,
произведение
искусства, не
только не лишенное
«формы», но
облеченное в
мастерскую,
очень
трудную и
сложную,
специфическую
для Андрея
Белого форму.
Более того.
Наряду с
ранее
обнаружившейся
у Андрея
Белого тенденцией
рассматривать
искусство
как всего
лишь подход к
решению
проблемы
религии и
культуры уже
в ранних
работах
Белого выступает
не менее
яркая и для
символизма
не менее
существенная
тенденция
формалистического
понимания
искусства.
Здесь перед
нами одно из
важнейших
противоречий
символизма, без
объяснения
которого
символизм не
может быть
понят как
идейное
течение. С
одной стороны,
художник
так думал
Андрей Белый
может быть
оправдан в
своей
деятельности
только в том
случае, если
он не только
художник, но
и «мудрец».
«Можно быть
художником,
писал Белый в
1907 году,и
овладеть
сложностью
интересов
познания:
сочетать в
сложном
взаимодействии
разнообразие
методов и все
их использовать,
как средство
воздействия.
Образ такого
художника-мудреца
наметили символисты
как идеал. И
великие
художники всех
времен
стремились
приблизиться
по мере сил к
такому
идеалу
художника»
(разрядка моя.
В. А.) (11, IX; 5, 1907, VIII, 58).
«Сущность
искусства,
так развивал
Белый эту
мысль в
работе «Смысл
искусства»,
есть открывающееся
посредством
той или иной
эстетической
формы
безусловное
начало... при
такой
постановке
вопроса
углубление
смысла
эстетики
неминуемо
подчиняет
искусство
более общим
нормам, в
эстетике
обнаруживается
сверхэстетический
критерий;
искусство
становится
здесь не
столько
искусством,
сколько творческим
раскрытием и
преобразованием
форм жизни.
Идя таким
путем,
сталкиваемся
мы с
многообразием
существующих
форм, приемов
техники, не
вмещающих
смысла
искусства, но
вмещаемых в
этом смысле» (3,
199).
Задолго
до того, как
на страницах
эпопеи «Я»
было изложено
отречение
Белого от
искусства
как от творчества
одних лишь
форм, Белый,
еще в юношеской
статье
«Проблема
культуры»,
утверждал,
будто формы
искусства
«лишь
эманация человеческого
творчества».
«Идеал
красоты,
пояснял он
далее, идеал
человеческого
существа; и
художественное
творчество,
расширяясь,
неминуемо
ведет к
расширению
личности» (3, 10). А
так как для
Андрея
Белого
«творчество»,
«преобразование
жизни»,
«расширение
личности»
представлялись
возможными лишь
как
религиозное
творчество,
религиозное
преобразование
жизни,
религиозное
расширение
личности, то
критика
эстетического
формализма
по сути
превратилась
у Белого в
призыв к
подчинению
искусства
религии и
мистике.
«Искусство,
так
утверждал Белый
уже в статье
«Смысл
искусства»,
не имеет
никакого
собственного
смысла, кроме
религиозного;
в пределах
эстетики мы
имеем дело
лишь с формой;
отказываясь
от
религиозного
смысла
искусства, мы
лишаем его
всякого
смысла» (3, 223).
Признаком
приближения
искусства к
религии, т. е.
выхода за
пределы
только искусства,
только
эстетики,
Белый считал
проникновений
символизма
втеатр, в
драму. «Музыкальность
современных
драм, писал
Белый, их
символизм, не
указывает ли
на
стремление драмы
стать
мистерией?
Драма вышла
из мистерии.
Ей суждено
вернуться к
ней. Раз драма
приблизится
к мистерии,
вернется к
ней, она
неминуемо
сходит с
подмостков
сцены и распространяется
на жизнь. Не
имеем ли мы
здесь намека
на
превращение
жизни в
мистерию?» (3, 172).
Мысль о
выхождении
из границ искусства
и его
эстетических
форм, путем подчинения
искусства
религиозной
деятельности,
типична для
209
большинства
символистов,
несмотря на
индивидуальные
различия.
Мысль эта
господствует
в
эстетических
статьях
Вячеслава Иванова.
Мысли этой
пытался подчинить
свое
музыкальное
творчество в
последние
годы своей
жизни
Скрябин.
Но
именно
анализ этой
основной для
эстетики
символизма
мысли
показывает,
что борьба
символистов
против
эстетизма и
формализма в
искусстве не
только не
могла
увенчаться
действительной
победой над
эстетизмом и
формализмом,
но что
вопреки
собственным
порывам и
обещаниям
символисты
должны были в
конце концрв
непременно
прийти к
формалистическому
пониманию
искусства.
И
действительно,
во имя какого
«творчества»,
какой «жизни»
и какой «деятельности»
должны были
художники,
вдохновляемые
теоретиками
символизма,
разбить свои
формы,
сломать
«инкрустацию
фразы»? В чем
на деле могло
состоять
отречение от
«творчества
форм»?
Совершенно
очевидно, что
религиозное
«пересоздание»
действительности
«на деле» и это
в лучшем
случае было
наивной и не очень
умной
фантазией
интеллигентов,
пребывающих
в
искусственном
комнатно-тепличном
мире мечты и
слащавых
иллюзий. Не
на шутку
перепуганные
действительным
и подлинно
величественным
действием
революции 1905 года,
символисты
могли только
мечтать о
«преобразовании
жизни» и
только таким
представлять
себе в мечте
это
«преобразование»,
чтобы оно
ничего не
сдвинуло с
основ
настоящей
жизни, чтобы
оно осталось
преобразованием
одного лишь
внутреннего
мира в сфере
одних лишь
субъективнейших
душевных
переживаний.
Для
символистов
религия была
даже не «вздохом
угнетенной
твари», но
лишь
слащавой мечтой
и иллюзией
людей,
перепуганных
событиями,
настоящего
смысла,
объема и
значения
которых они
не понимали и
не хотели
понимать.
Сами
символисты
не раз
признавались,
что под
«преобразованием
жизни» они
отнюдь не разумеют
какое бы то
ни было
действительное
и
действенное,
революционное
ее изменение.
Так, Вячеслав
Иванов,
витиеватый и
далекий от
искренности
теоретик
символизма,
на поставленный
им самим
вопрос о
смысле, в
каком
следует
понимать
преображение
жизни искусством,
отвечал
признанием,
из которого видно,
что речь шла
о чем-то
совершенно
беспредметном,
неосязаемом,
о новой форме
созерцания и
никак не
больше.
«К
художнику,
сознательному
преемнику
творческих
усилий мировой
души,
теургу,писал
Вячеслав
Иванов, относится
завет:
«Творящей
Матери
наследник,
воззови
Преображение
вселенной».
«Но как
может
человек,продолжал
Вячеслав Иванов,
способствовать
своим
творчеством вселенскому
преображению?
Населит ли он
землю созданием
рук своих?
Наполнит ли
воздух
своими гармониями?
Заставит ли
реки течь в
предначертанных
им берегах и
ветви
деревьев
распростираться
по
предуказанному
плану? Напечатлеет
ли свой идеал
на лице земли
и свой замысел
на формах
жизни?.. Мы
думаем,
отвечал Иванов
самому себе,
что
теургический
принцип в
художестве
есть принцип
наименьшей
насильственности
и наибольшей
восприимчивости.
Не налагать
свою волю на
поверхность вещей
есть высший
завет
художника, но
прозревать и
благовествовать
сокровенную
волю
сущностей.
Как
повивальная
бабка облегчает
процесс
родов, так
должен он
облегчать
вещам
выявление
красоты:
чуткими
пальцами
призван он
снимать
пелены,
заграждающие
рождение
слова» (10, 249 250).
210
Но если
художественное
«преображение
жизни»,
оказывается,
не может быть
не чем иным,
кроме как пассивным
созерцанием
«сущностей»,
то совершенно
очевидно, что
сущность
реформированного
искусства
может
сводиться
лишь к развитию
искусства до
степени
известного
способа познания.
«Прозревать
сущности»
значит, выражаясь
менее
высокопарным
и не столь
иератическим
языком,
просто
познавать.
Таким
образом,
критика
формалистического
понимания
искусства,
при
характерной
для
символистов
созерцательной
трактовке «теургического»,
«преобразующего
жизнь»
принципа,
должна была свестись
к какому-то
новому
обоснованию
взгляда на
искусство,
как на
своеобразный
метод
познания.
Эстетика
символизма
должна была
получить
обоснование
и полное раскрытие
не столько в
«религии»,
сколько в
теории познания
символистов.
И
действительно,
вопросы
теории
познания играют
громадную
роль в теории
символизма.
Отталкиваясь
от искусства,
как от творчества
одних лишь
форм, и сводя
художественное
«пересоздание
жизни» к
одному лишь
«прозрению
воли
сущностей»,
символисты,
естественно,
должны были
прийти к вопросу
о том, каким
способом это
«прозрение» совершается
и в чем
отличие
художественных
методов
«прозрения»
от всех
прочих: научных
и
философских.
В
характере
постановки и
в решении
этого вопроса
сказалась
глубоко упадочная,
реакционная
сущность
символизма.
Реакционной
политической
идеологии символистов
отвечает
такая же
реакционная
идеология в
области
философии и
эстетики.
Название
«декаденты»
совершенно
точно характеризует
значение и
ценность
мировоззрения
и искусства
символистов.
Мировоззрение
это продукт
и симптом
глу-5окого
упадка
философской
мыслии
творческой
силы.
Упадочная
сущность
символизма,
примыкающего
в философии к
самым
реакционным
течениям
буржуазной
мысли конца XIX
и начала XX века,
обнаруживается
прежде всего
в отношении
символистов
к жизни и к
научному
знанию.
Поставив
перед
искусством
задачу
«прозрения
сущностей»,
символисты в
то же время
решительно
заявляют, что
художественное
«прозрение»
не имеет и не
может иметь
ничего общего
с научными
методами
знания. При
этом дело
идет вовсе не
о том, чтобы,
определив
искусство и
науку как
виды знания,
установить
их
специфические
черты и
отличия.
Символизм
стремился к
чему-то гораздо
большему, чем
установление
специфических
особенностей
художественного
познания.
Символизм
противопоставлял
искусство
науке,
критиковал
научное
познание с
позиций
реакционного
алогизма,
интуитивизма
и мистики.
Идейные
мотивы этой
критики
проливают свет
на вопрос о
философских
корнях
русского
символизма.
Корни эти
многочисленны,
спутаны и не
легко
поддаются
отделению.
Это, во-первых,
учение
мистика
Владимира
Соловьева, в
особенности
его мысль о
«теургической»
роли
художника,
преобразующего
будто бы вселенскую
действительность.
Во-вторых, это
учение
неокантианцев,
в
особенности
неокантианская
критика
науки как
знания,
способного
отображать
действительность
в своих
понятиях.
Не
утверждение
искусства
как особого
вида знания,
но отрицание
познавательной
силы науки
имели прежде
всего в виду
символисты,
приступая к
анализу
гносеологической
основы
художественного
творчества.
Вместе с
неокантианцами,
в
особенности
с Риккертом и
эстетиками
его школы,
символисты
пытались
доказать
неспособность
науки быть
211
истинным,
адекватным
познанием
действительности.
«Дифференциация
науки, писал
Андрей Белый,
ведет нас к
полному
хаосу. Хаос
этот обнаруживается
двумя
противоположными
путямибезмерным
приближением
мрака неизвестности
к
поверхности
сознания:
изменяя
геометрическое
отношение
между известным
и
неизвестным
все в одном
направлении,
видимость
известного и
сознательного
уменьшается бесконечно.
Хаос
обнаруживается
и бесконечной
дифференциацией
наук...
Оставаясь на чисто
научной
точке зрения,
заключал
Андрей Белый,
мы никогда не
получаем
объективных
соотношений
между
различными
научными
методами...» (3, 16).
Развивая эти
мысли, Андрей
Белый приходил
к выводу,
будто
«теоретическое
мировоззрение
и не может
существовать...
наука его не
дает;
теоретическая
философия
вопрос о мировоззрении
подменяет
вопросом о
формах и
нормах
познавательной
деятельности;
мировоззрение
в таком виде
является нам
не живым
импульсом к
деятельности,
но мертвым
принципом; на
вопрос о том,
как мне понимать
смысл моего
существования,
теоретическая
философия
ответит: если
понимать смысл
так-то и
так-то
(всегда
условно), то
возможны
такие-то
методы
построений» (3,
6768).
Недостижимому
с точки
зрения
символистов
теоретическому
философскому,
научному познанию
действительности,
неосуществимому
в
многообразии
научных
методов и потому
лишенному
смысла,
символисты
противопоставили
принцип
абстрагированной
от всякого
познания
деятельности,
чистого
творчества жизни.
«Смысл,поучал
Андрей Белый,
в деятельности;
деятельность
неразложима,
цельна, свободна
и всемогуща; ...
термин
чистого знания
и познания
только
символы
деятельности;
...сначала
ищем мы смысл
жизни в
терминах знания;
и этот смысл
от нас
ускользает;
потом ищем мы
этого смысла
познанием; и
его не оказывается
вовсе; тогда
вопрошаем мы
познание, в
чем смысл
этого
познания. И
смысл этого
познания
вне познания;
само познание
оказывается
одной из
сторон
деятельности;
и смысл, и
ценность
деятельности
этой в
деятельности»
(3, 7273).
В своей
критике
науки и
научного
познания действительности
Андрей Белый
опирался, как
было
отмечено, на
идеи
фрейбургской
школы
неокантианства,
в
особенности
на теорию
познания
Риккерта. У
Риккерта он
заимствовал
критику
материалистического
взгляда,
согласно
которому
наши понятия
могут быть,
при
известных условиях,
отображением
действительности.
У Риккерта же
Андрей Белый
заимствовал
его гносеологическое
понятие
«ценности», а
также взгляд,
будто всякое
знание может
быть не
«отображением»,
но лишь
«преображением»
познаваемой
действительности.
Однако
изучение
положений,
которые
Андрей Белый,
как теоретик
символизма,
извлек из теории
познания
Риккерта,
показывает,
что русский
символизм не
просто
перенес в
свои
эстетические
теории понятия
неокантианской
гносеологии.
В мышлении
русских
символистов
понятия эти
преломились
в духе не
только
«критического»
идеализма, но
и в духе
крайне
реакционной
идеалистической
онтологии и
мистики.
Когда
Риккерт говорит,
что научные
понятия не
«отображают», но
«преображают»
действительность,
он понимает
под
«преображением»
прежде всего
«упрощение»
действительности
в «наших
понятиях» или,
говоря
словами
самого
философа,
«преодоление
интенсивного
и
экстенсивного
многообразия
предмета».
Критика
материалистической
теории
отражения в
работах Риккерта,
по крайней
мере в
отношении
естественнонаучного
познания,
чрезвычайно
близка к
учению об
«экономии
мышления»,
развитому
Махом, Авенариусом
и, независимо
от них,
прагматистами
и Бергсоном.
212
Напротив,
критика
теории
отражения,
развитая со
слов
Риккерта
символистами,
понимает под
«преобразованием»
действительности
не столько ее
«упрощение» в
наших
понятиях,
сколько
«творческое»
ее пересоздание.
Однако
творчество
это Андрей
Белый
понимает в
духе
эстетического
мистицизма
не как
переделку
окружающей
нас действительности,
но как
порождение
новой действительности
в нашем «духе»,
т. е исключительно
во
«внутреннем»
мире
человека.
Сам Андрей
Белый с
предельной
выразительностью
показал, что
именно в этом
направлении
он и наставлявшиеся
им в
философии и в
эстетике символисты
поняли
учение
Риккерта о
«ценности» и о
«преобразовании»
действительности
научными
понятиями.
«Понятие
ценности, пояснял
Андрей Белый,
опирается
на
внутренне-реальный
в нас опыт,
организация
и поступательное
движение в
нас которого
преображает
нам
окружающую
действительность
и в том
смысле ее
творит;
«всякое
знание»,
говорит Риккерт,
«есть уже
вместе с тем
и преобразование
действительности»;
преобразование
действительности
вокруг нас,
добавляет Белый
от себя,
...зависит от
преобразования
ее внутри
нас;
творчество
оказывается
первее
познания» (3, 3).
В этих
рассуждениях
центр
тяжести
лежит не в
понятии
«преобра
зования», но в
истолковании
этого
«преобразования»,
как
«внутренне'
го», не
касающегося
подлинной
реальной
жизни.
Поэтому
риккертов-ское
понятие
«ценности»
Андрей Белый
истолковывает,
как
переживание
ценности во
внутреннем и
даже...
мистическом
опыте.
«Теоретический
взгляд на
ценность,
так
интерпретировал
Андрей Белый
мысль
Риккерта,
зависит от
умения
пережить
нечто ценное;
«кто хочет практически
узнать
ценность, тот
должен ее
пережить»,
так
приблизительно
высказывается
Риккерт,
заканчивая
трактат «О
предмете
познания»...
скажем
открыто:
умение
пережить
это почти уже
магия, почти
йога; теория
здесь
оказывается
маской, за
которой
кроется
мудрость
посвященного
в глубину
живой жизни:
то, что
советует
Риккерт,
практически
исполняли
законодатели
религий,
творцы культур,
греческие
философы
досократовского
периода, как
исполнил
позднее этот
завет Г е т е, а
в наши дни
Ницше» (3, 34).
Как
нетрудно
догадаться,
построенная
на основе
этих
утверждений
«философия
творчества»
оказалась
совершенно
беспредметной,
мистической.
Сам автор
этой
мистической
интерпретации
риккертиан-ства
откровенно
признавался
в том, что
понятие
«жизненного
творчества»
для него
самого
совершенная
загадка и уж
конечно
символ
некоей тайны:
«А в чем ценность
спрашивал
Андрей Белый.
Она, пояснял
он, не в
субъекте, и
она не в
объекте; она
в жизненном
творчестве.
Но вместе с
тем нам
открывается,
что единая
символистическая
жизнь (мир
ценного) не
разгадана
вовсе,
являясь нам
во всей
простоте
прелести и многообразии,
будучи
альфой и
омегой всей
теории,
онасимвол
некоей тайны;
приближение
к этой тайне
есть все
возрастающее,
кипящее
творческое
стремление,
которое несет
нас... над
космической
пылью
пространств
и времен; все
теории
обрываются
под ногами;
вся
действительность
пролетает,
как сон; и
только в
творчестве
остается
реальность,
ценность и
смысл жизни» (3,
71).
При всей
мистической
неясности
подобных определений
творчества,
эстетический
смысл их
легко может
быть
установлен.
Критика
взглядов на
науку как на
отображение
действительности
в понятиях
переходит у
символистов
в отрицание
возможности
отражения
действительности
и в
искусстве.
Эстетика
символизма логически
ведет к
отрицанию
художественного
реализма как
метода
творчества и
познания.
213
В статье
«Смысл
искусства»
Андрей Белый
пытается
доказать,
будто всякая
эстетическая
теория,
рассматривающая
искусство с
точки зрения
его
познавательного
значения, не
верна по
существу и
основана на
смешении понятий.
Сторонники
подобных
теорий смешивают,
по мысли
Андрея
Белого,
понятие знания
с понятием
познания. По
Белому,
знание
всегда есть
наука,
познание
знание о
знании. Но ни
в первом, ни
во втором
смысле
искусство не
может быть,
так
утверждает
Андрей Белый,
постижением
действительности.
Искусство не
может быть
знанием в
смысле науки
и не может
-быть
познанием в
смысле
гносеологии.
«Знание,
писал Андрей
Белый, не
может быть ни
содержанием,
ни смыслом
искусства,
потому что
искусство,
понятое как
знание, есть
умение
владеть
приемом
творчества:
тут превращаем
мы искусство
в науку» (3, 222). Но
искусство не
может быть,
как
утверждал Андрей
Белый, и
познанием,
так как
сознание, т. е.
самосознание,
в конце
концов
опирается на
категории
рассудка.
«Познание,
рассуждает
Белый, есть
знание о
знании; оно
рассматривает
орудия
знания
методы; но
границы
методологического
ряда опытов
предопределены
тем или иным
условием возможности
опыта;
условие
опыта
внеопытного
происхождения;
оно та или
иная
категория, и
поскольку
единство
категории в
единстве
самосознания,
постольку
внеопытная
категория
есть всегда
категория
рассудка» (3,208).
Поэтому
утверждение,
будто
искусство
есть особого
рода
познание,
есть, по
Андрею Белому,
«или красивая
фраза, или
путаница
двух сфер:
познания и
знания» (3, 208).
Единственный
смысл такого
утверждения
был бы, по Андрею
Белому, в том,
что
искусство
есть знание,
т. е.
осознаваемая
наука. «Но
выводы из этого
вывода, так
утверждает
Белый,
убийственны
для всякого
живого
искусства:
живое искусство
должно стать
искусством
мертвым» (3, 209).
Из этих
положений
следовал не
только отказ
от взгляда на
искусство как
на
деятельность,
обладающую
познавательным
значением, но
вместе и
прямая
проповедь
эстетического
формализма. И
действительно,
по мысли
Андрея
Белого,
«кажущееся
проникновение
в содержание
художественного
образа, пока
мы стоим на
чисто
художественной
точке зрения,
есть только
процесс
углубления и
расширения
предела того,
что мы
считали формой»
(3, 222).
Формализм
этот
непосредственно
вытекает из
применения
кантианской
критики теории
отражения к
искусству. И
в искусстве
сказывается,
так
утверждают
символисты,
ограниченность
познания, его
неспособность
быть прямым
отражением
действительности.
Так же, как и
наука,
искусство
производит
не
отображение,
а
преображение
действительности.
«Перевод
действительности
на язык искусства,
пояснял
Андрей
Белый, точно
так же
сопровождается
некоторой
переработкой...
Искусство не
в состоянии
передать
полноту
действительности,
т. е.
представления
и смену их во
времени. Оно
разлагает
действительность,
изображая ее
то в формах
пространственных,
то в формах
временных... В
невозможности
справиться с
действительностью
во всей ее
полноте
лежит
основание
схематизации
действительности
(в частности,
например,
стилизации)» (3,
147).
Современному
читателю
может
показаться странным,
каким
образом символисты
не замечали
произвольности
своей
аргументации.
Из
правильной
мысли о том,
что образ
искусства,
как и понятие
науки, не
может быть
абсолютно
полной и
точной копией
действительности,
они сделали
совершенно
неправильный,
никакой
логикой не вынуждаемый
вывод, будто
образы
искусства
вообще не
могут быть
образами
действительности,
но лишь
формальными
построениями,
обусловленными
214
структурой
сознания и
его
априорных
функций. В
статье
«Принципы
формы в
эстетике» Андрей
Белый
пояснял, что
наряду с «эмпирической
эстетикой
существует
еще и «априорная»
эстетика.
Так,
известная
картина может
быть
изучаема не
только как
эмпирический
факт истории
живописи, но
и в своих априорных
основах,
определяемых
природой художественного
сознания. «В
этом
последнем
случае,
пояснял
Андрей Белый,
я задаюсь
вопросом
иного
порядка: я
спрашиваю,
что определяет
данную
художественную
форму, как
картину, я
обращаю
внимание на
необходимые
априорные
условия
живописи, т. е.
на
пространственные
элементы,
дающие
возможность
живописцу
изображать
действительность
на плоскости...».
Эстетика,
построенная
на таком ходе
рассуждений,
«изыскивает
законы,
необходимо
построяющие
данные нам
формы из необходимых
элементов
пространства
и времени» (3, 176177).
Эту,
формальную
по его
собственному
признанию,
эстетику
Андрей Белый
прямо противопоставляет
эстетике,
навязывающей
искусству
посторонние
будто бы ему
тенденции.
«Только в
последнем
случае,
заявлял
Андрей Белый,
эстетика
освобождается
от многообразных
посягательств
на нее и со стороны
беспринципных
остроумцев
эстетов, и со
стороны
течений,
навязывающих
искусству чуждые
ему
тенденции, и
со стороны
эмпирических
наук. Только
в последнем
случае,
продолжал
он, эстетика
становится
независимой, формальной
дисциплиной,
единственная
задача
которой
предохранить
творчество
от беспринципиальных
посягательств»
(разрядка моя.
В. А.) (3,177).
В
некоторых
работах
Андрея
Белого
формалистический
принцип
построения
эстетики выводился
из
натуралистических
физико-химических
аналогий.
Подобно тому как
в химии
процессы
превращения
веществ предполагают,
в качестве
основы, закон
сохранения
вещества и
энергии, так
и в искусстве
возможность
превращения
одних его форм
в другие
предполагает,
по Андрею
Белому, в
качестве
своего
условия
особый закон
сохранения
вещества.
Этот «закон»
Андрей Белый
характеризует
как чисто
формальный
принцип, как
«закон
сохранения
формальных
элементов образов
искусства» (3, 182).
Воззрения
эти
настолько
формалистичны,
что даже
тезис о
неотделимости
формы от содержания
Андрей Белый
пытался
истолковать
в духе
формализма:
«Неотделимость
формы от
содержания,
писал он,
есть
совершенно
формальный
принцип; закон
сохранения
формы
является как
упорядочение
и более
совершенное
раскрытие
формального
обоснования
символизма...» (3,
183).
Не менее
формалистичной
была и
предложенная
Андреем
Белым
классификация
искусств. В
основе этой
классификации
лежат не столько
конкретные
особенности,
присущие образам
каждой
частной
группы
искусств,
сколько
крайне
абстрактные
и притом
совершенно
формальные
различия
между
искусствами,
определяемые
относительной
ролью в
каждом
искусстве «пространственных»
и «временных»
форм. «Можно
норму
возрастания
и уменьшения
временно-пространственных
элементов,
рассуждал Андрей
Белый,
признать за
естественный
порядок, располагающий
существующие
формы искусства.
Такой
порядок
устанавливает
зависимость
между
данными нам
формами
искусства и
формальными
условиями
чувственности
пространством
и временем. Б
этом
выведении
места данной
формы из ее
пространственно-временных
отношений
эстетика
становится
впервые наукой
о формах» (3, 181).
Формализм
эстетики
символистов
восходит в
своем
происхождении
215
к
формализму
Канта, хотя
кантовская
эстетика не
единственный
корень и
источник теории
символизма.
Андрей Белый
открыто заявил
о
присоединении
теории
искусства
символистов
к учению
Канта.
«Всякая
эстетика, писал
он, есть еще и
трансцендентальная
эстетика в
кантовском
смысле, т. е.
она имеет отношение
к
пространству
и времени;
учение о расположении
общих
условий
возможности эстетической
формы есть
учение о
расположении
в
пространстве
и времени.
Далее: в усложнении
форм мы
определяем
так
называемое
содержание,
содержание, с
этой точки
зрения,
выводимо из
формы
(разрядка
моя. В. А.) (3, 202).
Андрей Белый
настолько
последовательно
проводил
этот взгляд,
что даже само
символическое
значение
искусства
пытался
вывести из
элемента
формы: «В
формальных законах
развития
искусства,
так пояснял
он точку
зрения своей
группы,
предугадываем
символический
смысл»
(разрядка
моя. В. А.) (3, 202).
Итак,
эстетика
символизма
действительно
пронизана
громадным
противоречием:
задуманная
как теория
творчества,
призванного
будто бы
преодолеть
обособленность
культурной
специализации,
приблизить
искусство к
«мудрости», к
«жизни» и даже
«преобразить»
самое жизнь,
эстетика
символизма в
действительности
свелась к
идеалистической
теории
«автономного»
творчества,
узаконяющей
обособление
искусства от
жизни,
выводящей
художественную
деятельность
из совершенно
априорных и
абстрактных
форм сознания.
Формализм,
борьба
против
партийности
искусства
не случайная
и побочная
тенденция
символизма,
но его
коренная и
существенная
черта. Не
преобразование
жизни
средствами
искусства, но
ограждение
от жизни
формами
искусствавот
в чем
символизм
видит
настоящее назначение
искусства.
Выступая
против
партийности
искусства, символисты
придали
этому своему
выступлению
смысл
восстания
против
рассудочности
и
рассудочной
тенденциозности.
В критике
этой
символисты
опирались на
алогические
тенденции
новейшей
буржуазной
философии
от
Шопенгауэра
до Ницше.
Уже
Валерий
Брюсов в
программной
статье «Ключи
тайн» пытался
доказать, что
искусство не
имеет ничего
общего с
познанием
действительности
и что метод
художественного
мышления
внерассудочная
интуиция.
«Нельзя в
угоду знанию
и науке,
писал Брюсов,
видеть в
искусстве
только
отражения
жизни... Нет
искусства,
которое повторяло
бы
действительность.
Во внешнем
мире не
существует
ничего
соответствующего
архитектуре
и музыке. Ни
кельнский собор,
ни симфония
Бетховена не
воспроизводят
окружающего
нас. В
скульптуре
дается только
форма без
окраски, в
живописи
только цвета
без формы,
тогда как в
жизни то и
другое неразделимо...
Скульптура и
живопись
повторяют
только
внешность
предметов: ни
мрамор, ни
бронза не в
силах
передать
строение кожи;
у статуй нет
сердца,
легких,
внутренностей;
в
нарисованном
горном кряже
нет скрытых минералов...
Да и что было
бы
достигнуто,
если б
искусству
удалось в
совершенстве
передразнить
природу? К
чему могло бы
пригодиться
удвоение
действительности?
«Преимущества
нарисованного
дерева перед
настоящим,
говорит Авг.
Шлегель,
только в том,
что на нем не
может быть
гусениц».
Никогда
ботаники не
станут
изучать
растение по
рисункам. Никогда
самая
искусная
марина не
заменит путешественнику
вида на
океан, уже по
одному тому,
что в лицо
ему не будет
веять
соленый запах
и не будет
слышно
ударов волн о
береговые
камни.
Предоставим
воспроизведение
действительности
фотографии,
фонографу, изобре-
216
тательности
техников.
«Искусство
относится к
действительности,
как вино к
винограду»,
сказал
Грильпарцер»
(5, 1904, I, 67).
Развивая
эти мысли,
Брюсов
доказывал,
что единственный
метод,
который
может
надеяться
решить
вопрос о
сложной и
противоречивой
природе
искусства,
«интуиция,
вдохновенное
угадывание,
метод,
которым, по слову
Брюсова, во
все века
пользовались
мыслители,
искавшие
разгадки
тайны бытия.
И я укажу на
одно решение
загадки
искусства, писал
Брюсов,
принадлежащее
именно
философу,
которое
кажется мне
дает
объяснение всем
этим
противоречиям.
Это ответ
Шопенгауэра
... вырывая его
угадывания
из тесных
оков его
мысли,
освобождая
его учение об
искусстве от
совсем
случайно
окутавших его
учений о
«идеях»,
посредниках
между миром нуменов
и феноменов,
мы получим
простую и ясную
истину:
искусство
есть
постижение мира
иными, не
рассудочными
путями.
Искусство
то, что в
других
областях мы
называем откровением»
(5, 1904, I, 19).
Искусство
согласно
этому взгляду
Брюсованачинается
в тот миг,
когда
художник
пытается
уяснить
самому себе свои
темные,
тайные
чувствования.
Где нет этой
тайности в
чувстве нет
искусства.
Для кого все
в мире
просто,
понятно, постижимо,
тот не может
быть
художником
(см. 5, 1904, 1,20).
Валерий
Брюсов так
последовательно
проводил
этот взгляд,
что в конце
пришел к
заключению,
будто
преимущество
символизма,
как течения
новейшего
искусства,
состоит
именно в том,
что
искусство эго
«сознательно
предается
своему
высшему и
единственному
назначению:
быть познанием
вне
рассудочных
форм, вне
мышления по причинности»
(5, 1904, 1, 21).
В том же,
против науки
и
рассудочности
направленном
смысле
толковал
искусство и
Андрей Белый.
Он находил,
что поэзия
«умственная,
в шопенгауэровском
смысле, но
отнюдь не
разумна (т. е.
по-нашему, не
рассудочна)» (3,
162). Такие формы
поэзии, как
роман, не
должны, по
Белому,
вводить в
заблуждение
и внушать
мысль, будто
цель
искусства
может
заключаться
в рассудочной
тенденции, в
нем
выраженной.
Ошибка, при
этом
возникающая,
имеет, по
объяснению
Андрея
Белого,
источником
смешение рассудочности
с самим
искусством.
Присутствие
рассудочности
в поэзии,
пояснял
Белый, следует
рассматривать
лишь «как
некоторого
рода
отзывчивость,
которая
существует
между
созерцанием
и
созерцающим»
(3, 162163). Отзывчивость
эта «особенно
сильна в
некоторых
формах
поэзии,
изображающих
общественную
и умственную
жизнь
отдельных
лиц или целых
народов, как
это мы видим
в романе» (3, 163). Но,
хотя эти
формы
получают
большое
развитие, их
частное
значение не
должно, по
Белому,
заслонять
главную цель
искусства.
«Отсюда,
поясняет
Белый, могла
произойти та колоссальная
ошибка, когда
тенденциозность
была
провозглашена
главной
целью искусства»
(3, 163).
Про
искусство
нельзя
сказать, с
точки зрения
Белого, что
оно выражает
мысли,
чувства или
волнения,
всего менее
можно
сказать, что искусство
есть
мышление в
образах. «Тут
совершили бы
мы грех,
поучает Белый,
и
относительно
искусства, и
относительно
Канта» (3, 206). Из
того, что
искусство
говорит человеку
«всей
нераздельной
цельностью
душевных
процессов, в
которых
открываем мы
и мысли, и
чувства, и
призыв к действию»,
было бы
«совершенно
несправедливо»,
по Белому,
заключить,
будто «в
выражении людей
и тенденций
смысл
искусства;
так подменяется
нераздельная
цельность
переживания
одной
стороной
переживания»
(3, 206).
Но с не
меньшей
выразительностью
говорит о внерассудочности
ис-
217
кусства,
о его
несоизмеримости
с мыслью, об алогической,
темной,
непостижимой
и невыразимой
обычными
логическими
средствами его
природе и
Вячеслав
Иванов.
В то
время как
Валерий
Брюсов и
ранний Андрей
Белый
примыкали в
обосновании
алогических,
антинаучных
и
антирассудочных
тенденций к
Шопенгауэру,
Вячеслав Иванов
опирался на
Ницше.
Значение
Ницше для эстетики
начала XX века
он видел в
том, что наряду
с логически
ясным,
светлым,
сознательным,
мерным и
гармоничным
«началом
Аполлона» в
искусстве
Ницше
признал в
качестве
второго,
столь же
неизбежного
и не менее
значительного
принципа
искусства
алогическое, темное,
восходящее к
глубинам
бессознательного,
дисгармоничное,
стихийно-оргиастическое
«начало
Диониса».
«Ницше
возвратил миру
Диониса,
писал
Вячеслав
Иванов, в
этом было его
по-сланничество
и его
пророческое
безумие» (10, 3).
В
темноте,
неизреченности,
несказанности
слова
Вячеслав
Иванов видел
необходимое условие
не только
произведений
символической
поэзии, но и
всякого
вообще
искусства.
«Символ
только тогда
истинный символ,
разъяснял
он, когда он
неисчерпаем
и
беспределен
в своем
значении,
когда он изрекает
на своем
сокровенном
(иератическом
и магическом)
языке намека
и внушения нечто
неизъяснимое,
неадекватное
внешнему слову.
Он многолик,
многосмыслен
и всегда темен
в последней
глубине» (10, 39). В
«Заветах
символизма»
Вячеслав
Иванов
корень
нового символизма
усматривал в
«болезненно
пережитом
современною
душой
противоречии»
в «потребности
и
невозможности
высказать
себя» (9, 121), а
также в
«новом
обретении
символической
энергии
слова, не
порабощенного
долгими веками
служения
внешнему
опыту», «в
представлении
о поэзии, как
об источнике
интуитивного
познания» (9, 132).
Иррациональная
алогическая
сущность искусства
сказывается,
по
утверждению
Вячеслава
Иванова, в способности
искусства
отрешаться
от усматриваемого
рассудком
тождества
вещей, а также
в его
способности
раскрывать,
при помощи
средств,
лежащих за
пределами
рассудка,
скрытую
жизнь вещей.
«Я не
символист,
разъяснял
Вячеслав
Иванов, если
мои слова не
вызывают в
слушателе
чувства
связи между
тем, что есть
его «я», и тем,
что зовет он
«не я»... если мои
слова не
убеждают его
непосредственно
в существовании
скрытой
жизни там,
где разум его
не
подозревал
жизни... Я не
символист,
продолжал он
далее, если
слова мои
равны себе,
если они не
эхо иных
звуков» (9, 153).
Именно в
этом
совершенно
алогическом
смысле
Вячеслав
Иванов
говорил об
«особенной интуиции
и энергии
слова», а само
«слово» определял
как «тайнопись
неизреченного»,
а также
утверждал,
будто слово
«вбирает в
свой звук
многие,
неведомо откуда
отозвавшиеся
эхо и как бы
отзвуки родных
подземных
ключей и
служит, таким
образом,
вместе
пределом и
выходом в
запредельное»
(9, 135).
Но
алогическое
понимание сущности
искусства,
принятое
символистами
в качестве
руководящего,
не мирилось с
фактами как
современного
символистам,
так и
прошлого
искусства. В
современности
символистам
противостоял
Максим
Горький. В прошлом
теории
символистов
противостояло
громадное классическое
наследство,
не
вмещавшееся
в формулы
интуитивной
и
алогической
эстетики. В
то же время
субъективная
аберрация внушала
символистам
мысль, будто
черты алогизма
и мистицизма,
присущие
русской символической
школе,
составляют
примету и определение
всякого
истинного
искусства
независимо от
эпохи и
людей, его
породивших.
218
Следствием
этих
противоречий
было то, что в
осознании
символистов
историческая
перспектива
развития
мирового и
русского искусства
оказалась
частью
просто
искаженной,
частью подверглась
односторонней
и
тенденциозной
переоценке.
Такой
переоценке
подвергся и
притом не случайно
Пушкин. В
статье «О
«Цыганах»
Пушкина» Вячеслав
Иванов
осторожно, но
неуклонно стремится
снизить
оценку
Пушкина.
Мотивом и
предметом
этой
переоценки
оказывается
самый тип
пушкинского
ума; для символистов
Пушкин был
слишком
«рационалист»:
он был
слишком
убежден в
могуществе и
всепроницаемости
разума,
слишком ясен,
прост и прозрачен.
По
определению
Вячеслава
Иванова,
Пушкин
«великий
словесник,
ибо убежден,
что все в
поэзии
разрешимо
словесно» (10, 161).
Живая
смелость
простодушной
живописи
Пушкина
проистекает
так уверяет
Вячеслав
Иванов «из
полного
отсутствия
сомнений в
адекватности
слова» (10, 161).
«Часто
кажется, что
поэт вовсе не
подозревает
оттенков и
осложнений.
Что значат
эти простые и
очень скупые
слова и очень
обычные,
почти неестественно
здоровые и
румяные
эпитеты? непременно
ли
преодоление
внутреннего
избытка?» (10, 161).
В
риторическом
вопросе
Вячеслава
Иванова
звучит
вкрадчивая,
неискренняя
нота
сомнения и
даже
осуждения.
«Подчас, признается
Иванов,
как-то жутко
становится от
пушкинской
ясности, от
пушкинской
быстроты. Мы
думали: ars longa, но у
него
искусство ars brevis»
(10, 161). На
характерное
для Пушкина
убеждение в
принципиальной
адекватности
слова
Вячеслав
Иванов пытался
набросить
тень, сближая
эту черту эстетики
Пушкина с...
формализмом.
Так, в прикосновении
Пушкина к
миру Байрона
наиболее важным
Вячеслав
Иваноч
считал
«расширение внешнепоэтического
диапазона,
обогащение
чисто-техническое»
(10, 162). Обобщая
это суждение,
Иванов
находил, что
для Пушкина
вообще
«истинным
приобретением...
всегда было
только формальное,
только канон
стиля, в
наиболее
широком
значении
этого слова» (10,
162). Более того.
Исконная
ясность и
прозрачность
поэтикл
Пушкина,
доверие
Пушкина к
точности и
истинности
поэтического
слова приводили
поэта так
уверяет
Вячеслав
Иванов к
тому, что,
усваивая
«чуждые сферы
духа», Пушкин
будто бы
неизменно
уменьшает
содержание
отражаемой
идеи, в
совершенстве
воссоздавая
«закон ее
воплощения,
ее
поэтическую
форму» (10, 162).
Даже
алогическая
эстетика
Ницше,
сконцентрированная
в символе
«Диониса»,
кажется Вячеславу
Иванову еще
слишком
рационалистической.
Для
Вячеслава
Иванова в
Ницше еще слишком
сильно
логическое и
познавательное
начало
«Аполлона»,
уводившее Ницше
прочь от
алогической
стихии
«Диониса». «Ученый-Ницше,
Ницше-филолог,
писал
Вячеслав
Иванов,
остается
искателем
«познаний» и не
перестает
углубляться
в творения
греческих
умозрителей
и
французских
моралистов.
Он должен был
бы пребыть с
Трагедией и
Музыкой. Но
из дикого рая
его бога
зовет его в чуждый,
недионисийский,
мир его
другая душа,
не душа
оргиаста и
всечеловека,
но душа, влюбленная
в
законченную
ясность
прекрасных
граней, в
гордое
совершенство
воплощения
заключенной
в себе
частной идеи»
(10, 13).
Пути
Ницше,
эстетика
которого, по
утверждению
Вячеслава
Иванова,
делалась все
более «эстетикой
вкуса, стиля,
меры,
утонченности
и
кристаллизации»
(10, 14), Вячеслав
Иванов противопоставлял
обратный
путь развития
искусства
декадентов
от ясности и
прозрачности
слова к
темноте и
неизреченности
музыки. Одним
из
крупнейших
достижений декадентства
Вячеслав
Иванов и
вместе с ним
ряд других
219
символистов
считали
явление,
которое они называли
освобождением
поэзии от
«литературы»
и
приобщением
ее к «музыке».
Это
«освобождение»
поэзии от
литературы
на деле было
освобождением
художников-декадентов
от идейности
искусства, от
больших общественных
задач и
вопросов, от
ясности мысли
и ее
выражения в
слове. И,
напротив, под
«музыкой», с
которой
символисты
сближали поэзию,
они разумели
отнюдь не
высокое идейное
и
содержательное
искусство
Баха, Бетховена,
Берлиоза,
Шуберта, но
скорее тот
элемент
алогизма и
неадекватности
переживания
словесному
означению,
который они
больше всего
ценили в
музыке
эпигонов и
который они
хотели бы
усилить в
поэзии.
Так, тот
же Вячеслав
Иванов
уверял, будто
в каждом
произведении
искусства,
хотя бы пластического,
есть скрытая
музыка. «И это
не потому
только,
пояснял он,
что ему
необходимо
присущи ритм
и внутреннее
движение; но
сама душа искусства
музыкальна.
Истинное
содержание
художественного
изображения
всегда шире
его
предмета... В
этом смысле
оно всегда символично;
но то, что
ода объемлет
своим
символом,
остается для
ума
необъятным и
несказанным
для
человеческого
слова. Чтобы
произведение
искусства
оказывало
полное эстетическое
действие,
должна
чувствоваться
эта
непостижимость
и
неизмеримость
его конечного
смысла.
Отсюда
устремление
к неизреченному,
составляющее
душу и жизнь
эстетического
наслаждения,
и эта воля,
этот порыв
музыка» (10, 200201).
Совершенно
очевидно, что
здесь
«музыка» лишь
метафора,
иносказательное
обозначение
тенденций
алогической
мистики,
охвативших
мировоззрение
и искусство
символистов.
Именно
этот
алогический
и Мистический
смысл имел
лозунг
символистов
об освобождении
поэзии от
«литературы».
Однако
мотивировка
этого
лозунга была
сложная и
уводила
мысль в
сторону от
его
действительного
содержания.
Мотивировка
эта состояла
в
утверждении,
будто только
освобождение
поэзии от
«литературы»
и
приближение
к «музыке» способно
сообщить
поэзии ее
специфичность
как особой
отрасли
искусства.
«Главнейшей...
заслугой
декадентства,
как
искусства
интимного, в
пределах
поэзии,
пояснял
Вячеслав
Иванов, было
то простое и
вместе чрезвычайно
сложное и
тонкое дело,
что новейшие поэты
разлучили
поэзию с
«литературой»
и приобщили
ее снова, как
равноправного
члена и
сестру, к
хороводу
искусств:
музыки, живоп'иси,
скульптуры,
пляски.... еще
недавно
стихи казались
только родом
литературы и
потому
подчинены
были общим
принципам
словесного и
логического
канона.
Декаденты поняли,
что у поэзии
свой язык и
свой закон,
что многое,
иррациональное
с точки
зрения общелитературной,
рационально
в поэзии, как специфическом
искусстве
слова, или
специфическом
смысле» (10, 241242).
Тот же
процесс
приближения
«поэзии» к
«музыке», т. е.
усиление
средств
алогической
выразительности,
усматривал в
ходе
развития нового
искусства и
Андрей Белый.
«Начиная с низших
форм
искусства и
кончая
музыкой,
писал он, мы. присутствуем
при
медленном, но
верном ослаблении
образов
действительности.
В зодчестве,
скульптуре и
живописи эти
образы играют
важную роль.
В музыке они
отсутствуют.
Приближаясь
к музыке,
художественное
произведение
становится и
глубже и
шире, всякая
форма
искусства
имеет
исходным
пунктом
действительность
и конечным
музыку, как
чистое движение»
(10, 165166).
И,
наоборот,
всякое
усиление в
«музыке» элементов
«слова»
символизм
оценивал как
измену
специфической
сущности
искусства.
Так,
220
Вячеслав
Иванов,
отмечавший в
творчестве
Бетховена
значительную
степень
приближения
к идеалу искусства
всенародного,
видел в то же
время в «Девятой
симфонии»
Бетховена
«измену самой
музыке, как
сфере
частной и
обособленной,
и принесение
ее
неизрекаемых
таинств в жертву
Слову, как
общевразумительному
символу вселенского
единомыслия»
(3,4849).
Формально
тезис
символизма о
выходе поэзии
из
«литературы»
и о
приобщении
ее к «музыке»
восходит к
знаменитому
поэтическому
манифесту
Верлена, к
его L'art poetique и в
особенности
к лозунгу «De la musique avant
toute chose» («О музыке
на первом
месте»). Однако,
при всей
очевидности
этой
формальной
связи между
поэтикой
Верлена и
эстетикой
символизма,
французский
символизм
менее всего
был идейным
источником
младшей формации
русского символизма.
Французский
символизм
казался уже
слишком
рассудочным,
рационалистическим,
а его образы
слишком
адекватными,
однозначными
и точными в
глазах таких
людей, как
Вячеслав
Иванов и
Андрей Белый.
Неудивительно
поэтому, что
Вячеслав
Иванов, выступая
от имени
целой группы
символистов,
говорил, что
литературные
приемы и
метод
мышления, излюбленный
французскими
символистами,
«с которыми
мы не имеем
ни
исторического,
ни идеологического
основания
соединять
свое дело, не
принадлежит
к кругу
символизма, нами
очерченному»
(9, 157). По
разъяснению
Иванова, главный
пункт
расхождения
между обеими
школами
французской
и русской
отношение к
логической
значимости
слова. В то
время как, например,
Малларме
«хочет
только, чтобы
наша мысль,
описав
широкие
«руги, опустилась
как раз в
намеченную
им точку», для
русской
школы
символизм
«есть,
напротив,
энергия,
высвобождающая
из граней
данного, придающая
душе
движение
развертывающейся
спирали» (9, 157).
Здесь мы
достигли
пункта, в
котором
можно уже
подвести
некоторые
итоги.
Эстетика
символизма,
задуманная,
как грань
мировоззрения,
освобождающего
культуру от
эстетизма,
формализма и
слишком
далеко
зашедшего
культурного
распада, на
деле привела
к насаждению
нового типа
формализма,
т. е. крайних
форм
отчужденности
искусства от
жизни,
прикрывавших
борьбу с теми
действительно
революционными
силами,
которые одни
только и
могли спасти
русскую
культуру от
буржуазного
распада и
безыдейности.
Не менее
противоречивой
оказалась и
философская
основа
искусства
символизма и
его эстетики.
Эстетика эта
оказалась
направленной
против самых
основ
научного
мировоззрения
и научных
методов
мышления.
Понятие
«специфичности»
искусства и
художественной
мысли свелось
на деле к
отрицанию
мощи и
ценности научного
познания и
всех его
логических
функций, а в
эстетике к
обоснованию
формализма.
Понятие
«интуиции»
превратилось
в орудие
дискредитации
интеллекта, в
средство
борьбы против
ясности,
общезначимости
и образа и
слова, в
повод для
пропаганды
реакционнейшей
мистики.
Понятие
«преобразования»
жизни искусством
оказалось
приемом
отстранения
от действительного
ее
преобразования.
Примат «творчества»
над
«познанием» в
своей
подлинной
сути
оказался
отрицанием
возможности познания,
подменой
действия
созерцанием, активности
квиетизмом.
Чем
интенсивнее
провозглашались
все эти
лозунги, тем
более
разительным
оказывалось
конечное
противоречие
между
идейным
обоснованием
и истинным
мотивом,
между
намерением и
результатом,
между программой
и подлинным
действием.
Особенно
поразительно
у
символистов
противоречие
между стремлением
разбить
оковы и грани
искусства, выйти
из сферы
искусства,
отказаться
от художественных
средств
221
общения
и крайне
формалистическим
пониманием
искусства,
отделением
искусства как
«специфической»
формы
творчества
от всех прочих
форм
мышления и познания,
сведением
науки об
искусстве к науке
об одних лишь
формах.
Противоречие
это достигло
наивысшего
напряжения в
деятельности
Андрея
Белого. Никто
из символистов
не превзошел
Белого в
искусстве
отрицания
искусства,
никто не
заявлял с
большим пылом
о намерении
отречься от
искусства
как формы
культурного
обособления
и
дифференциации.
Но вместе с
тем никто из
символистов
не сделал так
много, как
Андрей Белый,
для насаждения
формализма в
искусстве, в
поэтике, в
эстетике.
Разрушитель
«инкрустации
формы», Андрей
Белый
положил
основу
взгляду на
поэзию как на
совокупность
форм,
изучение которых
должно быть
освобождено
от всякой связи
с анализом
содержания.
«Если
эстетика возможна,
как точная
наука, писал
Андрей Белый,
то материал
исследования
ее свой собственный:
таким
материалом
может
служить форма
искусства,
например в
лирике этой
формой
являются
слова,
расположенные
в своеобразных
фонетических,
метрических
и ритмических
сочетаниях и
образующих
то или иное
соединение
средств
изобразительности.
Если мы освободили
разбираемое
стихотворение
от всего
идейного
содержания,
как не
входящих в
образ
формальных, а
потому и
точных наблюдений,
перед нами
останется
только форма,
т. е. средства
изобразительности,
в которых дается
образ, слова,
их
соединение и
их расположение.
Задача, таким
образом,
суживается и становится
более
отчетливой» (3, 235
и 239).
Философскую
основу для
формалистического
взгляда на
искусство
символизм
нашел в различных
эпигонских
школах
идеализма, распространившихся
на рубеже XIX и XX
веков в кругах
буржуазной
интеллигенции
Запада.
Было бы
ошибкой
думать, будто
символизм опирается
на какую-либо
одну
философскую
школу,
например
неокантианскую.
Философские
источники
символизма
довольно
сложны; нельзя
забывать,
кроме того,
что
философская
мысль символистов
далека от
четкости и
последовательности.
Ни одного
философа в
строгом смысле
понятия
символисты
не выдвинули;
увлечение
модной
западной
философией,
характерное
для
символистов,
не
возвышалось
над дилетантизмом.
Эта
пестрота и
спутанность
философских
источников
символизма
отразилась в
философских
статьях
журнала
«Весы»,
главного органа
теории и
критики
символистов.
Со страниц
этого
журнала
проповедовались
самые
различные
учения
идеализма: и
берклеанство,
и
кантианство,
и Шопенгауэр,
и Ницше, и соловьевство,
и
субъективный
идеализм
Фихте.
В
рецензии на
русский
перевод
берклеевского
«Трактата о
началах
человеческого
знания»,
помещенной в
двенадцатой
книжке «Весов»
за 1905 год, А.
Бачинский
проповедовал
берклеанство,
противопоставляя
откровенность
и последовательность
идеализма
Беркли
отступлениям
Канта от идеализма
к признанию
«вещей в себе».
«Ни один
автор, писал
А. Бачинский,
с такой
ясностью и
прямотой, как
Беркли, не
подступал к
решению
основного
философского
вопроса о соотношении
между бытием
и мышлением.
Ни один автор
не давал
столь ясного,
столь
сжатого,
столь
категорического
и неопровержимого
ответа на
этот
кардинальный
вопрос... Те,
которые (как
Кант)
отступали от
этой
несомненной
оси всякого
умозрения,
впадали в
неизбежные
ошибки. И нет
сомнения, что
со временем
мы услышим
призыв: «назад
к Беркли» как
к исходной
точке» (5, 1905, XII, 83).
Субъективный
идеализм, как
учение,
выводящее
все
содержание
222
познаваемой
действительности
из ощущений,
из сознания
субъекта, шел
навстречу не
только характерному
для
символистов
индивидуализму
их
психологии и
морали, но в
плане искусства
и эстетики
отвечал
чрезвычайно
сильной в
русском
поэтическом
символизме
струе
импрессионизма.
Для таких
поэтов, как
Бальмонт и
Валерий
Брюсов,
субъективный
идеализм представлялся
наиболее
простым и
близким им
типом
философии.
Если первому
импонировала
импрессионистическая
эстетика, следовавшая
из учений
субъективного
идеализма, то
второму в еще
большей
степени
индивидуалистическая
мораль,
эгоцентризм
и волюнтаризм,
которые
могли быть
выведены из
философского
учения,
провозглашавшего
субъект началом
и творцом
всей
действительности.
Не
случайным
поэтому было
появление на
страницах
«Весов»
переводных
статей Рене
Гиля (Rene Ghil),
подчеркивавшего
происхождение
мировоззрения
Стефана
Малларме,
виднейшего
французского
символиста,
от философии
немецкого идеализма,
в
особенности
от философии
субъективного
идеалиста
Фихте.
«Малларме,
писал Рене
Гиль,
исходил из
философии
Фихте. Есть
все
основания
думать, что
философская
система
Малларме,
если бы
уддлось ему
ее воздвигнуть,
представляла
бы собой
крайний субъективный,
даже
мистический
идеализм. Нам
известно
одно
положение
Малларме...
которое гласит:
«Если бы я не
существовал,
ничто не существовало
бы» (5, 1908, XII, 74).
В другом
месте Рене
Гиль отмечал
как
характерную
для Малларме
мысль о том,
«что
разнообразные
элементы
мира были,
должно быть,
интенсивными
представителями
наших чувств
и идей
(которые их и
творят,
согласно с
его мировоззрением,
истекавшим
из доктрины
Фихте). Вселенная,
расчлененная,
но
гармоническая,
это та тема,
через
которую
человеческое
Я, от
аналогии к
аналогии,
возвышается
до представления
самого
чистого,
самого
совершенного
существа» (5,1908, IV, 68).
В то
время как
субъективный
идеализм
Беркли и
Фихте рассматривался
символистами
как философская
основа для их
индивидуализма,
учения Канта
и
современных
кантианцев
были использованы
для
обоснования
критики
науки и научного
познания, для
обоснования
учения о
многообразии
методов,
открывавшего
двери
фидеизму и мистике,
а также в
особенности
для обоснования
формалистического
понимания
искусства.
Кантианство
Андрея
Белого было
прежде всего
защитой
мистики
против науки,
против
материализма
и
материалистической
теории
отражения в
гносеологии.
Но в еще большей
степени оно
служило для
обоснования
формализма в
эстетике и в
теории
поэзии.
Так как
различные
ветви
идеализма
служили
символистам
для
разработки
различных сторон
их
мировоззрения,
то часто одни
и те же
авторы
выступали
одновременно
на защиту
различных
идеалистических
учений, не
считаясь с
этими
различиями и
имея в виду
всегда
защиту
идеализма против
материализма
в целом.
Поэтому
символисты
поступали
по-своему
вполне
последовательно,
когда
помещали в
своем
журнале, например,
наряду со
статьей А.
Бачинского,
посвященной
пропаганде
Беркли
против Канта,
рецензию
того же
Бачинского, в
которой
последний,
забывая об
этом своем
противопоставлении,
поднимал
голос на
защиту
кантовского
учения об
априорности
пространства
и времени
против
критики
одного
физика (5, 1908, V, 61).
Неудивительно
поэтому и
частое у
символистов
переплетение
тенденций
кантианства
с идеями
Шопенгауэра,
Ницше.
Основой для этого
объединения
были общие
для всех
этих, вообще
различных
философских
учений тенденции
реакционного
алогизма,
противопоставление
интуиции и
инстинкта
интеллектуальному
познанию,
искусства
науке, ре-
223
акционный
антидемократизм
символистов, боязнь
социализма и
неприязнь к
нему, иногда
прорывавшаяся
в резких
формах.
Отрицательное
отношение к
революционному
марксизму
объединяет
все эти
оттенки и
вариации
исповедовавшегося
символистами
философского
идеализма. Вряд
ли кто из
символистов
хоть
сколько-нибудь
серьезно
изучал
революционное
движение
рабочего
класса и его
идеологию
марксизм.
Однако
«присматриваться»
к марксизму и
рабочему
движению, как
к явно
огромному
факту общественной
жизни,
символисты
считали для
себя
обязанностью.
Они вступали
в споры с марксизмом
не только по
такому
близкому для
них, как
писателей,
вопросу,
каким был
вопрос о
свободе
печати, но и
по другим
вопросам общественно-политической
жизни.
Особенно
яростно
нападали
символисты
на марксизм в
спорах о
религии. Они
отрицали
марксизм не
только как
социально-политическое
учение, но и
как
материалистическую
философию,
отвергающую
всякую
мистику и
всякую религию.
Если в 1908
году Андрей
Белый
защищался от
марксистской
критики
религии
ссылками на
теорию познания
и, в
частности, на
теорию
ценностей
кантианца
Риккерта, то
позднее, уже
во время
Октябрьской
революции, он
нападал на марксизм
с позиции
мистической
«антропософии»
Рудольфа
Штейнера.
Менялась
мотивировка,
но острота
борьбы
против
марксизма
как материалистической,
антирелигиозной
философии и
материалистической
социально-политической
теории не
только не
притупилась,
но
становилась
еще более
резкой и непримиримой.
Кульминационной
точки эти
выпады
Белого против
марксизма
достигли в
«Воспоминаниях
о Блоке»,
опубликованных
Белым в 1922 году
в ежемесячнике
«Эпопея» в
Берлине,
вскоре после отъезда
Белого из
России. Сводя
в «Воспоминаниях»
этих счеты с
Мережковским
и Зинаидой
Гиппиус,
Андрей Белый
нападал на
Мережковского
за то, что до
Октябрьской
революции и
во время ее
Мережковский
будто бы недостаточно
энергично
боролся с
марксизмом.
Нигде
глубочайшая
реакционность
и совершенная
политическая
слепота
Андрея Белого
не достигают
таких
размеров, как
в этих
выпадах против
его бывших
литературных
и идейных друзей
и соратников.
Мережковскому
Белый ставит
в вину то, что,
будучи
врагом
марксизма,
Мережковский
оказывался
белоручкой,
т. е. не был
достаточно
энергичным в
борьбе против
марксизма, не
вел борьбы
против
марксизма
среди
рабочих,
крестьян,
матросов и
красноармейцев!
Ход
революции с
поразительной
точностью
обнажал
подлинную
классовую природу
и подлинный
политический
темперамент
людей,
которые, при
иных
условиях,
пожалуй, так
и умерли бы,
прослыв
только лишь
писателями,
составителями
«Записок
Мечтателей»,
населенцами
«башен из
слоновой
кости».
Социалистическая
революция
заставила наисозерцательнейших
«мечтателей»
затрепетать
темным
чувством
буржуазной
классовой
ненависти.
«Мечтатель»
Белый
требовал в 1922
году к ответу
Мережковского
за то, что
этот
реакционер,
ненавидевший
революционный
народ и
Октябрьскую
революцию,
сбежал с поля
битвы за
границу,
оставив
своих друзей
без помощи в
той контрреволюционной
борьбе
против
марксизма,
которую они,
в отличие от
«белоручек»,
вели среди
«народных»
масс.
Полемика
Белого с
Мережковским
чрезвычайно
ценна, так
как со всей
ясностью
раскрывает
не только
глубоко
реакционную
и контрреволюционную
сущность
символизма,
но вместе с
тем
доказывает
полную
ошибочность
представления
о якобы совершенной
нейтральности
символизма в
вопросах
классовой
борьбы и
политики.
Андрей Белый
224
совершенно
прав: он и его
сторонники
отнюдь не
«антиобщественники»,
в смысле
неучастия в
политической
жизни и в
политической
борьбе. Не
«антиобщественность»
в безусловном
смысле
понятия, но
«общественная»,
конечно,
классовая, в
данном
случае
буржуазная
активность
политической
борьбы против
социалистической
революции
всеми средствами
идеологической
пропаганды,
проповедь
религии,
мистицизма,
подмена
революционного
преобразования
общества
призрачным и
мнимым
«внутренним»,
«духовным»
обновлением,
слащавотеософская,
оккультная
фантастикавот
истинная
социально-политическая
сущность и
идейная
форма
символизма,
последняя
основа всех
его идейных
противоречий,
теоретической
путаницы и
философской
реакционности.
III.
КРУШЕНИЕ
ФИЛОСОФСКИХ
И
ЭСТЕТИЧЕСКИХ
ИДЕИ
СИМВОЛИЗМА
Ни одно
крупное
течение
русской
литературы
первых двух
десятилетий
нынешнего
века не могло
каким бы оно
ни казалось
отрешенным
от
общественной
жизни остаться
незатронутым
крупнейшими
общественными
событиями и
явлениями
этой эпохи. Боевое
публицистическое
движение
русского
символизма
оказалось
глубоко
вовлеченным
в
общественную
жизнь, в ее
противоречия,
в происходившую
в ней борьбу
классов. В
ходе этой
борьбы
эволюция
символистов
привела не
только к
раскрытию
идейных
противоречий
символизма,
но и к
кризису всей
этой
литературной
школы,
отражавшему
ее колебания,
противоречия
и тупики.
Кризис
этот наложил
глубокий отпечаток
на
эстетические
идеи
символизма, выявил
неустранимые
противоречия,
внес раскол в
ряды
символистов,
разрушил
иллюзии идейного
единства и
спаянности
школы.
Первым
симптомом
кризиса
стало
обнаружившееся
крушение
надежд на
разрешение
противоречий
русской
жизни и
культуры
средствами
одного лишь искусства.
Признаки
сознания
этого крушения
мы отметили в
книгах
Андрея
Белого, написанных
в годы
империалистической
войны и в
первые годы
Октябрьской
революции.
Однако у
Белого, при
всей
полемической
остроте этих книг
и статей
(эпопея «Я»,
«Кризис
жизни», «Кризис
культуры» и т.
д.), не только
не
получилось
преодоления
эстетизма и
формализма
но вопреки
стремлениям
автора
субъективизм,
эстетизм и
формализм
еще более
обнажились и
заострились.
Социальные
конфликты и
противоречия
Андрей Белый
осознавал в
совершенно
мистифицированной
и крайне
субъективной
форме.
Положение
художника,
писателя в
русском
обществе
эпохи 1905 1917
годов Белый
рассматривал
не в его
реальной
сути, определяемой
историей
этого
общества,
ходом классовой
борьбы и ее
преломлением
в сознании,
но с точки
зрения
неоплатоновских
и гностических
иллюзий и
доктрин о
«человеке», исповедовавшихся
и
проповедовавшихся
«теософами», а
впоследствии
«антропософами»,
сектой
оккультистов,
возглавлявшейся
доктором Рудольфом
Штейнером. В
воспитательной
практике
этой секты
реальные
социально-исторические
проблемы
подменялись
фантастическими
моральными
абстракциями,
условной
системой
действий,
поступков и
заданий, долженствовавших
якобы
вывести
личность из
узкого круга
эгоистического
уединенного
существования
и приобщить к
духовному
опыту,
приобретенному
и
сохраненному
через
посвятительные
традиции и
через
иерархию
братства с
незапамятных
времен
«учителями».
225
На деле,
конечно,
никакого
преодоления
субъективности
от этих
утонченных
моральных и
религиозных
экзерсиций
не
получалось.
Напротив, антропософия
пресекла
намечавшуюся
в лучших
романах и
повестях
Андрея
Белого
возможность
движения от
символизма к
реализму, сводила
Белого на
путь
чрезвычайно
субъективного
и уединенного
копания в
мире личного
сознания и
личных
мистических
переживаний.
В «Записках
Мечтателей»
Андрей Белый
прямо заявил,
что
ученичество
в школе
Штейнера
вернуло его
на путь тех
мыслей и
стремлений,
которыми он
был захвачен
в дни юности,
когда он ощущал
свое «я» как
совпадающее
со всем миром
и заключающее
его в себе.
Возвращаясь
к этим,
испытанным
уже в юности
мыслям,
Андрей Белый
наивно
воображал, будто
он
освобождается
из
субъективной
концепции «я»
или
«сознания»,
возвышается
до концепции,
в которой «я»
мыслится уже
не как
субъект, не
как личность
только, а как
некоторое,
бесконечно
более
обширное «Я»,
вмещающее в
себя мир и
личность. «То,
что мне
открывалось
доселе, как «я»,
писал Белый в
«Дневнике
писателя»,
есть «субъект»,
а не «я»; это «я» групповая
душа, не
развившаяся
до самосознания;
быт,
национальность,
привычка,
определяя то
«я» автомат; то
не «я», а
материя мира
во мне.
Наоборот, мир
не мир; то, что
мне открывалось
доселе, как
мир, есть
объект
познавания;
свойства
этого
«объективного»
мира
субъективны;
мир есть лишь
сознание; мир
во мне; я есть
мир; мир не
мир, «я» не «я»; это
фикция
цельности:
это «субъект»
и «объект»; но
«субъект» и
«объект» суть
два глаза. «Я»
собственно;
что это так,
открывает
мне факт описания
страны «Я», до
которой
Любой из нас
может подняться
и до которой
конкретно
подняться
нет времени;
тот из нас
занят «темой
романа», а тот «фельетоном».
Но оттого-то
«романы» и
«фельетоны»,
почерпнутые
из давно
миновавшего
быта, сугь
фикции: тени
сознания: не
отражают они
ничего» (7, 1, 129130).
В
конечном
итоге то «Я»,
которое
оказывается
мостом между
отдельным
существованием
субъекта и
миром или
соединителем,
благодаря
которому
«бытие моих
внутренних
актов соединилось
с событием
чего-то,
лежащего вне
меня», «не есть
«я» в
обыденном
значении
слова («я» вписано
в нем, как и
«мир»)» (7, 1, 131).
Но
совершенно
очевидно, что
во всех этих,
гностицизмом
вызванных и
питаемых
рассуждениях,
Белый не мог
вырваться из
круга того самого
субъективного
идеализма,
преодолению
которого
будто бы
служит вся
его концепция.
Он не мог
вырваться из
него так же,
как Фихте не
мог убедить
своих
читателей в
том, что он не
субъективный
идеалист, что
его «Я» не
маленькое,
эмпирическое
«я» субъекта,
но большое,
вселенское и
всемирное «Я»,
вмещающее в
себя, как
океан каплю,
и субъекта и
весь большой
мир «не-я»
вокруг него.
В
«Материализме
и
эмпириокритицизме»
Ленин
показал всю
иллюзорность
надежд Фихте
на
преодоление
субъективного
идеализма. Ленин
показал, что
никакие
уверения
Фихте в действительном
бытии
большого
мира вокруг
человека не
лишают его
философию
характера
субъективного
идеализма до
тех пор, пока
остается в
силе
основной
тезис Фихте
о первенстве
«Я» и
следующий из
него как
вывод-тезис о
неустранимой
соотносительности
«не-я» и «я».
Неудивительно
поэтому, что
в
программном «Дневнике
писателя»
Андрей Белый
в конечном
счете
приходил к
тому выводу,
что для современного
писателя
единственной
подлинной и
значительной
темой
остается
описание
состояний
сознания.
«Есть одна
только тема,
писал Белый,
описывать
панорамы
сознания...
Остается
сосредоточиться
в «Я», мне заданном
математической
точкой» (7, 1, 128).
226
Трагизм
противоречий
искусства,
восходящих к
противоречиям
русской
общественной
жизни,
ощущается и
Вячеславом
Ивановым. Но
в еще меньшей
степени, чем
у Андрея
Белого,
сознание
этих
противоречий
могло привести
Иванова к
действительному
их разрешению.
Вячеслав
Иванов
отдавал себе
ясный отчет в
том, что
современное
ему
искусство вступило
в полосу
настоящего и
притом глубокого
кризиса.
«Кризис
искусства,
так писал он
в статье о
гуманизме,
это
действительный
кризис, т. е.
такая
решительная
минута, после
которой
данное
искусство,
быть может,
вовсе перестанет
существовать,
тут
поистине возможен
смертельный
исход
болезни, или
же
выздоровеет
и как бы
возродится к
иному бытию» (7, 1,
107).
Красноречиво,
искусно,
витиевато
изображал
Вячеслав
Иванов в
своих
эстетических
и критических
статьях рост
художественного
субъективизма,
утрату
художниками
чувства
социальной
связи,
усиление
обособленности
и
исключительности.
«Социально мы
переживаем,
писал он в 1916
году в статье
«Эстетическая
норма
театра»,
эпоху буржуазного
индивидуализма,
культурное
наследие
минувшего
века.
Социальный
лозунг «chaqun pour soi»
сделался и
духовным
нашим
лозунгом» (2, 277).
Однако,
правильно
назвав
явление,
Вячеслав
Иванов
интересуется
лишь той его
стороной,
которая
всего менее
способна
раскрыть его
действительные
социальные
корни и причины.
Изолированность,
распыленность,
отъединенность
буржуазного
индивидуалистического
быта
воспринимаются
им не как
антагонизм
между
буржуазной
интеллигенцией
и народом, на
теле
которого она паразитирует,
но как отрыв
индивидуального
сознания от...
религии и
религиозной
«соборности»,
т. е. от церкви,
от церковной
общины. «Религия,
жаловался
Иванов,
стала
частным делом
и личною
заботой».
Поставив
в центре
внимания
вопрос об
атеизме и о
религиозном
безразличии
интеллигенции,
как вопрос,
будто бы
концентрирующий
все
противоречия
современной
культуры, Иванов,
естественно,
и в решении
вопроса не
мог выйти из
круга мистификации,
двусмысленностей
и идеологических
иллюзий
весьма
реакционного
свойства.
Такой
насквозь
двусмысленной
мистификацией
была
развитая им
на основе
истории
античного
искусства
идея
большого
синтетического
«соборного»
искусства.
Формально
Иванов
исходил из
мысли, что
сценическое
искусство
«утверждает»
свою коренную
природу «не в
моменте
героического
почина, но в
моменте
соборного
согласия, не
в начале
личном, но в
начале
общественном»
(2, 264265). По сути же
«общественное
начало» и
«соборное
согласие», о
которых
здесь
говорилось,
были лишь
эстетическими,
насквозь
эстетическими
суррогатами,
назначение
которых
состояло в
том, чтобы
уберечь
театр и
вместе с ним
все искусство
от
действительного
проникновения
жизни и
общественности
на сцену,
чтобы
сглаживать,
примирять
обострившиеся
до ужаса противоречия.
Двусмысленность
этой
эстетики
«соборного»
искусства
состояла не
только в том,
что она
подменяла
понятие
общественности
его эстетическим
призраком.
Эстетика эта,
кроме того,
была
двусмысленной
еще и в том отношении,
что
призывала
одновременно
и к отказу от
искусства и к
самому
крайнему
эстетизму, к
решительному
утверждению
искусства в
самой
крайней его
отчужденности
от жизни.
С одной
стороны,
теория эта
провозглашала
внеположность
театра по
отношению к
искусству.
«Театр, писал
Вячеслав
Иванов, внепо-ложен
эстетике... то,
что в
истинном
смысле соборно,
в то же время
и
227
внеположно
искусству,
как
таковому...
соборное
начало... не
остается... в
границах и
величаво
расширившегося
искусства, а
приумножает
его действие
иным, уже не
эстетическим,
а
саможизненным
действием,
порождая в
душах
событие,
внутренне их
определяющее,
быть может,
навсегда».
С этой
точки зрения
уже
разделение
театра на
актеров и
зрителей
представлялось
неправомерным
и подлежащим
искоренению.
Единственный
исход
Вячеслав Иванов
видел в том,
«чтобы
зритель
перестал быть
только
воспринимающим
зрителем и
действовал
сам в плане
идеального
действия сцены»
(9, 285). Поэтому же
проблема
театра
представлялась
ему как
такая,
радикальное
решение которой
невозможно
«посредством
искусства только
и в пределах
только
искусства» (9,286).
С другой
стороны,
«соборность»
эта, которая должна
была, по
мысли
Вячеслава
Иванова, вывести
театр за
пределы
только
искусства и
только
эстетики,
сама была
лишь
эстетической
инсценировкой
«общественности».
Нельзя же
всерьез
брать мечты
Вячеслава
Иванова о
том, как
Россия
покроется
площадками орхестрами
для
сценических
хоров и как
преодолевшие
грань, их
дотоле
разделявшую,
зрители, они
же и актеры,
станут силой
своего «синтетического»,
уничтожающего
раздельность
искусств
действия
устранять
роковые и трагические
противоречия
жизни.
Более
того.
Устранение
трагических
конфликтов, о
которых
мечтал
Вячеслав
Иванов, было
даже в его мечтах
не
подлинным их
устранением,
но лишь
примирением
с ними,
которое
должно было
совершиться
в одном лишь
сознании, не
затронув
ничего в
действительной
жизни.
Под
трагическим
очищением,
этим венцом
«соборного»
театрального
действа,
Вячеслав Иванов
разумел лишь
«успокоительное,
как он сам
выражался,
облегчительное
ощущение
благодатного
совершившегося
сокровенного
чуда, похожее
на
выздоровление
и приток
живительных
сил или на
радостный
отдых у
достигнутой
вершины,
откуда
по-новому, в
негаданной простоте,
прозрачности
и
содержательности,
развернулись
все
преодоления
горного пути
и всеобъемлющею,
всеос-мысливающею
голубою далью
опоясался
лабиринтный
кряж с его превзойденными
ужасами...» (9, 274). В
очищении
этом Иванов
видел
«укрепительное
и
целостно-бытийственное
чувство,
воссоединяющее,
нас с корнями
бытия и
расширяющее
нашу самость до
пределов
всечеловеческого
и вселенского
сочувствия,
целительно
восстанавливающее
наше я и в
гармонии со
всем и во имя
всего».
Не может
быть
никакого
сомнения в
том, что эстетика
«соборного»
искусства, а
также философско-мистическое
инструктирование
замыслов,
подобных
замыслу
«Мистерии»,
начатой
Скрябиным,
рождались у
Вячеслава
Иванова из
стремления
«заворожить»
искусством и
эстетикой,
отвести
неудержимо
надвигавшуюся
полосу
исключительных
по важности
исторических
и
общественных
событий.
Не
удивительно
поэтому, что,
когда
началась
настоящаяОктябрьская
революция,
перешагнувшая
по-настоящему
с площадей в
зрительные
залы, а
оттуда на
сцены
театров, Вячеслав
Иванов не
только не
усмотрел в
этом событии
подтверждения
своей тезы о
первенстве
жизни над
искусством,
но поспешил
противопоставить
революционному
вторжению
жизни на
сцену противоречащую
его
предыдущим
теориям
мысль о невозможности
и ненужности
выхода искусства
за собственные
грани. Так, в
статье
«Кручи»,
опубликованной
в 1919 году,
Вячеслав
Иванов
отмечал уже
«крайние до
хаотичности,
болезненные
до самоубийственности
уклоны:
таково в
поэзии
желание
вовсе
освободиться
от
228
слова с
его
преданием и
законом» (7, 107108).
Вместе с тем
он отмечал,
что, несмотря
на далеко
ушедшее
стремление
каждого
отдельного
искусства и
его
отважнейших
представителей
выйти за
грани
собственных
эстетических
средств, все
же «музыкант
хочет остаться
музыкантом,
живописец
живописцем,
поэт поэтом;
другими
словами, все
держат
присягу
верности
своей родной
стихии:
музыкант стихии
тона,
живописец
цвета,
поэтслова».
Определяя
в той же
статье
гуманизм как
культурное
течение,
всецело
основанное
«на изживании
индивидуации,
отдельности
и обособленности
людей, их
взаимной
зарубежности,
потусторонности
и
непроницаемости»
(7, 1, 113), Вячеслав
Иванов в то
же время
утверждал,
будто
«героический
гуманизм
умер» и будто
движение,
приведшее к
Октябрьской
революции, несмотря
на элементы
«старинного
революционного
предания,
идущие от XVIII
века, и красного
культуртрегерства»,
поднялось «не
на гуманистической
закваске» (7, 1, 112113).
Несравненно
острее,
глубже,
искреннее и
проницательнее
ощущал
кризис
буржуазной культуры
и, в
частности,
кризис
символизма одареннейший
поэт этого
течения
Александр
Блок.
В
отличие от
Андрея
Белого и
Вячеслава
Иванова, Блок
всего менее
был
теоретиком
школы. Очень
редко и
всегда как бы
неохотно, лишь
понуждаемый
крайней
необходимостью
он решался
заговорить
от имени
всего течения
в целом.
Таким почти
вынужденным
выступлением
был
известный
его доклад «О
современном
состоянии
русского
символизма»,
прочитанный
в 1910 году в
ответ на
доклад
Вячеслава Иванова.
Характерно,
что доклад
Блока начинался
оправданием
поэта, как бы
извинением
за принятое
решение
выступить от
имени школы:
«Я должен
сказать,
писал Блок в
мервых же
строках
доклада, что
уклоняюсь от
своих прямых
обязанностей
художника» (4, 76).
Само вступление
Блока в
религиозно-философское
общество
было
мотивировано
им в записной
книжке № 23 от 1908
года не
надеждой
получить от
его членов
ответ по
интересовавшим
его вопросам
философии и
религии, но
исключительно
потребностью
иметь
аудиторию, общаясь
с которой
Блок мог бы
передать
другим
нараставшее
в нем
убеждение в
неотвратимости
катастрофы и
возмездия,
надвигавшегося,
как он
чувствовал,
на русское
буржуазное
общество. «У
церкви
спрашивать
мне, писал
Блок,
решительно
нечего. Я
чувствую кругом
такую духоту,
такой ужас во
всем происходящем
и такую
невозможность
узнать что-нибудь
об
интеллигенции,
что мне
необходимо
иметь дело с
новой
аудиторией,
вопрошать ее
какими бы то
ли было
путями. Хотя
бы прочтением
доклада и
выслушиванием
возражений
свежих людей»
(8,92).
Раньше,
чем кто бы то
ни было из
символистов,
Блок ощутил
ставший
фактом, но
отрицавшийся
теоретиками
символизма
распад школы,
ее крушение,
более того,
отсутствие в
ней
подлинного
единства,
которым
могло бы быть
оправдано ее
общее наименование.
Уже в октябре
1909 года Блок
был склонен
видеть в
символизме
не столько школу
искусства,
характеризующуюся
общностью
направления,
сколько одну
из многочисленных,
отнюдь не на
принципиальной
основе
объединившихся
каст
интеллигенции.
Поэтому
Блоку
казались
смешными,
несерьезными
поднимавшиеся
в то время
толки о
«дифференциации»
литературного
символизма.
Согласно
мысли Блока,
серьезной
дифференциации
никогда не
было, «потому
что никто в
сущности ни с
кем не
соединялся и
не
разъединялся,
и настоящей
школы не было
никогда» (4, IX, 44).
«Словами
«декадентство»,
«символизм» и
т. д., пояснял
Блок, было
принято...
соединять
людей, крайне
различных
между собой.
Право, в том,
что люди эти
приняли
некогда
групповое
229
название,
сделали даже
вид, что
объединились,
и держались
несколько
лет вместе,
не было
ничего очень
глубокого,
как и в том,
что для
русского
«декадентства»
своим братом
был только
декадент же.
С ним он даже
бранился
только
дружески,
никогда не
позволяя
другому
обидеть его,
подготовляя,
таким
образом,
говоря
языком более
реальным касту»
(4, IX, 43).
Современный
исследователь,
которому
доступны
кроме стихов
и статей
дневники,
записные
книжки и
письма Блока,
может без
труда
установить
парадоксальный
на первый
взгляд факт:
крупнейший
поэт
символизма и
один из
видных
литературных
критиков
этого
направления
уже с 1908 года полон
сомнения
именно в
теоретических
философских
и
эстетических
учениях
школы: «Не могу
принять,
писал Блок
осенью 1908 года,
ни двух бездн
бога и
дьявола, двух
путей добра
«две нити
вместе свиты»
(мистика,
схоластика, диалектика,
метафизика,
богословие,
филология),
ни теории
познания (Белый),
ни иронии
(интеллигентский
мистический
анархизм), ни
«всех
гаваней»
(декадентство)»
(8,89).
Участник
собраний
религиозно-философского
общества, он
испытывал
величайшее,
граничившее
с чувством
оскорбления
отвращение к
происходившим
там докладам
и прениям. Он
находил, что
слушать
прения в религиозных
собраниях
столь же
тягостно,
как, например,
читать
«Вопросы
религии»,
вторую книгу
«Факелов»,
сочинения
Волынского
или статью М.
Гофмана о
«соборном
индивидуализме».
«Все это,
писал Блок,
книги будто
бы разнообразные,
но для меня,
чистосердечно
говорю, одинаковые;
это
словесный
кафе-шантан,
которому не я
один
предпочитаю
кафе-шантан
обыкновенный,
где, сквозь
скуку,
прожигает порой
усталую душу
печать:
Буйного веселья,
Страстного
похмелья» (4, X, 131132)
Эти
сомнения
Блока в
правомерности
и ценности
идеологии
символистов,
отвращение к спорам
и мелкой
полемике,
кипевшей в
литературных
кружках
московской и
петербургской
интеллигенции,
вытекали из
характерного
для Блока и
выделявшего
его из всех
символистов
глубокого
убеждения в
ничтожности
и несущественности
всех
философских
абстрактных
теорий
символизма
по отношению
к действительным
вопросам,
поставленным
революцией 1905
года и
последовавшей
реакцией перед
русским
обществом и
буржуазной
интеллигенцией.
От
прочих
символистов
Блока
отличало прежде
всего остро
ощущавшееся
им сознание общественной
ответственности
художника за
все
искусство в
целом и за
свое в нем
поведение и
участие в
особенности.
Вразрез с реакционной
эстетской
критикой,
отрицавшей
«утилитарное»
искусство,
Блок был
глубоко
убежден в том,
что вопрос о
«пользе»
искусства
неустранимый
и главный для
русского
искусства. «Перед
русским
художником,
писал Блок в
статье «Три
вопроса»,
вновь стоит
неотступно
этот вопрос
пользы.
Поставлен он
не нами, а
русской
общественностью,
в ряды которой
возвращаются
постепенно
художники
всех лагерей.
К вечной
заботе
художника о
форме и
содержании
присоединяется
новая забота
о долге, о
должном и не
должном в
искусстве. Вопрос
этот,
утверждал
Блок,
пробный камень
для
художника
современности:
может быть,
он одичал и
стал
отвлечен до
такой степени,
что
разобьется
об этот
камень. Этим
он докажет
только
собственную
случайность
и слабость
Если же он
действительно
призванный, а
не
самозванец,
он твердо
пойдет по
этому пути к
той вершине,
на которой
сами собой отпадают
те проклятые
вопросы,
230
из-за
которых идет
борьба не на
жизнь, а на смерть
в наших
долинах: там
чудесным
образом
подают друг
другу руки
заклятые
враги: красота
и польза» (4, IX, 62).
Но Блок
не только
требовал от
русских писателей
и в первую
очередь от
символистов
понимания
общественного
долга и
сознания ответственности
за искусство.
Он был, кроме того,
убежден, что
в громадном
своем большинстве
современные ему
поэты и
писатели
буржуазной
России не были
способны
отвечать
этим
важнейшим и несомненнейшим
требованиям.
Вызывая недоумение
и
негодование
эстетов, Блок
утверждал в 1908
году, что
читать на
литературных
вечерах
стихи
шлиссельбуржца
Н. А. Морозова,
несмотря на
то что они
«плохие, еще
гораздо хуже Плещеевских»,
не только
можно, но и
нужно, стихи
же любого из
новых поэтов
читать не нужно
и почти
всегда
вредно.
«Вредно
потому, пояснял
Блок, что
нельзя
приучать
публику любоваться
на писателей,
у которых нет
ореола
общественного,
которые еще
не имеют
права
считать себя
потомками
священной
русской
литературы...
вредно
.потому, что большинство
новых
произведений...
недоступно
большой
публике, и
она права,
когда чистосердечно
ничего не
понимает;
вредно потому,
что все это,
вместе
взятое,
порождает
атмосферу не
только
пошлости и
вульгарности,
хуже того:
вечера
нового
искусства...
порождая все
перечисленное,
тем самым
становятся как
бы ячейками
общественной
реакции; как
бы ни были
крохотны и
незначительны
эти ячейки в
круговороте
нашей жизни,
они делают
свое
медленное
дело
неуклонно» (4, IX,
6970).
Тот же
критерий
оценки
фактов
искусства, исходящий
из качества и
из
интенсивности
общественного
сознания
художника,
Блок переносил
с художников
на их
слушателей,
читателей и
зрителей. В
годы реакции,
в период всеобщего
увлечения
буржуазной
интеллигенции
вечерами
модернистского
искусства,
Блок пустой и
поверхностной
моде на писателей-модернистов
противопоставил
серьезные
общественные
требования,
предъявлявшиеся
искусству
лучшей
демократической
частью
публики. В
статье
«Вечера
искусства»
Блок отмечал,
что молодежь,
посещающая
такие вечера
и, по его
наблюдению,
не особенно
многочисленная,
разделяется
на два
лагеря:
«Одним подавай
гражданские
мотивы, если
поэт прочтет
плохие стихи
с
«гражданской»
нотой
аплодируют,
прочтет
хорошие
стихи без
гражданской
ноты шипят».
«Эта группа,
прибавляет
Блок, по моему
глубокому
убеждению,
лучшая часть
публики,
посещающей
вечера
нового
искусства» (4, IX, 67).
«Другая
группа со
стилизованными
модными
прическами и
настроениями,
но о ней,
замечат Блок,
говорить я
уж лучше не
стану, чтобы
не сказать
чего-нибудь
очень
неприятного
по ее адресу» (4,
IX, 67).
Было бы
напрасным
делом искать
у БлЪка продуманной
и тем более
свободной от
противоречий
эстетической
теории. Однако,
уступая в
интересе к
вопросам
теории и,
конечно, в
подготовке к
решению этих
вопросов
таким людям,
как Андрей
Белый и
Вячеслав
Иванов, Блок
неизмеримо
превосходил
их всех
безошибочной,
почти
инстинктивной
в нем ясностью
чувства и
честностью,
сознанием, что
между
искусством
буржуазной
интеллигенции
и народом
существует
огромная пропасть,
глубина
которой
соответствует
страшному
неравенству
в условиях
социальной
жизни
богатых и
бедных.
Задолго до
Октябрьской
революции,
задолго до
написания
«Двенадцати»
Блок уже
слышал шум
падающего
старого мира,
наполнивший
гулом и
громом его
слух позже в
январе 1918 года.
Оглядываясь
на революцию
1905 года, Блок,
как наиболее
важную
истину,
отмечает не
столько то,
что
революция потерпела
времен-
231
ное
поражение,
сколько то,
что в
революции народ
«был не с нами»,
т. е. не с
интеллигенцией.
С большой
тревогой
сигнализирует
Блок в ряде
статей и в
записных
книжках о
ясно ощущаемой
им пропасти
между
народом и
интеллигенцией.
«Мне ясно
одно, писал
он 22 декабря 1908
года,
пропасть, недоступная
черта между
интеллигенцией
и народом
есть. Та
часть
интеллигенции,
которой
закрыты пути
к народу,
громадна, она
растет...» (8, 100).
«Тем, кто
говорит мне:
нет черты,
нет больше ни
интеллигенции,
ни народа, я
хочу сказать:
вы не признаетесь
в этом только
потому, что
это слишком
страшно. Если
есть эта
черта между
народом и
(все
растущей)
частью
интеллигенции,
значит
многие
осуждены на
гибель. И
черта есть» (8, 100101).
Сознавая
всю глубину
разрыва
между
буржуазной
интеллигенцией
и народом,
Блок в то же
время
предвидел
неизбежность
в близком
будущем
нового и на
этот раз
сильнейшего
революционного
взрыва. Перед
лицом того
короткого
срока, который,
как ему
казалось,
остается еще
до наступления
революции,
задача
каждого
честного и серьезного
интеллигента
состояла, так
утверждал
Блок, не в
праздной
болтовне на
отвлеченные
философские
и
эстетические
темы, но в
быстром
пока еще не
поздно
практическом
действии,
которое
могло бы
повести если
не к
уничтожению,
то по крайней
мере к уменьшению
пропасти,
образовавшейся
между народом
и буржуазной
интеллигенцией.
В сущности,
Блок уже не
верил в
способность
современных
ему
интеллигентов
из
господствующих
классов
продолжать
традиции
демократической
интеллигенции
60-х годов,
боровшейся
против рабства
и реакции.
Вместе с тем
Блок понимал,
что никакой
отсрочки
историей
дано не будет
и что
интеллигенция
должна будет
расплатиться
за свою
отчужденность
и равнодушие
к судьбе
народа. «Если
цвет русской
интеллигенции,
писал Блок,
ничего не
может
поделать с
этим мраком и
неблагополучием,
как этот цвет
интеллигенции
мог, положим,
в 60-е годы бороться
с мраком, то
интеллигенции
пора вопрошать
новых людей.
И главное,
что я хотел сказать,
добавляет
Блок, это то,
что нам,
интеллигентам,
еще нужно
торопиться,
что, может
быть, уже
вопросов
теории и быть
не может, ибо
сама
практика
насущна и страшна»
(8, 9394).
Мысль о
практическом
назначении
искусства
овладевает
сознанием
Блока. Спустя
два года
после того,
как написаны
были
приведенные
выше строки,
Блок вновь и
вновь
возвращается
к мысли о
неустранимости
практического
участия
искусства в
социальной
жизни.
«Поэзия
практична, утверждает
Блок, и была
первоначально
практичной. И
все
искусство».
«Начинается,
писал он в
другом месте,
период
кризиса и
страшного
суда. Или
слово
станет
красивым и
бездушным
(или
внутренне
анархичным)
или станет
живым и
практическим»
(8, 138).
Находя,
что от
современного
художника
требуется
прежде всего
«подвиг», Блок
думал, что «совладать
с подвигом»
вряд ли может
человек, который
является
«только
художником» (8,
138). Сама
возможность
хорошо и
по-новому
работать в
искусстве
представлялась
ему зависящей
от изменения,
которое, как
он думал,
должно было
произойти в
самих
художниках и
в окружающей
их жизни. «На
днях я
подумал, отмечал
он в записной
книжке 25
марта 1915 года,
что стихи
писать мне не
нужно, потому
что я слишком
умею это
делать. Надо
еще
измениться (или--чтобы
вокруг
изменилось),
чтобы вновь получить
возможность
преодолевать
материал» (8, 179).
В этом
смысле,
утверждающем
жизненный
общественный
долг
искусства,
Блок
разъяснял, что
во всяком
произведении,
даже в
маленьком
стихотворении,
«больше не
искусства,
чем искусства»
(8, 159), что
232
искусство
«радий», что
даже очень
малые
количества
его способны
радиоактивировать
все самое
тяжелое,
самое грубое,
самое
натуральное,
мысли,
тенденции, «переживания,
чувства, быт» (8,
159).
Временами
сознание
полного
несоответствия
между этим
взглядами на
назначение
искусства и отношением
к искусству,
которое
проявлялось
огромным
большинством
буржуазной
писательской
интеллигенции,
порождало в
Блоке
желание
вовсе
оставить
профессиональную
писательскую
среду. «Надо
резко повернуть,
писал Блок в 1909
году, пока
еще не
потерялось сознание,
пока еще не
совсем
поздно.
Средство
отказаться
от
литературного
заработка и
найти другой»
(8, 117).
В
современных
ему
литераторах
декадентах,
символистах,
впоследствии
акмеистах
Блок с
изумлением и
негодованием
отмечал полное
отсутствие
того, чем он
так был
полон:
сознания
общественной
обязанности
художника,
долга перед
народом. Он в
буквальном
смысле этого
слова искал
людей, у
которых он
мог бы найти
такое, как у
него,
отношение к
искусству.
«Искать людей,
записывал
он в дневнике
1908 года,
написать
доклад о
единственном
возможном
преодолении
одиночества
приобщение к
народной
душе и
занятие
общественной
деятельностью»
(8, 88).
Оглядываясь
на
возникновение
акмеизма, Блок
усматривал в
этом событии
не нарождение
новой школы
поэзии, но
лишь проявление
отрыва
небольшой
группы писателей
от
общественных
задач;
впадение в холодный
и бездушный
формализм.
Формалистическому
тезису
акмеиста Н.
Гумилева,
выдвигавшего
перед
искусством
поэзии «чисто
литературные
задачи», Блок
противопоставлял
свое глубокое
убеждение в
том, что
«никаких
чисто «литературных»
школ в России
никогда не
было, быть не
могло и долго
еще, надо
надеяться, не
будет; что
Россия
страна более
молодая, чем Франция,
что ее
литература
имеет свои
традиции, что
она тесно
связана с
общественностью,
с философией,
с
публицистикой»
(4, X, 202).
Огромному
большинству
современных
ему писателей,
утративших
понимание
связи русского
искусства с
общественностью
и долга
писателя
перед
народом, Блок
противопоставлял,
как «шанс
спасения»,
деятельность
Льва
Толстого и
Максима
Горького.
«Толстой живет
среди нас,
писал Блок в 1908
году, нам трудно
оценить и
понять это
как следует...
Мы сами не
понимаем,
что, несмотря
на страшные
уклонения
наши от
истинного
пути, мы еще
минуем
счастливо
самые
страшные пропасти,
что этим
счастьем,
которое
твердит нам
всегда еще не
поздно, мы
обязаны, может
быть, только
недремлющему
и
незаходящему
солнцу
Толстого.
Интеллигенции
надо торопиться
понимать
Толстого с
юности, пока
наследственная
болезнь
призрачных
дел и праздной
иронии не
успела
ослабить
духовных и телесных
сил» (8, 8889).
И в том же
смысле Блок
выделил из
числа современных
ему русских
писателей
Максима Горького
не только по
огромности
его дарования,
но также и по
той «великой
искренности»,
с какой
Горький мог,
единственный
из нового
поколения
русских
писателей,
представительствовать
своими
писаниями не
только ту или
иную группу
интеллигенции,
но весь
русский
народ. «Я утверждаю,
писал Блок в
статье «О реалистах»,
что если и
есть
реальное
понятие
«Россия», или
лучше Русь
помимо
территории,
государственной
власти,
государственной
церкви,
сословий и пр.,
т. е. если это
есть великое,
необозримое,
просторное,
тоскливое и
обетованное,
что мы привыкли
объединять
под именем
Руси, то выразителем
его приходится
считать в
громадной
степени
Горького. Неисповедимо,
по роковой
силе своего
таланта, по
благородству
стремлений,
по «бесконечности
идеала» и по
масштабу
233
своей
душевной
муки
Горький
русский писатель»
(4, X, 3435).
Заглядывая в
представлявшееся
ему темным и
даже часто
страшным
будущее, Блок
не
сомневался в
том, что, как
бы ни была ужасна
современная
действительность,
будущее
России может
принадлежать
только народным
массам. Из
этого своего
убеждения Блок
делал ряд
выводов и
относительно
должного
воспитания
молодого
поколения и
относительно
должного
поведения
русских
писателей.
«Нельзя
забывать,
писал Блок,
что нашим
детям
предстоит в
ближайшем
будущем входить
во все более
тесное
общение с
народом, потому
что будущее
России лежит
в еле еще тронутых
силах
народных
масс и
подземных
богатств...
Дети наши
пойдут в
технические
школы по
преимуществу
и рано
соприкоснутся
с так
называемым
невежеством,
темнотой,
цинизмом,
жестокостью
и т. п. Имея все
это в виду, надо
по мере сил
объяснять
детям все
«народное»; на
родителях
лежит
громадная
ответственность;
если нельзя
требовать с
них творчества
(как нельзя
вообще
требовать с
человека
таланта, если
бог его
обидел
талантом), то
надо
требовать, по
крайней мере,
честности;
чтобы не
закрывали
глаз на
действительность»
(8, 169170).
Особенно
вредной,
неверной и
чуждой русской
жизни
представлялась
Блоку
эстетическая
теория,
основанная
на выделении
искусства в
особую
«специальность»,
преследующую
свои, будто
бы
совершенно
особые,
«чисто художественные»,
«чисто литературные»
и т. п. задачи.
«Русскому
художнику,
писал Блок в
статье об
акмеистах,
нельзя и не
надо быть
«специалистом».
Писатель
должен
помнить о
живописце,
архитекторе,
музыканте;
тем более,
прозаик о
поэте и поэт
о про: заике...
Так же, как
неразлучима
в России
живопись,
музыка,
проза, поэзия,
неотлучимы
от них и друг
от друга
философия,
религия,
общественность,
даже
политика» (4, X, 200). В
нераздельности
всех этих
сторон общественной
жизни народа
Блок видел
«признаки
силы и
юности», в их
раздельности
«признаки
усталости и
одряхления» (4, X,
200). «Когда
начинают
говорить об
искусстве, писал
Блок в той же
статье, а
потом скоро
о литературных
родах и
видах, о
«чисто
литературных
задачах», об
особенном
месте,
которое занимает
поэзия, и т. д. и
т. д. это, может
быть, иногда
любопытно, но
уже не
питательно и
не жизненно» (4, X,
200201). «Чистая поэзия»,
продолжал
он, лишь на
минуту возбуждает
интерес и
споры среди
«специалистов»;
споры эти
потухают так
же быстро,
как вспыхнули,
и после них
остается
одна
оскомина; а
«большая публика»,
никакого
участия в
этом не
принимающая
и не
обязанная
принимать, а
требующая
только
настоящих
живых
художественных
произведений,
верхним
чутьем
догадывается,
что в
литературе
не совсем
благополучно,
и начинает
относиться к
литературе
новейшей совсем
иначе, чем к
литературе
старой» (4, X, 200201).
Эту
отрицательную
оценку
большей
части современной
литературы
Блок
распространял
и на
искусство
символистов.
В искусстве этом
он осуждал
«отсутствие
идеалов» (см. 8, 20),
равнодушие к
важнейшим
вопросам
общественности
и философии,
субъективно-идеалистическую
узость
философского
мировоззрения.
Декадентство
Блок
определяет
как явление
«субъективно-индивидуальное»
(см. 8, 9). «Декадентство,
разъяснял
он, исходит
из
идеалистической
философии,
приходит к крайнему
субъективизму
вне
сознания
всех, кроме
самого поэта»
(8, 8). Это
«субъективно-индивидуальное»,
как он его
называет,
декадентство
он не только
считает
обреченным
на гибель, но
в одной из
записей 1907
года прямо
противопоставляет
ему
мировоззрение
«реалистов».
«Реалисты,
читаем мы
здесь, исходят
из думы, что
мир
234
огромен
и что в нем
цветет лицо
человека маленького
и могучего...
Они
считаются с
первой
(наивной)
реальностью,
с
психологией
и т. д.» (8, 70).
Напротив,
«мистики и
символисты
не любят этого
они плюют на
«проклятые
вопросы» к сожалению.
Им ни по чем,
что столько
нищих, что земля
кругла. Они
под
крылышками
собственного
«я» (8, 7071).
Не
теоретической
мыслью,
которая
всегда была в
нем слаба, но
каким-то, как
он сам
выражался,
«верхним
чутьем» Блок
явственно
ощущал
двусмысленность
поднятого
многими
писателями декадентами
и
символистами
протеста
против
«мещанства».
Двусмысленность
и соблазнительность
эту Блок
видел в том,
что «антимещанство»
декадентов,
при всей
внешней своей
революционности,
было по сути
порождением
той же
действительности,
которую оно
отрицало.
Доведенное
до
анархической
крайности,
восстание
против
мещанства
само оказывалось
не
освобождающей,
а
подтачивающей
жизнь силой.
Явление это
Блок
обозначил
именем «русского
дендизма
XX.века». «Его
пожирающее
пламя, писал
Блок в статье
«Русские
денди», затеплилось
когда-то от
искры малой
части байроновской
души; во весь
тревожный'
предшествующий
нам век оно
тлело в
разных Брэммелях,
вдруг
вспыхивая и
опаляя
крылья крылатых:
Эдгара По,
Бодлера,
Уайльда; в
нем был
великий
соблазн
соблазн
«антимещанства»;
да, оно
попалило
кое-что на
пустошах «филантропии»,
«прогрессивности»,
«гуманности»
и «полезностей»;
но, попалив
кое-что там,
оно
перекинулось
за
недозволенную
черту» (4, 1, 1919, 136).
Но,
осознав со
всей силой и
искренностью
безобразие и
ложь
эстетической
культуры буржуазного
мира, Блок не
нашел пути не
только к
выходу из
тупика
культурного
декаданса, но
даже к
правильному пониманию
его истинных
причин.
Блок
ненавидел
бездушность
и опустошенность
буржуазного
эстетства,
его формалистическое
уродство и
бесплодие. С
чувством ужаса,
смешанного с
отвращением,
он наблюдал
появление
акмеистов,
«несомненно
даровитых»,
по его
признанию
поэтов,
которые,
однако,
«топят самих
себя в
холодном
болоте
бездушных
теорий и всяческого
формализма;
они спят,
писал он, непробудным
сном без
сновидений;
они не имеют и
не желают
иметь тени
представления
о русской
жизни и о
жизни мира
вообще» (5, X, 0).
Однако в
тех же своих
писаниях по
вопросам искусства
и
общест-вености,
в которых, к
недоумению
многих своих
товарищей по
школе, Блок
решительно
отклонял
всяческие
теории
искусства
для
искусства.
Блок
зачастую оказывается
во власти
того самого
противоречия,
которое он
так
решительно и
мужественно
осуждает.
Сущность
этого
противоречия
он сам
прекрасно
сформулировал
в статье
«Непонимание
или
нежелание
понять?» Оправдываясь
против
обвинения в
«уединенном эстетизме»,
брошенном
ему в печати,
Блок разъяснял
здесь, что
установление
безмерной
пропасти,
лежащей
между
искусством и
жизнью, не должно
быть
истолковано',
как
стремление
принести
жизнь в
жертву
искусству. И
все же в отношении
между
искусством и
жизнью Блок усматривает
трагическое
противоречие,
которое
должно быть
принимаемо
так, как есть,
без осязательной
надежды на
устранение
его в близком
будущем. «Чем
глубже
любишь
искусство,
пояснял
Блок, тем оно
становится
несоизмеримее
с жизнью; чем
сильнее
любишь жизнь,
тем
бездоннее
становится
пропасть
между ею и
искусством.
Когда любишь
то и другое с одинаковой
силой,
признавался
он, такая любовь
трагична.
Любовь к двум
братьям, одинаково
не знающим
друг о друге,
одинаково пребывающим
в
смертельной
вражде, го-
235
товым к
смертному
бою до
последнего часа,
когда придет
третий,
поднимет их
забрало, и
они взглянут
друг другу в
лицо. Но когда
придет
третий? Мы не
знаем» (4, IX, 100).
Но Блок
не только
признал
безвыходным
и неразрешимым
ощущавшееся
им во всей
его трагичности
противоречие
между жизнью
и искусством.
Вопреки
собственному
отвращению
ко всякому
эстетизму,
как к
суррогату
мировоззрения,
он не знает
других, кроме
эстетических,
путей
изживания
противоречий
жизни.
Восстановление
растоптанной
буржуазным
обществом
целостности
жизненного и культурного
опыта
представляется
Блоку в
эстетических
символах, как
обретение
утраченной
человечеством
XX века «музыки».
Сама
революция превращается
в его
сознании в
некий стихийный
поток, волны
которого
наполняют
мир звучанием
новой, столь
нужной ему
«музыки». Мистическое
и
эстетическое
происхождение
этого
понятия
очевидно.
Осознание
общественных
противоречий
острое и
реальное в
самом их
ощущении
становится
неясным,
чересчур широким
и
мистическим
при первой
попытке их
объяснения.
Противоречие
между народом
и интеллигенцией
сводится не к
реальной
своей основе
не к
антагонизму
классов
буржуазного
общества, но
расширяется
до степени
чуть ли не
космического
противоречия,
укорененного
в тайных и
грозных
сейсмических
силах.
Мессинское
землетрясение
приобретает
в сознании
Блока
таинственную
связь с
нарастающей
социальной
революционной
бурей, чувство
надвигающейся
на Россию и
на весь мир социальной
катастрофы
получает
мотивировку
не в понятиях
социальной
науки, но в
мистических
аналогиях с
геологическими
явлениями:
«Пока мы
рассуждали о
цельности и
благополучии,
о
бесконечном
прогрессе,
оказалось,
что высверлены
аккуратные
трещины
между человеком
и природой,
между
отдельными
людьми и,
наконец, в
каждом
человеке
разлучены душа
и тело, разум
и воля» (4, XIII, 23).
Крушение
ненавистного
поэту
буржуазного
мира, воспетое
с огромной
поэтической
силой в «Двенадцати»
и в «Скифах»,
философски
осознается в
мистической
антитезе
«культуры» и
«цивилизации»,
выводится из
некоторого
закона, будто
бы правящего
ходом
исторической
жизни и
состоящего в
том, что
всякое
культурное движение,
рожденное «из
духа музыки»,
по истечении
известного
времени
«вырождается»,
«лишается той
музыкальной
влаги, из
которой родилось,
и тем самым
обрекается
на гибель», «перестает
быть
культурой и
превращается
в
цивилизацию
(4, VIII, 128).
В
соответствии
с этим,
будущее
революционного
послеоктябрьского
общества
представлялось
Блоку не как
наследование
технических,
научных
ценностей
прошлого, но
как уничтожение
их в
качестве
ценностей
цивилизации
и как «сохранение
культуры»,
представленной
в XIX веке одинокими
голосами
великих
художников и
осуществляемой
после
революции
«варварскими
массами»: «Не
парадоксально
будет сказать,
что
варварские
массы
оказываются
хранителями
культуры, не
владея ничем,
кроме духа музыки
в те эпохи,
когда
обескрылевшая
и отзвучавшая
цивилизация
становится
врагом культуры,
несмотря на
то, что в ее
распоряжении
находятся
все факторы
прогресса
наука, техника,
право и т. д.» (4, VIII, 128).
Таким
образом,
крупнейший
поэт
символизма,
пришедший
путем
трудных
противоречий
и страданий к
сознанию
обреченности
буржуазного
модернистского
искусства,
его пустоты, ничтожества
и разрыва с
жизнью
народа, приветствовавший
Октябрьскую
революцию, как
событие
всемирно-исторического
освободительного
значения,
остался еще в
известной
мере во власти
тех самых
эстетических
иллюзий,
разоблаче-
236
нию
которых он
столь много
способствовал.
Он умер,
потрясенный
величием
совершающегося,
но до конца
не смог
понять
движущих сил
Октябрьской
революции, ее
задач, природы
класса,
руководившего
ее течением и
развитием.
В
небольшой
группе
символистов,
принявших
Октябрьскую
революцию,
как событие
не только
всемирно-историческое
по масштабу,
но и
положительное
по значению,
открывающее
новую и
высшую эру в
развитии
человечества,
в первых
рядах
оказались
такие крупнейшие
поэты, как
Блок и
Брюсов.
Валерий Брюсов,
политически
порвавший с
буржазией, вступивший
в ряды
Коммунистической
партии,
решительно
приступил к
переделке
своего
мировоззрения,
к
освобождению
его от концепций
субъективного
идеализма,
владевших
мыслью поэта
до революции.
На этом новом
пути он успел
сделать
только
первые шаги.
Вместе с
символистами
ушел в
невозвратное
прошлое мир
реакционной
мистики,
идеалистической
и
формалистической
эстетики, в понятиях
которого
реакционная
русская
буржуазная
интеллигенция
пыталась
осознать
пути развития
общественной,
культурной и
художественной
жизни России.
БОРЬБА
ФИЛОСОФСКИХ
ТЕЧЕНИЙ В
МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В 70-х ГОДАХ XIX
ВЕКА
Идейная
жизнь
русских
университетов
всегда отражала
общественно-политическое
и моральное
состояние
русского
общества. Но
способы
этого
отражения,
его ясность и
интенсивность
менялись (в
зависимости
от перемен,
происходивших
за стенами
университетов,
в формах
общественно-политической
жизни
русского
общества и
государства.
При этом
чем менее
охвачено
было
общество политической
деятельностью,
чем более ограничен
был для него
доступ к
различным формам
и
проявлениям
политической
жизни, чем
менее ясным
было
общественно-политическое
сознание
различных его
групп, тем
большее
значение в
политическом
развитии
страны
принадлежало
университетам
как
выразителям
растущей
политической
самодеятельности
и
самосознания
общества.
«Общество,
писал наш
знаменитый
хирург и педагог
Н. И. Пирогов,
видно в
университете,
как в зеркале
и
перспективе.
Университет
есть и лучший
барометр
общества.
Если он показывает
такое время,
которое не
нравится, то
за это его
нельзя
разбивать
или прятать, лучше
все-таки
смотреть и,
смотря по
времени,
действовать.
Этот взгляд
на университет
подтверждает
история. Где
политическая
жизнь
общества
качается
ровно, как
часовой
механизм, где
политические
страсти из высших
сфер не
доходят до
незрелого
поколения,
там в
университете
выступает на
первый план
его прямое
назначение
научная деятельность.
Университет
делается там
барометром просвещения.
В науке есть
свои
повороты и перевороты;
в жизни свои;
иногда и те и
другие сходятся,
но все
переходы,
перевороты и
катастрофы
общества
всегда
отражаются
на науке, а
через нее и
на
университете.
Только там,
где
политические
стремления и
страсти
проникли
глубоко
через все
слои общества,
они уже
неясно
отражаются
на
университете.
Но чем более
настигают
они общество
врасплох, чем
менее оно
привыкло к
переходам и переворотам,
тем сильнее
выразится
его настроение
в
университете»
(14, 519, 520).
Так
писал один из
самых
вдумчивых
наблюдателей
русской
университетской
жизни в конце
1862 года.
Сказанное
Пироговым о
русских университетах
вообще
остается
справедливым
и
относительно
университета
Московского.
Начиная с 20-х
годов
прошлого
века
Московский
университет
с
поразительной
восприимчивостью
отражал
нравственно-политическое
состояние
русского
общества и
прежде всего
отражал
последовательные
перипетии в
отношениях
между этим
обществом и
властью.
В
воспоминаниях
Аполлона
Григорьева
Московский
университет
конца 20-х и
начала 30-х
годов, т. е.
поколения, к
которому
принадле-
238
жал
наставник
Аполлона
Григорьева,
характеризуется
как
университет,
«весь полный
трагических
веяний
недавней
катастрофы и страшно
отзывчивый
на все
тревожное и
головокружительное,
что носилось
в воздухе,
университет
погибавшего
Полежаева и
других» (5, 39).
То же
значение
исключительно
отзывчивого
и
восприимчивого
органа
общественного
сознания
Московский
университет
сохранил и в
пору своего
расцвета в 40-х
годах.
Политическая
реакция,
господствовавшая
между
Венским
конгрессом и
революцией 1848
года, сама
того не желая,
повысила
значение
университетов
в жизни
общества. Так
было в
Западной
Европе, так было
и в России. «В
то время в
России,
писал Б. Н.
Чичерин, не
было никакой
общественной
жизни,
никаких
практических
интересов,
способных
привлечь
внимание
мыслящих
людей. Всякая
внешняя
деятельность
была подавлена.
Государственная
служба представляла
только
рутинное
восхождение
по чиновной
лестнице, где
протекция
оказывала
всемогущее
действие...
Точно так же
и
общественная
служба,
лишенная
всякого
серьезного
содержания,
была
поприщем личного
честолюбия и
мелких
интриг... При
таких условиях,
все, что в
России имело
более возвышенные
стремления...
все это
обращалось к
теоретическим
интересам,
которые, за
отсутствием
всякой практической
деятельности,
открывали
широкое поле
для
любознательности
и труда. Однако
и в этой
области
препятствия
были громадные...
Не
допускалось
ни малейшее,
даже призрачное
отступление
от видов
правительства
или
требований
православной
церкви... на кафедре
было гораздо
более
простора, тут
не было
пошлого и
трусливого
цензора,
опасающегося
навлечь на
себя
правительственную
кару и
беспрестанно
дрожащего за
свою судьбу...
Слово
раздавалось
свободнее:
можно было,
не касаясь
животрепещущих
вопросов, в
широких
чертах
излагать
историческое
развитие
человечества.
И когда из
стен
аудитории это
слово
раздалось в
поучение
публики, то оно
привлекло к
себе все, что
было
мыслящего и
образованного
в столице.
Московский
университет
сделался
центром
всего
умственного
движения в
России» (3, 3334).
Блестящее
развитие
Московского
университета
в 40-х годах,
когда на
кафедрах
действовали
или начинали
действовать
такие ученые,
как Редкий,
Крылов,
Иноземцев,
Грановский,
Кавелин,
Сергей Соловьев,
Буслаев,
Кудрявцев и
др., резко
пресеклось
реакцией,
последовавшей
за европейской
революцией 1848
года.
В числе
мер, которыми
правительственная
реакция
стремилась
оградить
университет от
распространения
в нем
политического
свободомыслия
и религиозного
неверия, на
первом плане
стояло состоявшееся
в 1849 году
запрещение
преподавания
в
университетах
философских
наук. Изгнание
философии
было
осуществлено
во всех университетах,
в частности в
Московском. Здесь
из всей
философии
уцелели
только
логика и психология,
преподавание
которых было
поручено не
университетскому
профессору,
специалисту
в этой
области, а
священнику
Терновскому.
Разгром
философского
просвещения
в университетах
имел самые
пагубные и в
своей пагубности
длительные
последствия
не только для
судьбы
философии в
России, но и
для всего
культурного
развития
русского
общества.
Вред этой
меры
понимали не
только представители
передовой
материалистической
мысли, но
также и
философы
идеалистического
лагеря и при
том не только
такие, как
рационалист-гегельянец
Б. Н. Чичерин *,
но даже
такие, как мистик-идеалист
Владимир
Соловьев.
«Существенный
характер
науки, писал
Соловьев, то, что
делает ее
истинным
знанием, а не
простым
набором
фактов, есть,
без
239
сомнения,
обобщение в
различных
его видах. Но
для научного
обобщения
прежде всего
необходимы
два условия:
во-первых,
известное формальное
развитие
мышления,
ручающееся
за
правильность
в самом
процессе
обобщения...
во-вторых,
для
плодотворных
и широких обобщений
в науке
необходимы
известные
универсальные
начала и
идеи, которые
должны давать
обобщению
определенное
направление
и цель, а эти
начала и
идеи, не
находящиеся ни
в одной
частной
науке, могут
быть установлены
только
всеобщею
наукою
философией» (15,
III, 259 260). Поэтому
Соловьев не
находил
ничего удивительного
в том, что с
изгнанием
философии из
нашей
общеобразовательной
школы русская
наука «стала
обогащаться
массою случайных
произведений
без цели и
плана в общем,
без
логической
связи в
частностях» (15,
III, 260). Даже
восстановление
кафедры
философии
университетским
уставом 1863
года не могло
возместить
ущерб,
нанесенный
русскому философскому
и общему
образованию
ее упразднением
в 1849 году:
кафедры
философии
были открыты,
но не хватало
ученых, которые
были бы
подготовлены
для их
замещения,
были бы
достаточно
образованы и
были бы воспитаны
в традициях
независимой
мысли и
свободного
исследования.
Отсюда
возникло
характерное
для второй половины
XIX века
явление:
двойное
отставание
университетской
философии
от движения
философии на
Западе и от
философского
движения в
России,
развившегося
вне
университетов
в русской
литературе и
в русской
публицистике.
В 40-х годах
центры
передовой
науки и
передовой
общественной
мысли в
значительной
мере
совпадали, и
Московский
университет
был
средоточием
той самой
мысли,
которая
развивалась
и действовала
в обществе,
вне
университетских
аудиторий.
Грановский
был
одновременно
идейным
центром
университетской
мысли и лицом,
определявшим
и
направлявшим
движение
мысли общественной.
В 60-х годах
Московский
университет
не только не
был уже
центром
передовой
общественной
и
философской
мысли, но
заметно
отставал от
уровня,
которого
достигли к
этому времени
передовые
философские
круги,
связанные не
с
университетом,
а с журналистикой,
критикой и
художественной
литературой.
Таков был
прежде всего
круг
«Современника»
с
работавшими
в нем
корифеями
тогдашней
материалистической
русской
мысли Чернышевским
и
Добролюбовым.
Этот разрыв
между
философией,
прозябавшей
в университете,
и философией,
развивавшейся
вне
академических
традиций в
журналистике,
был особенно
резким ввиду
высокого
уровня,
достигнутого
тогдашней
журналистикой.
По верному
замечанию
современника,
Россия в 60-х
годах являла
«единственный
в мире опыт
значительного
развития
журналистики
при
самодержавном
правлении» (15, III,
182).
Теоретическими
точками
зрения, на
позициях
которых
стояла эта
передовая
журналистика,
были
материализм
в области
философии и
социализм в
области
общественно-политических
теорий. Но ни
первое, ни второе
учения не
только не
имели
сторонников
в рядах
представителей
университетской
философии, но
именно в ней
встретили
самых
ожесточенных
и
непримиримых
противников.
Доказательством
тому может
быть знаменитая
разыгравшаяся
в 1860 году
полемика между
Чернышевским
и П. Д.
Юркевичем,
занимавшим
тогда философскую
кафедру в
Московском
университете.
В
частности, в
вопросе "о
материализме
не было
никакой
заметной
разницы
между враждебной
к
материализму
позицией,
занимавшейся
240
университетскими
философами и
философами-богословами
духовных
академий. Первые
в своей
критике
материализма
обнаруживали
ничуть не
больше
научной
свободы,
широты и
непредвзятости,
чем вторые.
Да и откуда
было взяться
различию
между философией
университетской
и
академической
в условиях, когда
университет,
лишенный в
течение ряда лет
философского
образования
и возможности
готовить
ученых
специалистов
по философии,
оказался
вынужденным
после восстановления
кафедры
философии
приглашать на
эту кафедру
профессоров
из тех же
самых духовных
академий?!
Тот же
Юркевич был
до замещения
кафедры в
Московском
университете
профессором Киевской
духовной
академии.
В
сравнении с
университетской
философией
академическая
имела даже
преимущества.
Это были
преимущества
не научной
свободы и
независимости,
но преимущества
длительной и
непрекращавшейся
философской
традиции.
Культивировавшаяся
в духовных
академиях
философия
была
схоластикой
в самом точном
смысле слова,
т. е. прямой
служанкой
богословия.
Но эта
схоластика
насчитывала
в Москве и
Киеве больше
двухсот лет
непрерывного
развития.
Традиции эти
были не
только
традициями
направления
таким здесь,
разумеется,
мог быть
только
идеализм, но
и традициями
стиля
научной
работы. Изучение
философии, в
высшей
степени
консервативное
и
реакционное
по
направлению,
было весьма
тщательным,
обстоятельным
и основательным.
Серьезность
и
основательность
философской
подготовки
профессоров
духовных академий
отражались
на уровне
философского
развития их
студентов.
Уже в начале XIX
века Московская
духовная
академия
стояла в этом
отношении
выше
Московского
университета.
В то время
как в
Московской
духовной
академии
читались
рефераты по
философии,
обсуждался
смысл и
значение
философии
Канта, в журнале
«Вестник
Европы»,
издававшемся
при Московском
университете,
Канта, Фихте
и Шеллинга
называли
сумасшедшими
и их
сочинения
«немецкой
галиматьей».
Юные
студенты
«удивлялись
невежеству и
нелепости
суждений
университетского
журнала» (4, 2021).
Разумеется,
эти
преимущества
исстари заведенного,
более
обширного,
чем в
университетах,
и более основательного
философского
образования никак
не могли
возместить
присущий
духовным
академиям
недостаток
подлинной
научной
независимости
и свободы
исследования.
Более
сведущие,
порой и более
ученые в области
философии,
чем
профессора
университета,
философы духовной
академии, в
том числе и
самые даровитые,
отличались
поразительной
порабощенностью
ума и были
безнадежно
подавлены догмой
официального
вероучения.
Именно положение
даровитых
было
особенно
трудным. Так
было,
например, с А.
В. Горским,
профессором
и ректором
Московской
духовной
академии. Близко
знавший его и
слушавший в
начале 70-х годов
его лекции
Владимир
Соловьев
находил, что
«при
необъятной
учености,
ясном понимании
труднейших
вопросов и
необыкновенной
сердечной
доброте» (17, 365)
Горский в то
же время
«носил на
себе
печальные
следы духовного
гнета и
крайней
робости ума и
малоплодности
мысли
сравнительно
с его
блестящими
дарованиями:
он все
понимал, но
боялся всякого
оригинального
взгляда,
всякого непринятого
решения» (17, 365).
Московская
духовная
академия
находилась
даже под
особым гнетом
высшего
духовного
начальства.
Историк
Сергей
Михайлович
Соловьев
рассказывает
в своих
воспоминаниях
(«Записках»),
что в Московской
академии в то
время, когда
митрополитом
был Филарет,
«пре-
241
подаватели
даровитые...
были
мучениками,
каких нам не
представляет
еще история
человеческих
мучений.
Филарет по
капле
выжимал из
них, из их лекций,
из их
сочинений
всякую жизнь,
всякую живую
мысль, пока,
наконец... не
превращал
человека в
мумию» (17, 365)*.
К этому
печальному
положению
философии во
всех русских
университетах
вообще в
Московском
университете
присоединились
особые
обстоятельства,
ухудшавшие и
без того
незавидное положение
вещей. При
жизни
Грановского
«Русский
вестник» был
средоточием
и выражением
университетской
мысли. Все
видные
ученые силы
Московского
университета
собрались
вокруг его редакции
(см. 3, 175, 186).
Со
смертью
Грановского
блестящий
круг его
товарищей,
группировавшийся
вокруг «Русского
вестника»,
стал редеть,
а
направляющая
роль в
журнале
стала
захватываться
его
редактором
Катковым. По
меткому
выражению
Чичерина,
Каткову «требовались
клевреты, а
не
сотрудники» (3,
175). Как только
«Русский
вестник»
завоевал
внимание общества,
Катков
подчинил
журнал
своему нераздельному
и полному
влиянию.
Сотрудники,
стремившиеся
сохранить
идейную независимость,
были вскоре
один за
другим выжиты,
и журнал,
руководимый
Катковым,
резко и внезапно
переметнулся
на сторону
правительственной
реакции.
Но
деятельность
Каткова не
ограничилась
тем, что он
разогнал и
выжил из
«Русского
вестника»
первоначальное
ядро его
сотрудников,
состоявшее в
значительной
части из
передовой
профессуры
Московского
университета.
Вскоре
Катков
заявил желание
стать
арендатором
издававшейся
Московским
университетом
газеты
«Московские
ведомости».
Несмотря на
протесты и
предупреждения
Чичерина,
постановлением
совета
Московского
университета
«Московские
ведомости» были
переданы
Каткову.
«Этим
роковым
решением,
писал
впоследствии
Чичерин,
Московский
университет
сам наложил
на себя руку» (3,
81). Пагубные
последствия
случившегося
усиливались
еще и потому,
что Катков
руководил изданием
с большим
умом и
талантом
журналиста.
Полностью
подчинив
редакцию
своему влиянию,
Катков начал
в покорных
ему изданиях
бешеную
кампанию
против
университетского
самоуправления.
Ему удалось
добиться
отмены либерального
университетского
устава 1863 года и
полного
уничтожения
какой бы то
ни было самостоятельности
университетов.
В Московском
университете
началась
полоса,длительной
реакции.
* * *
При
таком
положении
вещей веяния
материализма,
проложившего,
несмотря на
цензурные
стеснения,
путь в
журналистику,
а в
«Современнике»
ставшего
направлением
всего
журнала в
целом, не
легко могли
проникать в
среду
профессоров
философии
Московского
университета.
Проводниками
влияния материализма
«а
университетскую
мысль сделались
передовые
профессора
не
философского,
но
физико-математического
и медицинского
факультетов.
В 70-х годах в
Московском
университете
преподавали
и вели
научную работу
замечательные
деятели
естествознания:
физик А. Г.
Столетов,
натуралист К.
А. Тимирязев.
Благодаря
их
деятельности,
не
замыкавшейся
в границах
специальных
вопросов,
проникнутой
глубоким
пониманием
общественного
значения
науки,
материализм,
лишившийся к
тому времени
обоих своих
242
корифеев
одного, преждевременно
умершего,
другого,
насильственно
удаленного с
общественной
арены, продолжал
все же
господствовать
над умами
значительной
части
учащейся
молодежи и демократической
интеллигенции.
В 70-х годах
властителями
дум
передового
студенчества
Московского
университета
продолжали
еще оставаться
Чернышевский
и Добролюбов.
Трагичность
их судьбы
усиливала их
обаяние.
Никакие
запреты
цензуры не
могли
изгладить из
памяти этой
интеллигенции
образ
Чернышевского
и не могли
искоренить
власть над
нею материалистических
идей,
введенных
ими в
сознание
русского
общества.
Однако
при всей
силе, с какой
материализм
продолжал
властвовать
над
мировоззрением
передовой
части
русской
интеллигенции,
отсутствие
крупного
вождя в
философии этого
направления
не могло не
отразиться
на успехах
движения. В
середине 70-х
годов в России
не только не
было еще
философа,
который
оказался бы в
силах
повести
русскцй материализм
дальше того,
что было
достигнуто
Чернышевским
и
Добролюбовым,
но даже пропаганда
созданного
ими
материализма
оказалась
вследствие
усилившейся
реакции затрудненной.
При
таких
обстоятельствах
на первый
план выступило
философское
направление,
выдвигавшее,
как и
материализм,
идею
научного обоснования
и научного
характера
философии, но
в то же время
не только
лишенное четкости
и
последовательности
в решении основных
вопросов
философии, но
в основе своей
идеалистическое,
враждебное
материализму.
Этим
направлением
стал
позитивизм в
обеих его
ветвях:
французской
и английской.
Известный в
России еще в
конце 40-х
годов ' как
учение
Огюста Конта
позитивизм в
ту пору и даже
позже не
получил у нас
значительного
распространения.
Общеизвестно
отрицательное
отношение к
позитивизму,
высказывавшееся
Чернышевским
в письмах.
Правда, в 1865 году,
когда
Чернышевский
уже был в
ссылке, в «Современнике»
появилась
статья Э. К.
Ватсона,
знакомившая
с
позитивизмом
и принадлежавшая
автору-позитивисту.
Однако
помещение
этой статьи
не искажало
общей линии
«Современника»,
которая
вплоть до
закрытия этого
журнала
оставалась
материалистической.
Поэтому
в 60-х годах,
несмотря на
известное
усиление
позитивизма
и на рост
интереса к
нему, философским
направлением,
против
которого главным
образом
выступали
идеалисты,
оставался
материализм
как учение,
не только противостоящее
идеализму по
существу, в
принципе, но
и как
направление,
пользовавшееся
тогда
наибольшим
влиянием и
добившееся
значительных
успехов.
Против
материализма
и прежде
всего против
Чернышевского
ополчился
такой столп
идеализма,
каким был
профессор
Московского
университета
П. Д. Юркевич.
Напротив,
к середине 70-х
годов
главные
усилия университетского
идеализма
сосредоточиваются
на борьбе и
на полемике,
направленной
против
позитивизма.
Было бы
неверно
думать, будто
эта смена предмета
нападения
произошла
потому, что
борьба
идеализма
против
материализма
к этому
времени
ослабела.
Идеалисты 70-х
годов отнюдь
не были более
терпимыми или
равнодушными
по отношению
к материализму,
чем их
предшественники.
Для них и в
это время
'материализм
оставался и
оценивался
ими в
качестве
основного
противника,
.представлялся
наиболее
опасным в их
глазах и был
наиболее
поносимым
ими
философским
течением.
Непримиримость
идеалистов и
их настороженность
по отношению
ко всему, что
было или казалось
проявлением
материализма,
обнаружи-
243
лись со
всей
очевидностью
в полемике,
завязавшейся
вокруг
диссертации
Генриха
Струве. Когда
в 1870 году
Струве
представил в
Московский
университет
свою докторскую
диссертацию
«Самостоятельное
начало душевных
явлений» (20) и
когда одно
или два суждения,
оброненных в
ней,
показались
намеками
автора на
будто бы
тайно
проводившийся
им
материализм,
против
Струве
ополчились Н.
Аксаков (1),
профессор
Московского
университета
С. Усов (23) и Н. Н.
Страхов (18).
Брошюра
Н. Аксакова
уже одним
своим названием
выдавала и
точку зрения,
и намерения,
и тон
критика.
Основное
обвинение Н.
Аксакова состояло
в
утверждении,
будто
диссертация Струве
под видом
опровержения
материализма
содержит на
деле
оправдание
материализма
в психологии.
«Объявляется
сочинение, опровергающее
материализм,
писал Н.
Аксаков, и
оказывается
само самым
чистым, самым
поверхностным
материализмом,
как назовем
мы подобное
дело?» (1,37).
В
стремлении
опорочить
как только
возможно
работу Г.
Струве Н. Аксаков
доказывал не
только
материалистический
характер основных
ее
положений,
но, кроме
того,
непоследовательность
автора, несознательность
относительно
действительной
сути его
утверждений
и, наконец,
недопустимую
для научного
труда
несамостоятельность,
зависимость
от работ
Ульрици, Жане
и Фихте-младшего.
«Объявляется
сочинение научно
самостоятельное,
писал Н.
Аксаков, и
появляется самая
дюжинная
компиляция.
Как назовем
мы подобное
дело?» (1, 37).
«Брошюра Г.
Струве, так
заканчивалась
рецензия Н.
Аксакова,
служит выражением
величайшего
неуважения к
познаниям и
развитию
русского
общества и
русской
науки, ибо
она выражает
обидное
предположение,
что ни
русское
общество, ни
наука не
сумеют
отличить
материализм
от
спиритуализма,
труд ученого
от труда диллетанта,
труд
самостоятельный
от замаскированной
компиляции» (1,
38).
То же
обвинение в
несознаваемой
самим
автором
материалистической
тенденции
было
выдвинуто
против
Струве Н. Н.
Страховым.
Вместе с Н.
Аксаковым
Страхов
утверждает,
будто Струве
«так составляет
свое понятие
о душе,
употребляет для
этого такие
категории,
что не может
прийти к
нематериальности
души» (18, 309), что он
«ставит душу
наравне с
физическими
началами» (18, 309), что
он отличает
ее, например,
от
электричества
«лишь
настолько,
насколько
отличает электричество
от тяжести» (18, 309).
Страхов,
правда, не
считал
возможным
обвинить
Струве в
сознательном
и намеренном
проведении
материализма,
но тем более
подчеркивал,
что в
результате
усилий, какие
делал Струве
для
опровержения
материализма,
получался
все же только
материализм.
«Нет никакого
сомнения,
писал
Страхов, что
г. Струве не
желает быть
'материалистом,
но он
материалист
против
собственной
воли и вопреки
своим
усилиям» (18, 310).
В
большой
статье «Из
споров о
душе»,
которой Страхов
откликнулся
на
диссертацию
Струве и на
завязавшийся
по поводу ее
спор, Страхов
не только
повторил
доводы Н.
Аксакова, но
прибавил к
ним
собственные,
не менее
любопытные. Не
отрицая у
Струве
искреннего
намерения опровергнуть
материализм,
Страхов
находил, что
материализм
не
заслуживает
пристального
внимания и
что слишком
обстоятельная
критика
материализма
скорее
вредна, чем
полезна. Вред
ее, во-первых,
в том, что,
сосредоточивая
на
материализме
свои
критические
усилия, она
приписывает
материализму
то значение,
которого он
сам по себе
иметь не
может.
«Философия,
поучал
Страхов,
принявшись
опровергать
то, в
опровержении
чего не настояло
никакой
надобности,
244
задавшись
задачами не
только
разрешенными,
но и никогда
не имевшими
права на имя
научных
задач,
опустила и
исказила
свой уровень
до
невозможности»
(18, 290). «В былые
времена, уверял
Страхов,
философия
никогда не
боролась с
материализмом,
не
занималась
его отрицанием
и критикою,
она его
побеждала и
изгоняла тем,
что спокойно
излагала и
проповедовала
свои учения,
и он исчезал
без всякой особенной
о том заботы...
нынешняя
борьба против
материализма
едва ли
доказывает
его силу,
скорее она
доказывает
слабость философии»
(18,278).
Трудно
сказать, у
кого из обоих
критиков Струве
проявилось
больше
вражды и
ненависти к
материализму
у Н. Аксакова,
который обвиняет
Струве в
замаскированной
проповеди
материализма,
или у
Страхова, который
рекомендует
в качестве
лучшего средства
борьбы
против
материализма
не критику и
не
опровержение
материалистических
учений, а
«заговор
молчания»,
умышленное
игнорирование
их и
умолчание о
них в печати.
В случае
со Струве
опасения
Страхова
имели основание.
Диссертация
Струве,
публичная ее защита
в Московском
университете
и последовавшая
затем
полемика в
печати
превратились
в
общественное
событие,
всколыхнувшее
широкие
круги
публики,
ученых и
литераторов.
Интерес
к диспуту был
привлечен
уже тем, что
диссертация
была
полностью
напечатана
еще до ее
защиты в
февральском
номере
«Русского вестника»
за 1870 год. Самый
диспут
состоялся 13 марта
в
переполненном
зале и был
выслушан аудиторией
с
напряженным
вниманием. Главный
официальный
оппонент
профессор философии
Московского
университета
П. Д. Юркевич
оценил
работу
высоко и дал
вполне благоприятное
для
диссертанта
заключение. Другой
оппонент
профессор
Московского
университета
по кафедре
зоологии С. А.
Усов отметил
в
диссертации
ряд промахов
с точки зрения
естественных
наук, а также
неосведомленность
диссертанта
в
физиологической
литературе.
Но настоящие
«критические
стрелы»
полетели в
диссертанта
в
выступлении
неофициального
оппонента Н.
Аксакова,
огласившего возражения,
изложенные
им и вскоре
опубликованные
в
специальной
брошюре.
Диспут
длился целых
пять часов
при неослабевавшем
интересе и
внимании
аудитории. Присутствовавшая
на защите
публика,
особенно
молодежь,
была в
большинстве
своем расположена
в пользу диссертанта.
Подзаголовок
диссертации
(«Психо-физиологическое
исследование»),
известные
читателям
«Русского
вестника»
ссылки диссертанта
на
французских
и немецких психологов,
применявших,
помимо
внутреннего
психологического
наблюдения,
также и «внешние
средства
физики и
физиологии» (20,
23), наконец,
открыто
заявленное
автором
отклонение
«всякой религиозной
или
нравственной
тенденции, с
исключительною
целью узнать
чистую истину»
(20, 23) все это
внушало не
одному
только Н. Аксакову
впечатление,
что автор диссертации
если не
скрывающийся
материалист,
то по крайней
мере
сочувствует
материалистическим
тенденциям в
психологии.
Но если
для Н.
Аксакова эта
предполагавшаяся
им у Струве
тенденция
была
предметом озлобленной
и порой
граничившей
с доносом критики,
то для
большинства
публики,
переполнявшей
университетский
зал и жадно
ловившей
каждое слово
диссертанта
и его
оппонентов,
та же
тенденция
вызывала,
напротив,
сочувствие к
диссертанту
и
насмешливо-враждебное
отношение к
его критикам.
Когда диспут
кончился и было
оглашено
постановление
Ученого
совета
университета
о присуж-
245
дении
Струве
докторской
степени, в
зале раздались
рукоплескания,
«каких давно
не было при
подобных
случаях» (12).
Но
отклики
публики на
диспут были
только началом
того, что
последовало
затем в
печати.
Диспут
Струве стал
на некоторое
время
главным
предметом ее
внимания. Вслед
за «Русским
вестником»,
поместившим
во второй
книжке за 1870
год всю
диссертацию,
последовали
две
пространные
и
сочувственные
статьи о
диспуте в
«Московских
ведомостях» *.
В третьей
книжке
«Русского
вестника» за
тот же год
была в
дополнение к
уже
опубликованному
в предыдущем
номере
тексту
диссертации
помещена
статья Г.
Струве
«Физиология
Людвига с
психологической
точки
зрения». Одновременно
в «Журнале
министерства
народного
просвещения»
появилась
корреспонденция
о диспуте,
подписанная
Д. Гр-в.
Интерес
общества к
диссертации
Струве еще
больше вырос
после выхода
в свет брошюр
и статей
критиков
Струве Н.
Аксакова,
профессора С.
А. Усова и Н.
Страхова и
появились
написанные в
защиту
диссертации
статьи
самого автора
(см. 19, 724808) и П. Д.
Юркевича (см. 25,
701750). По словам
участника
прений
профессора С.
А. Усова, за время
с 1845 года ни
одна из
защищавшихся
в Московском
университете
диссертаций
«не производила
никакого
шума;
диссертации..
обсуждались
тесным университетским
кружком, а в
публике и в
газетах о них
и речи не
было...
Диссертация
г. Струве
явление
совсем иное:
чуть не во
всех закоулках
первопрестольной
Москвы толкуется
о ней... Такое
явление
вовсе не обычно
в ученом
мире...» (23, 12).
Основная
причина
этого
необычного
внимания
широкой
публики к
специальному
ученому
философскому
сочинению
коренилась
не только в
качествах
самой
диссертации
Струве. Ни
ясное,
прозрачное и
простое
изложение
автора, ни
появление
его работы в
распространенном
журнале,
каким был
«Русский
вестник», не
могут сами по
себе
объяснить
интереса,
какой эта работа
вызвала, а
также
страстности,
какая была
проявлена
участниками
и
свидетелями
ее обсуждения.
Точка
зрения
автора была
весьма нечеткая
и
непоследовательная,
несмотря на
кажущуюся
ясность
литературной
формы. Струве
критикует
материализм
в психологии,
ко так, чтобы
видно было,
что он
признает все
значение
физиологии
для
объяснения психических
явлений; он
признает
«самостоятельное
качало»
душевных
явлений, но
так, что
остается
открытым
вопрос,
считает ли он
это «самостоятельное
начало»
материальным
или духовным.
Он
оспаривает
«существование
души по одностороннему
идеалистическому
понятию» (20, 15), но
вместе с тем
отвергает
материалистическую
теорию,
отрицающую
существование
души вообще.
Он не
отличает
вульгарного
материализма
от
материализма
научного, а
внутри
научного не
знает
различия
между материализмом
механическим
и диалектическим.
Он
подновляет
традиционную
психологию
ссылками на
данные
наблюдения и
физиологического
эксперимента,
но извлекает
эти ссылки из
авторов, у
которых все
эти
эмпирические
данные и
ссылки на
эксперимент
имеют
идеалистический
смысл.
То, что Н.
Аксаков и
другие
приняли в
книге Струве
за
материализм,
было в лучшем
случае
повторением
эклектической
попытки
Ульрици,
соединившего
идеалистическое
понимание
душевной
субстанции с
признанием
за ней таких
материальных
свойств, как
протяженность,
способность
производить
механическую
работу,
упругость, центробежная
и центростремительная
сила.
Все эти
недостатки,
правильно
отмеченные и
Н. Аксаковым,
и С. Усовым, и Н.
Страховым,
приобретали,
однако,
второстепенное
зна-
246
чение в
сравнении с
тем фактом,
что диссертация
Струве, худо
или хорошо,
вновь
привлекла
внимание к вековечному,
основному
вопросу
философии.
Споры,
которые
вспыхнули
вокруг
маленькой
книжки
Струве, были
не столько
спорами о степени
ее
оригинальности
или
несамостоятельности,
сколько
принципиальными
спорами о
направлении,
в каком
должна
развиваться
психология.
Речь шла о
противоположности
материализма
и идеализма
как об
основной
противоположности,
обнаруживающейся
во всех философских
вопросах и
исследованиях.
В
озлоблении
критиков
Струве легко
было заметить
тревогу,
страх перед
усиливающимся
влиянием
материализма.
Критики эти
не могли
простить Струве
даже те
ничтожные
элементы
материалистической
постановки
вопросов,
которые могли
быть
усмотрены в
его книге и
которые сами
они признали
непоследовательными
и недоведенными
до конца.
Даже Усов,
критиковавший
в качестве
натуралиста
естественнонаучные
промахи
Струве и не
входивший в
рассмотрение
ее
философского
содержания,
не мог удержаться
от упрека в
том, что
диссертация
Струве «не
убила змею
материализма»
(23, 12).
Страстность
и подчас
грубость
нападок, каким
подвергся
Струве,
делают
понятным и то
сочувствие, с
каким к нему
и к его книге
отнеслась
широкая
публика. Чем
громче и
грознее кричали
оппоненты и
рецензенты
Струве о
«подспудном
материализме»,
будто бы
заключавшемся
в его
диссертации,
тем сильнее
желали все
сочувствовавшие
материализму
заявить об
этом
сочувствии
независимо
от того, могла
ли книга
Струве
явиться
действительным
основанием и
для
обвинения и
для восхваления
в качестве
книги
подлинно
материалистической.
Как это часто
бывало в
общественной
жизни,
непосредственный
предмет
обсуждения отступил
на второй
план, а на
первый
выдвинулось
столкновение
непримиримых
идейных начал,
по отношению
к которому
незначительная
сама по себе
книга Струве
оказалась лишь
поводом их
обнаружения
и выявления.
Во всем
этом эпизоде
загадочным
на первый
взгляд может
показаться
поведение
Юркевича.
Столп университетского
идеализма,
зорко следивший
за ходом
философской
борьбы,
ополчившийся
десятилетием
ранее против
Чернышевского,
корифея
тогдашнего
материализма,
Юркевич на
этот раз явно
становится
на сторону
Струве. Он не
только
одобряет его
диссертацию,
не только
выступает на
диспуте с
благоприятной
для Струве
рецензией, но
в ответ на
критические
брошюры
Аксакова и
Усова пишет в
«Русский
вестник»
большую
статью, в
которой
целиком
берет Струве
под свое
покровительство.
Чем
следует
объяснить
это
отношение?
Что могло
заставить
Юркевича,
убежденного
противника
материализма,
не внять
голосам Аксакова,
Страхова,
находивших у
Струве заправский,
хотя и
прикрытый
«подспудный»
материализм?
Объясняется
это отнюдь не
снисходительностью
или
равнодушием
к
материализму.
Юркевич в 1870
году
оставался
таким же
непримиримым
противником
материализма,
каким он был
в 1860 году, во
время спора с
Чернышевским.
Юркевич
действительно
не
усматривал в сочинении
Струве
никаких
признаков
материализма.
Между
Аксаковым и
Юркевичем
было то
различие,
какое
существует
между идеалистом
опрометчивым
и философски
неосведомленным,
с одной
стороны, и
идеалистом
умным и
философски
образованным,
с другой стороны.
Юркевич
хорошо знал
философию и
был достаточно
проницателен
для того,
чтобы
понимать, что
писатели,
которым
следовал
Струве и Ульрици,
и
Фихте-младший,
и Жане, были и
в философии и
в пси-
247
хологии
бесспорными
идеалистами.
В оболочке
«идеал-реализма»,
которой были
облечены
рассуждения
Струве,
Юркевич
безошибочно
разглядел,
несмотря на
все уступки,
сделанные
Струве по
отношению к
эмпирическому
методу в
психологии и
даже по
отношению к
физиологическому
объяснению,
самый
заправский
идеализм.
Юркевич
хорошо
понимал, что
никакой
эмпирический
метод в
психологии и
никакой
анализ
функциональной
связи между
физиологическими
механизмами
и
психическими
явлениями
сами по себе
никакого
материализма
не знаменуют
до тех пор,
пока и «опыт» и
«функциональная
связь» не получат
подлинно
материалистического
объяснения.
Но
именно этого
объяснения
не было и в
помине у
Струве,
который,
признав, что
отличие души
от начал
физических
«не
составляет
еще никак
абсолютной
противоположности
этих явлений,
исключавшей
общие для них
и для души
основания» и
что душа
«может иметь
нечто общее с
материей», не
только
отказался сам
определить,
каким именно
следует представлять
это общее
основание:
материальным
или
нематериальным,
но для
ответа на этот
вопрос
отослал
читателей к
решению, предложенному
известным
идеалистом
Лотце.
Поэтому
Юркевича не
только не
смутили и не убедили
нападки
Аксакова, но
он не нашел в
них ничего,
кроме
запальчивости
и недоразумений,
основанных
на
философском
невежестве
автора.
Выступление
Аксакова
поспешное,
голословное,
неубедительное
ставило под
сомнение
научную
основательность
и научную добросовестность
идеалистической
критики
материализма.
В
выступлении
этом не было ни
логического
склада, ни
настоящего
знания
предмета, ни
философской
осведомленности.
С таким
критиком
Юркевичу
было не по
пути. Единение
с Аксаковым
компрометировало
ученого. Этого
Юркевич не
мог
допустить: он
слишком дорожил
своей
репутацией
профессора,
чтобы
прельститься
сомнительной
выгодой, какую
ему как
философу,
представлявшему
идеализм, сулили
легкомысленные
наскоки
юного Аксакова.
Осторожность
и
осмотрительность
казались
здесь
особенно
необходимыми
еще и потому,
что у всех
были свежи в
памяти
неудачи и
поражения,
какие еще
недавно, в 60-х
годах, потерпел
идеализм
вследствие
неловкости и
невежества
своих
партизан.
Легкомыслие,
поверхностность
и
неосведомленность
идеалистической
критики
набили
оскомину
более
серьезным
противникам
материализма.
Не далее как
в 1869 году умный,
даровитый, но
погрязший в
безнадежном
скептицизме
Н. Гиляров-Платонов
* жаловался
на вред,
какой
наносит
борьбе с
материализмом
неосновательная
и поверхностная
его критика:
«Несчастный
материализм,
в самом деле!
Столько в
последние
годы трепали
его и
приверженцы
и противники,
забавно
хвастались
им одни и
забавно
негодовали
на него
другие, что
начинают,
кажется, уставать
и те и другие.
И жалко
именно, если
это направление
отпадет от
мнения и
убеждений единственно
от того, что
устанут с ним
и от него.
Только то
прочно, что
понято. А что
мы видели у
нас в
рассуждениях
за и против
духа, кроме
поверхностности?»
(16). Гиляров-Платонов
находил даже,
что это
отсутствие настоящего
знания
материализма
и вообще философии
приводило к
тому, что
некоторые критики
материализма
сами не
замечали, насколько
близки они
были к
критикуемому
ими, но
недостаточно
понятому
учению:
«Противники
материализма
были
поверхностны
не менее
защитников:
дюжинные
компиляции,
ссылки на
авторитет,
бездоказательное
негодование,
частные
набеги или же
будто
ученое обсуждение,
с намерением
опровержения,
но с точки
зрения такой
системы,
которая сама
есть материализм,
только не
узнавший сам
себя, не дошедший
до последних
выводов» (16).
248
И только
потому, что
Аксаков в
своей запальчивости
решился
поколебать
авторитет Юркевича
и нанес ряд
уколов его
самолюбию профессора,
официально
представлявшего
интересы
научной
философии в
университете,
Юркевич
решил дать
отпор
зарвавшемуся
молодому
идеалисту.
Таким
образом,
защищая
Струве
против Аксакова,
Юркевич,
ко-нечно, не
защищал
материализм
даже
косвенным
образом: он
защищал ту
разновидность
идеализма,
которой, как
он думал, не
следовало
пренебрегать,
так как ее
наукообразная
форма,
постоянная
апелляция к
данным
физиологии и
опыта, не
нанося
никакого
ущерба ее
идеалистическому
существу, шла
навстречу
научным
запросам и склонностям
времени.
С другой
стороны,
поскольку
Аксаков
своим выступлением
и своей
оценкой
работы Струве
ставил под
сомнение
научную
компетенцию
не только,
диссертанта,
обвиненного
в компиляции,
чуть ли не в
плагиате, но
и самого Юркевича,
якобы не
сумевшего распознать
подспудный
материализм
и изобличить
замаскированную
компиляцию.
Юркевич
чувствовал
себя задетым
за живое.
Не
удивительно
поэтому, что
ответ
Юркевича
Усову и
особенно
Аксакову
оказался
ядовитым по
тону и
отрицательным
по существу.
Юркевич
высмеял и
обвинения в
материализме,
и указания на
научную
несамостоятельность
Струве, и проявленные
в этих
обвинениях
Аксаковым
поспешность,
претенциозность,
голословность
и вопиющие
пробелы в
философских
знаниях.
Так
кончился
философский
эпизод,
ознаменовавший
начало 70-х
годов. В
эпизоде этом
наиболее скромную
роль играл
сам
непосредственный
его виновник
Струве. В его
лице
идеализм пытался
перевооружиться:
он уже не
просто отвращался
от
естественных
наук, от
опыта и положительного
знания, но
пытался
воспользоваться
ими для
усиления и
защиты
собственных
позиций.
Точки
зрения
Аксакова,
Страхова и
Юркевича
могут быть
сведены к
следующим
формулам. В
лице
Аксакова
молодое
поколение
воинствующего
идеализма
обращалось к
старшему с
непочтительным
предостережением:
вас обманули,
вы не
доглядели. Вы
не узнали
материалистического
волка в
идеалистической
шкуре. Вы
прозевали, и
мы не очень
вас за это
уважаем. Мы, а
не вы
опровергнем
этот материализм,
сделаем то,
чего не
сумела
сделать ваша
ученость
Страхов
представлял
точку зрения
тех, кто
пытался
осилить
материализм
не прямым
нападением, а
умолчанием.
Страхов как
бы говорил:
не
поднимайте
вокруг материализма
лишнего шума.
Вы сами
создаете ему
популярность
вашими
громкими
опровержениями
и спорами. Не
следует
делать этого.
Пусть он
останется в
тени, без
аудитории,
вне внимания
общества, и
он сам собой
захиреет.
Наконец,
Юркевич
выражал
взгляды тех,
кто требовал
борьбы, но не
хотел в этой
борьбе поражать
союзников.
Смысл
реплики
Юркевича может
быть выражен
так мы стоим
на посту и
без боя
ничего не
отдадим. Но
мы хотим, чтобы
борьба
велась
толково и без
паники. Глупо
принимать
союзника за
врага. Глупо
не воспользоваться
оружием,
которое этот
союзник
нашел у врага
и
присоединил
к нашему обычному
оружию.
Именно эту
глупость
делаете вы,
молодые. Вы
ее делаете по
неразумию и по
невежеству
молодости.
Рано вам еще
нас учить и
поглядывать
на нас
сверху.
Во всех
этих трех
случаях было
нечто общее. Это
общее
непримиримое
отрицание
материализма.
Спор шел лишь
о том, где
материализм
находится и
как лучше с
ним бороться.
249
Таким
образом,
поворот
внимания
идеалистов к
позитивизму,
обозначившийся
в 70-х годах, был
вызван вовсе
не
ослаблением
борьбы против
материализма:
поворот этот
был вызван
отмеченным
выше
временным
ослаблением
материализма,
уходом с
арены борьбы
лучших и
сильнейших
его
представителей.
Перенос огня
с материализма
на
позитивизм
хорошо
выявляет
именно
непримиримость
идеализма. В
позитивизме
идеалисты,
стоявшие вне
лагеря позитивизма,
критиковали
те его
элементы, которые
казались им
материалистическими.
И хотя в действительности
эти элементы
не были материалистическими,
все же
энергия, с
какой против
них
восставали,
показывает,
насколько
настороженным
было
внимание к
«материалистической
опасности».
Разумеется,
здесь имела
место
крупная
историко-философская
ошибка или
иллюзия. Но в
самой ошибке
этой отражалась
та самая
борьба
идеализма с
материализмом,
которая
составляет
содержание
философии на
всех этапах
ее развития.
Происшедшее
в середине 70-х
годов
смещение центра
философской
полемики
было вызвано
несколькими
причинами.
Первой из них
была сильно
выросшая
популярность
позитивизма.
В 70-х годах позитивизм
нашел в
России
нескольких
талантливых
сторонников
и
пропагандистов
в журналистике
и даже на
университетской
кафедре.
Представителями
позитивизма
в журналах
были, например,
Н. К.
Михайловский,
П. Л. Лавров, В. В.
Лесевич.
Проводником
влияния
позитивизма
на
университетскую
философию
стал с конца 60-х
годов М. М.
Троицкий.
Второй
причиной
возросшей
популярности
позитивизма
было ошибочное,
но тем не
менее
распространившееся
в русском
обществе
мнение
относительно
близости
позитивизма
к
материализму.
Поводом к
этому мнению
был прежде
всего наступивший
в 70-х годах
упадок
философских
знаний.
Последовательный,
не терпящий
никаких компромиссов,
никакой
половинчатости
материализм,
представленный
Чернышевским
и Добролюбовым,
лишился и
обоих своих
вождей и той
общественной
трибуны,
какой был
«Современник».
Университеты
не давали
обществу философски
образованных
людей, так
как изгнание
в 1849 году
философии из
университетов
сначала просто
оборвало
преемственность
философского
просвещения,
а затем,
когда
философия
была в очень
скромном
объеме
восстановлена
на
историко-филологических
факультетах,
дало знать о
себе
кризисом
философских
сил,
недобором
специалистов
по философии
и зависимостью
университетской
философии от
философии,
преподававшейся
в духовных академиях.
Предоставленная
случайностям
философского
самообразования,
лишенная
строгой философской
дисциплины
мышления,
передовая
часть общества
тяготела все
же к
материализму.
Тяга эта
требовала
удовлетворения,
но не находила
для него
достаточной
пищи в
литературе,
где
пропаганда
материализма
заметно ослабела.
Не
удивительно,
что при таких
обстоятельствах
сочувствие и
внимание
общества легко
могли
привлечь
учения, не
материалистические
в основе, но
содержащие в
себе некоторые
элементы
материализма
или по крайней
мере
допускавшие
возможность
истолкования
их в смысле
материализма.
Именно
таким
учением и был
позитивизм.
По существу
его теория познания
представляла
идеалистический
эмпиризм,
восходящий к
феноменализму
юмовского
типа. Вместе
с тем
позитивизм,
так же как и
учение Юма,
был учением
агностицизма.
Однако
изложение
этого
агностицизма
у позитивистов
было
настолько
двусмысленным,
шатким и
неясным, что
могло быть
истолковано
и в материалистическом
смысле. «Опыт»,
о котором шла
речь, мог
быть
250
понят и в
смысле
«чистого
опыта», т. е. в
духе идеалистического
феноменализма,
и как учение
о
материальных
вещах,
скрывающихся
за нашими
впечатлениями
и
восприятиями.
Такой смысл
особенно
легко мог
быть вложен в
позитивистическую
философию
Спенсера.
Но и
учение
Огюста Конта,
основателя
французского
позитивизма,
казалось
многим близким
к
материализму.
Материалистическим
казалось
прежде всего
учение о трех
фазах
умственного
развития
человечества,
а также
критика
«теологии» и
«метафизики»,
как уже
пройденных
этапов.
Материализм
усматривали
и в пафосе
научности,
каким была
проникнута
система
Конта.
К такому
результату
приводило,
во-первых, желание
найти в
учении
позитивистов
опору для
материализма,
во-вторых,
недостаточное
понятие о том,
что такое
подлинный
материализм.
Здесь в известной
мере
повторилось
то, что имело
место и на
Западе. Уже
Литтре,
пропагандировавший
во Франции
позитивизм
Конта, жаловался
на
отсутствие у
французской
публики точного
понятия о
позитивизме
и, в
частности, на
смешение
позитивизма
с
материализмом.
«Назвать
позитивную философию,
писал
Литтре,
далеко не
значит еще
дать понять,
что она
такое... Для
одних она
представляется
каким-то
математическим
умозрением...
Для других
она кажется
возобновлением
учений Эпикура
и Гольбаха...» (26, 1).
У нас
этому
смешению
способствовало
снижение
уровня
философской
осведомленности,
характеризующее
философскую
журналистику
70-х годов
сравнительно
с журнальной
печатью
предшествовавшего
десятилетия.
Обстоятельство
это отметил
один из самых
внимательных
и сведущих наблюдателей
развития
общественной
мысли и
вместе с тем
знаток и
убежденный
сторонник
позитивизма
В. Лесевич. «В 60-х
годах,писал
В. Лесевич, к
философии
никто
отрицательно
не относился;
лучшие
журналы того
времени очень
часто
помещали
философские
статьи, и имена
авторов этих
статей
пользовались
большою
известностью,
о философии
читались
тогда
публичные
лекции и по
поводу их велась
горячая
полемика,
переводились
философские сочинения
(Гайм, Куно
Фишер, Вундт,
Ст. Милль, Швегнер,
Бауэр, Льюис,
даже Кант и
Платон), и переводы
находили
рецензентов
между самыми
видными
тогда
писателями;
даже теософы
(Новицкий и
Гогоцкий) не
оставались
без критиков,
не говоря о
прославленном
критиками
Юрке-виче...
Что же мы
видим теперь?
Философские
статьи
являются в
журналах
очень редко,
философские
сочинения
выходят еще реже...»
(9, 461462).
Нетрудно
понять, что
при таких
обстоятельствах
успехи
позитивизма,
обозначившиеся
к концу 60-х и к
началу 70-х
годов, должны
были
породить
тревогу в той
части идеалистов,
которые
имели
основание
значительную
долю этих
успехов
приписывать
материалистическим
элементам
позитивизма
или
материалистическому
его
истолкованию.
Особенное
опасение
внушал успех,
какой получила
позитивистическая
критика
«теологии» и
«метафизики».
Забывая о
том, что
критика эта
не мешала
самому Конту
взамен
отрицавшейся
им «теологии»
выдвинуть
собственную
«позитивную»
религию,
новый вид
культа и даже
новую
разновидность
мистики,
видели только
близость к
атеизму и
материализму
в учении,
которое
«теологию» и
«метафизику»
объявило
пройденной и
превзойденной
ступенью
умственного
развития.
Особенное
беспокойство
испытывали
философы
духовных
академий. Они
хорошо
понимали, что
успех учения
позитивизма
о трех фазах
развития был
не чем иным,
как
доказательством
все еще
сильной тяги
общества к
атеизму.
Позитивизм
был для многих
заменителем
или сурро-
251
гатом
атеизма,
прямая и
философски
точная проповедь
которого
была
невозможна.
Такое
впечатление
успехи
позитивизма
производили
не только «а
богословов,
но и на профессоров,
преподававших
философию в
университетах.
В сущности,
между теми и
другими в
начале 70-х
годов было
мало отличий.
Для
идеалистов
философских
кафедр
университетов
и для
идеалистов
духовных
академий
позитивизм
представлялся
философским
учением если
не прямо материалистическим,
то во всяком
случае прокладывающим
путь
материализму.
Впоследствии,
когда
обнаружилось,
что
позитивизм
оказался, наоборот,
путем для
перехода от
материализма
60-х годов к
идеализму,
идеалисты,
вначале резко
выступавшие
против
позитивизма,
успокоились
и даже
сменили гнев
на милость *.
Но в начале 70-х
годов
позитивизм
казался
многим прямым
предтечей
материализма.
Вся эта
ситуация
отсутствие
на арене
истинного материализма,
популярность
вытеснявшего
материализм
позитивизма
и
материалистическое
истолкование
некоторых
черт позитивизма
поставила
позитивизм в
центре философского
внимания. С
начала 70-х
годов позитивизм
становится
главным
предметом
идеалистической
критики.
Идеалисты
выступают
против позитивизма,
с целью
защиты
идеализма.
Эта
любопытная
философская
аберрация, охватившая
всю область
философской
борьбы, сказалась
и в идейной
жизни
Московского
университета.
В 70-х годах
Московский
университет
становится
ареной
борьбы
идеализма с
той фракцией идеализма,
какую
представлял
позитивизм. При
этом, однако,
стрелы,
направленные
против
позитивизма,
предназначены
были по замыслу
тех, кто
пускал эти
стрелы,
поразить исконного
врага
идеализма
материализм!
Это
усложнение
борьбы
идеализма с
материализмом
проявилось с
особенной
ясностью в
двух
событиях
жизни
Московского
университета
в борьбе
вокруг
кандидатуры
М. М. Троицкого
на кафедру
философии и в
прямых выступлениях
против
позитивизма
профессора
Московского
университета
В. Я. Цингера и
магистра
Владимира
Соловьева.
Троицкий
не был
ортодоксальным
позитивистом.
Рано
разочаровавшись
в
рационалистическом
идеализме
немецкой
философии, Троицкий
стал горячим
и убежденным
сторонником
философии и
психологии
английского
эмпирического
идеализма и
индуктивной
логики. Его'
философскими
авторитетами
были не
только Джон
Стюарт Милль,
но и Томас
Броун, не
только
Герберт
Спенсер, но и
Давид Юм, не
только Бэн,
но и Беркли. В
истории
английской
философии
Троицкий
прослеживал
развитие
эмпирической
теории
познания,
психологии и
логики.
Преемственность
и общность этого
развития от
Бэкона и
Локка до
Джона Стюарта
Милля как
развития
эмпирической
точки зрения
имела в
глазах
Троицкого
большее значение,
чем
принципиальное
различие
между материалистическим
эмпиризмом
Бэкона и идеалистическим
эмпиризмом
Юма, между материалистическим
агностицизмом
Локка и идеалистическим
агностицизмом
Милля.
Но
именно это
игнорирование
различий в области
«метафизики»,
т. е.
онтологии
эмпиризма,
сближало
Троицкого с
позитивизмом
в его
специфической
английской
форме XIX века. У
Милля, Льюса,
Спенсера
Троицкий
усвоил
характерную
для них критику
всякой
«метафизики»,
иными
словами, позитивистический
ангностицизм
и феноменализм.
Сам
Троицкий
ясно
сознавал эту
тенденцию своего
труда.
Вспоминая
впоследствии
(в 1885 году)
историю его
возникновения,
он пояснял,
252
что
сочинение о
немецкой
психологии
было написано
им «с целью
доказать
несостоятельность
и
безуспешность
всякой метафизики
души,
претендующей
на значение науки,
будет ли она
метафизикой
идеализма, как
в школах
Фихте-старшего,
Шеллинга и
Гегеля, или
метафизикой
реализма, как
в школах Канта,
Фриза,
Гербарта и
Бенеке. При
этом не забыты
и немецкий
материализм
и так называемый
реаль-идеализм»
(21, 174)*
У
Троицкого не
было
сомнений в
том, что его точка
зрения всего
ближе стоит к
учениям именно
английского
позитивизма.
«С шестидесятых
годов, писал
Троицкий,
нарождается в
России новое
направление
философии,
так называемое
(позитивное
или
положительное,
не в узком
смысле
философии
Конта или
контизма, а в
широком
смысле
исследований,
не признающих
метафизику
реальною
наукою,
ограничивающих
область
познаваемого
предметами
опыта и
доверяющих
руководству
одних против
индукции, и
дедукции,
опирающейся
на
предварительные
наведения.
Направление
это
выразилось в
охлаждении
ко всякой
немецкой
метафизике
идеализма и
реализма;
охлаждения
этого не
избегла даже
реалистическая
метафизика
немецкого
материализма»
(21, 173).
Таково
было
отношение
Троицкого к
столпам
английского
эмпиризма и
позитивизма.
Оригинальность
самого
Троицкого
состояла в
том, что этот
свой,
почерпнутый
из
английских
источников
эмпиризм и
«отрицание
метафизики»
Троицкий
развивал в
форме
неслыханно
резкого противопоставления
их немецкому
рационализму
и немецкой
«метафизике»
(т. е.
немецкому
идеализму). В
своей
докторской
диссертации
(22) Троицкий
доказывал не
только
несамостоятельность
немецкой
психологии и
философии,
несознаваемую
ею или
замалчиваемую
зависимость
от
английской
традиции, но,
кроме того,
подверг
самой резкой
и в своих
результатах
совершенно
отрицательной
критике все
основные
системы
немецкого
классического
идеализма.
В
исторической
части
исследования
Троицкого
было много
верного, и
даже такой
горячий сторонник
немецкого и,
в частности,
гегелевского
идеализма,
каким был Н.
Страхов,
должен был
признать
основательность
указаний Троицкого
на
предварение
«антовского
критицизма в
философии
Рида,
немецкой
идеалистической
психологии
в идеализме
Беркли, реализма
Гербарта в
учениях
Гартли и
Пристли и т. д.
(см. 18,250262).
Но
Троицкий шел
гораздо
дальше
указаний на
историческую
роль и
историческое
первенство
английской
психологии
сравнительно
с немецкой:
он доказывал
в своей
диссертации,
что немецкая
психология и
философия
оказались не
только
порождением
английской,
но вместе с
тем и полным
ее
извращением,
вырождением
в мистицизм и
бесплодную
схоластику.
Все эти
утверждения
о немецкой
психологии и
философии
были
изложены в
самой резкой форме.
Это была уже
не критика, а
прямая и
сплошная
ругань.
Никогда еще
не лилось
столько
брани и такой
брани со
страниц
ученой книги,
сочинения,
представленного
для
публичной
защиты
диссертации.
Никогда еще
прославленные
философы немецкого
идеализма не
были осыпаны
таким множеством
уничтожающих
эпитетов, а
над их теориями
не были
произнесены
столь
решительные и
беспощадные
приговоры **.
С этой
книгой
Троицкий
явился из
Варшавы, где
он занимал
профессорскую
кафедру в университете,
в Москву, к
Юркевичу
для защиты своего
труда в качестве
докторской
диссертации.
253
Какого
ответа
следовало
ожидать от
главы университетского
идеализма?
Уже наперед можно
сказать, что
многое в
книге
Троицкого
должно было
вызвать
осуждение со
стороны
Юркевича.
Правда, в
труде
Троицкого не
только не было
никакого
материализма,
но Троицкий
даже избегал
прямо
называть
себя
позитивистом,
каким он, в
сущности,
являлся.
Принял он все
меры также и
к тому, чтобы
характерный
для него как
для
позитивиста
агностицизм
не мог быть
истолкован
ни в смысле
прямого неверия,
ни в смысле
религиозного
скептицизма. В
этой связи
особенно
сильно
досталось от Троицкого
Канту, учение
которого о
примате
практического
разума над
теоретическим
и о вере
Троицкий
ругает как
«циническое» по
отношению к
религии.
Но все
эти приматы,
которые
должны были
оградить
Троицкого от
смешения с
материалистами
и скептиками,
не могли
ослабить
дурного
впечатления,
какое Юркевич
вынес из
чтения книги,
представленной
автором в
качестве
диссертации.
Во-первых,
Юркевич
хорошо видел,
насколько тонка
и несущественна
была грань,
отделявшая
эмпиризм и
индуктивизм
Троицкого от
их образцов в
английском
позитивизме.
Юркевичу
казалось
очевидным,
что-все, что
можно было
поставить на
вид
позитивизму
как учению,
допускающему
истолкование
агностицизма
и эмпиризма в
духе
материализма,
можно было
найти и у
Троицкого.
Во-вторых,
Юркевич
никак не мог
одобрить ни содержания
развитой.
Троицким
критики немецкого
идеализма, ни
тона, в каком
велась эта
критика.
Правда,
Троицкий
громил
немецкий
идеализм не с
материалистических
позиций. Он
отвергал
одну из форм
идеализма во
имя другой,
не менее
идеалистической.
И все же
критика эта
представлялась
Юркевичу, как
и многим
другим, не
только
нежелательной,
но прямо
ошибочной и
опасной.
Опасность
ее состояла в
том, что она
была направлена
против
учений, в
которых
идеализм был
самым тесным
образом
сращен с
философским обоснованием
религии. Не
только Кант,
критиковавший
знание, чтобы
расчистить
путь вере, но
и Фихте и
Гегель
использовали
мощь своей
идеалистической
диалектики
для философского
обоснования
и оправдания
веры. О Шеллинге
уже и
говорить не
приходится:
его поздняя
система была
сплошь
теософией.
В
сознании
русских
философствующих
богословов
эта связь
между
немецким
идеализмом и
религией
была
настолько
существенной,
прочной и
нерушимой,
что всякий
удар,
направленный
по этому
идеализму,
казался
вместе и
ударом по религии.
А тут еще
вдобавок
необычайный
тон критики,
напоминавший
недавние
времена, когда
«Современник»
обрушил на
голову
автора «семинарских
тетрадок»
уничтожающий
поток сарказма
и насмешек.
Все эти
соображения
роились в уме
Юркевича во
время чтения
диссертации
Троицкого. Результатом
было то, что
Юркевич
признал огромную
работу
Троицкого
совершенно
неудовлетворительной
и отказался
допустить ее
к защите на
публичном
диспуте. Извещая
Троицкого о
своем
решении,
Юркевич
писал ему:
«Завтра (4-го) я
не
представляю
в факультет
отзыва об
вашей
диссертации.
При всем моем
участии и
уважении к
вам, я должен буду
сделать об
вашей
диссертации
отзыв очень
неблагоприятный.
Как
утопающий
хватается за
соломинку,
так я льщу
себя надеждою,
что, может
быть, хотя к
концу
диссертации
я найду
основы для
одобрения
вашего труда.
Один бог
знает, как
мучительны
были мои тревоги
и ожидания
лучшего в
течение
этого полугодия.
Но я теперь
вижу, что
если бы я
одобрил ваш
труд, то меня
сочли
254
бы
варваром уже
не философы
наших
петербургских
трущоб, но
действительные
знатоки философии
и все научно
образованные
люди, особенно
же я знаю, что
мне пришлось
бы нести
тяжелую
ответственность
за честь
университета...»
(2, 204205) *.
В письме
Юркевича
любопытен
тон искреннего
участия, с
каким в нем
объявляется
отрицательное
решение.
Юркевич
сожалеет и о
затраченных
автором
больших
трудах и о
неудачном их
результате.
Юркевич
понимал, что
у него с
Троицким
общий враг
материализм.
Слова о
«философах
наших петербургских
трущоб»
явный намек
на материалистический
круг
«Современника».
И тем не менее
он не считает
возможным
пропустить
диссертацию
Троицкого. Он
не может
простить Троицкому
ни критики
немецкого
идеализма, ни
того, что
критика эта
ведется во
славу английского
позитивизма,
заподозренного
если не в
явной
близости к
материализму,
то во всяком
случае в
совместимости
с ним, если не
в прямом
атеизме, то
по крайней
мере в религиозном
индиферентизме
я
скептицизме.
Таким
образом, в
лице
Троицкого
позитивизму был
дан в
Московском
университете
решительный
отпор: ученое
исследование,
развивавшее
весьма
близкую к
позитивизму
точку зрения,
разработанное
на основе
большого материала,
отчетливо
изложенное
было признано
нежелательным
и явно
несостоятельным
в научном отношении.
Огорченный
постигшей
его неудачей,
Троицкий
представил
свою
диссертацию
в Петербургский
университет.
Здесь дело
приняло другой
оборот.
Назначенные
университетским
советом
рецензенты
профессор
Сидонский и
профессор
Владиславлев
дали
благоприятное
заключение и
допустили
диссертацию к
защите. После
диспута,
который
прошел для Троицкого
благополучно,
Троицкому
была присуждена
степень
доктора.
Московская
неудача не
обескуражила,
однако,
Троицкого.
Спустя семь
лет он вновь
появляется в
Московском
университете.
Произошло
это таким
образом. В
конце 1874 года умер
Юркевич, и
занимавшаяся
им кафедра философии
осталась
вакантной,
Троицкий решил
выставить
свою
кандидатуру
на освободившееся
место.
Но
Троицкий был
не
единственным
претендентом.
Кроме него желание
занять ту же
кафедру
изъявили
профессор
Петербургской
духовной
академии Михаил
Иванович
Каринский и
воспитанник
Московского
университета,
только что
перед тем
защитивший в
Петербурге
магистерскую
диссертацию, Владимир
Сергеевич
Соловьев.
Таким
образом,
Ученому
совету
историко-филологического
факультета, в
составе которого
находилась
кафедра
философии, а
затем уже и
Ученому
совету
Московского
университета
в целом
необходимо
было сделать
выбор.
При
решении
этого вопроса
в
университетском
совете
произошли
прения,
далеко
вышедшие из
рамок обычного
обсуждения
кандидатур. В
прениях этих,
помимо
неизбежной в
каждом
подобном
случае и
лишенной
принципиального
значения борьбы
внутриуниверситетских
партий и групп,
ярко отразилась
борьба
философских
направлений, происходившая
в то время в
стране и
протекавшая
на страницах
периодической
печати.
В
сущности
вопрос
свелся к
выбору между
Троицким и
Соловьевым.
Кандидатура
Карийского
быстро
отпала.
Произошло
это отнюдь не
потому, что
кандидатура
эта сама по
себе была
слабой
сравнительно
с прочими.
Правда, в то
время, о
котором
здесь идет
речь, т. е. в 1874
году, Каринским
не были еще
написаны
работы («Об
истинах
самоочевидных»,
«Классификации
выводов», «Разногласие
в школе
нового
255
эмпиризма
по вопросу об
истинах
самоочевидных»),
которые
сделали
Карийского
впоследствии
первым
русским
логиком и
одним из крупнейших
европейских
логиков XIX
века, гордостью
русской
философии. Но
и
опубликованный
Карийским в 1873
году
«Критический
обзор
последнего
периода
германской
философии»
отличался
достоинствами
первоклассного,
глубокого и
оригинального
критического
исследования.
Качества эти
были тотчас
замечены
серьезнейшими
специалистами.
Так,
рекомендовавший
Карийского
на кафедру
философии
Московского
университета
профессор А.
М. Иванцов-Платонов
характеризовал
названный труд
Карийского
как
«замечательнейший
в нашей
ученой
литературе
труд,
который, по
всей
вероятности,
мог бы
удовлетворить
самым серьезным
требованиям
и при
соискании высшей
ученой (т. е.
докторской)
степени по
философии. Это
есть, писал
Иванцов-Платонов,
цельный, стройный
и глубоко
основательный
обзор всего
послекантов-ского
развития
германской
философии в
ее различных
направлениях
с раскрытием
основных
принципов,
сильнейших и
слабейших
сторон
каждого
направления,
и с
обозначением
тех
результатов,
какие выработаны
каждым
направлением
не только для
философской
собственной
области, но и
для других
наук,
находящихся
в более
близком соприкосновении
с
философией...
К самым основным
положениям
замечательнейших
философских
систем
Канта, Фихте,
Гегеля,
Тренделенбурга,
Гербарта,
Лотце,
Шопенгауэра,
Гартмана
автор
относится с
совершенною
самостоятельностью.
Собственный
принцип
автора, из
которого
исходит у
него критика
различных
философских
систем, и не
довольно
последовательное
проведение
которого он
замечает у самых
глубоких и
строгих
германских
мыслителей,
есть именно
полная
самостоятельность
философской
мысли,
исключающая
в сфере
философии
всякую
возможность
принятия каких
бы то ни было
не
проверенных
логическим
анализом или
не вполне
строго
доказанных
положений,
затем
последовательное
проведение
основных
«ачал,
утверждаемых
системою, во
всех частных
положениях и
выводах
системы (против
чего автор
также
указывает
погрешность
у самых
замечательных
мыслителей
германских)» (11,
89)*.
В
заключение
своей
характеристики
Карийского
Иванцов-Платонов
добавлял, что
если бы
Каринский «не
печатал
доселе и
никаких других
статей, кроме
упомянутого
обзора послекантовского
периода
германской
философии,
одного этого
обзора было
бы вполне достаточно
для того,
чтобы
пожелать
иметь г.
Карийского
на
философской
кафедре какого
бы то ни было
из высших
учебных
заведений» (11, 10).
Рекомендация
Иванцова-Платонова,
который сам
имел
заслуженною
репутацию ученейшего
и
основательнейшего
исследователя
и который
потому мог
лучше многих
других
оценить эти
качества в
предложенном
им кандидате,
никакой
поддержки в
Ученом совете
университета
не получила.
Кандидатуру
Карийского
пришлось
снять по
соображениям
формального
характера **.
За этими
формальными
мотивами
скрывались,
однако,
другие
соображения.
Необычайно серьезный,
углубленный,
весь ушедший
в работу
мысли, чуждый
интриг и
искательства,
Каринский не
был на виду
Его,
истинного
ученого, мало
еще знали в
ученом мире.
Еще большее
значение
имело то
обстоятельство,
что ум
Карийского
был по
преимуществу
аналитический
и
критический.
Те самые
дарования и
достоинства,
которые
сделали из
него
впоследствии
несравненного
по глубине и
основательности
исследователя
и критика высших
оснований
логики
эмпиризма и
рационализма,
не могли
содействовать
быстрому
росту его
популярности
в ученых
кругах. Сила
Карийского
была не в
способности
к
256
философским
конструкциям,
а в
поразительном
даре критики,
восходящей
до последних посылок
и принципов
науки. Такие
умы вызывают
глубокое
уважение, но
не увлекают
блеском синтетических
построений.
Они не
образуют школы,
хотя
являются
самой лучшей
и самой строгой
школой мысли.
Они не на
переднем
плане науки,
но в наименее
доступной и
наиболее трудной
ее глубине.
Не
удивительно
поэтому, что
представление
Иванцова-Платонова
успеха не
имело. Борьба
групп и
направлений,
существовавших
в середине 70-х
годов в
Московском
университете,
развернулась
вокруг
кандидатур
Троицкого и
Владимира
Соловьева
(см. 11, 143).
Борьба
эта
приобрела
особенно
показательное
значение уже
вследствие
самых условий
выборов. В
заседании 9
декабря 1874
года историко-филологический
факультет
Московского
университета
принял
решение
иметь впредь
по кафедре
философии не
одного преподавателя,
как это было
до смерти
Юркевича, а
двух. При
этом было
решено
баллотировать
предложенных
членами
факультета
кандидатов,
т. е.
Троицкого и
Владимира
Соловьева, не
на одно, а на
оба
преподавательских
места. После
баллотировки
в совете
факультета предстояла
баллотировка
в высшей и
последней
инстанции в
совете
университета.
При
обсуждении
обеих
кандидатур в
совете факультета
были
оглашены,
кроме
«мнения» Иванцова-Платонова,
выдвинувшего
кандидатуру
Карийского,
также и
«мнения»
профессоров
и членов
университетского
совета Н. С.
Тихонравова, Н.
И.
Стороженко,
В. И. Герье.
Первые два
предлагали
избрать на
кафедру
философии
Троицкого,
последний
Владимира
Соловьева.
Рекомендации,
сделанные
Тихонравовым
и Стороженко,
показывают,
что среди
профессуры
Московского
университета
имелась
группа ученых,
сочувствовавших
тенденции
позитивизма
в науке и в
философии.
Группа эта
была,
несомненно,
шире того
круга лиц,
которые непосредственно
выдвигали
кандидатуру
Троицкого.
Веяния
позитивизма
проникли к
началу 70-х годов
в
университетскую
науку всех
специальностей.
Сочувствовавшие
позитивизму как
научной»
философии
имелись
среди математиков,
физиков,
натуралистов,
историков, экономистов
и
литературоведов.
Молодое поколение
ученых
доценты,
магистранты,
аспиранты было
затронуто
влиянием
позитивизма
в большей
степени, чем
старшее, К
позитивизму
близко стоял
бывший тогда
доцентом
историк литературы
Стороженко,
позитивистом
был командированный
университетом
в Англию будущий
известный
историк и
социолог Максим
(Ковалевский.
Но и среди
профессоров
старшего
поколения
были
сочувствовавшие
позитивизму.
Таковыми
были в то
время,
например,
математик Н.
В. Бугаев,
филолог к
историк
литературы Н.
С. Тихонравов
и ряд других.
Всем
этим ученым
позитивизм
импонировал как
направление,
па знамени
которого
стояли
научное
обоснование
философии,
научный
метод
изучения положительных
фактов,
логика
научных приемов
мысли. Не
разбирались
досконально
в том,
насколько
этой
афишированной
позитивизмом
научности
соответствовали
действительные
научные
достоинства
его
мировоззрения
и метода.
Уважая в
позитивизме
якобы
«последнее» слово
«научной»
философии,
ценили в нем
в то же время
отсутствие
того, что так
пугало в материализме:
радикальных
материалистических
и социальных
решений и
выводов.
Подобными
мотивами
руководились
Тихонравов и
Стороженко,
предлагая
кандидатуру
Троицкого. Но
так как в
кулуарах
факультетского
совета была
еще свежа
память о
провале
диссертации
Троицкого
257
локойным
Юркевичем и
так как в
напечатанных
рецензиях на
эту
диссертацию,
принадлежавших
перу
Сидонского и
Владиславлева,
имелись,
несмотря на
благоприятный
общий вывод,
критические
возражения, то
оба
московских
профессора,
рекомендовавших
Троицкого,
позаботились
не только о том,
чтобы
подробно
обосновать
свою рекомендацию,
но также и о
том, чтобы
парализовать
сделанные
петербургскими
рецензентами
по адресу
Троицкого
упреки и
замечания.
При этом
оба ученых,
представлявших
Троицкого к
избранию,
постарались
стушевать все
опасные для
Троицкого
моменты и в
то же время
соблюсти весь
декорум
полной
беспристрастности
и объективности.
В своих
«мнениях»,
поданных в совет
факультета,
они
ссылаются на
отзывы Сидонского
и
Владиславлева,
но таким
способом, что
положительные
выводы этих
отзывов
излагаются
подробно,
выдвигаются
на первый план,
а все
критическое
и
отрицательное
в этих отзывах
или
упоминается
вскользь,
скрадывается,
или прямо
оспаривается,
подвергается
сомнению.
Характеризуя
труд
Троицкого о
немецкой психологии
в то время
главное его
произведение
(ни «Науки о
духе», ни «Учеб.ника
логики» тогда
еще не
существовало),
Тихонравов
подчеркивал
как основную
идею всего
сочинения и
мировоззрения
Троицкого общую
у него с
позитивистами
мысль об ограниченности
умственных
сил человека
в решении
вопросов о
высших
предметах» (11, 11).
«Английская
философия,
писал
Тихонравов,
которая
стоит на той
же точке
зрения, по
тому самому
встречена
автором с
особенным
сочувствием.
Автор
воспользовался
всем
историческим
материалом,
представленным
английскою
психологией,
для
доказательства
того, что исследование
души, не
претендуя на
разгадку ее
природы,
помимо
данных
внутреннего
опыта и
наведений,
должно быть
по методе
аналитического
или
индуктивного
характера» (11, 1112).
По
существу
представление
Тихонравова
содержало в
себе не
только
формальное
обоснование
выдвигавшейся
им
кандидатуры,
но также
одобрение
(впрочем,
очень
тактичное и
сдержанное)
или
рекомендацию
направления,
к которому
принадлежал
предлагаемый
кандидат.
Сходный
характер
имело и
представление,
сделанное
Стороженко. И
этот
последний
подчеркивал
главенство
методологических
интересов в
труде
Троицкого,
высоко
научный дух
его метода и
мировоззрения,
близость к позитивной
школе
философии.
«Основная мысль
автора,
писал
Стороженко,
доказываемая
им на всем
протяжении
его
обширного
труда, состоит
в том, что
индуктивный
метод,
приложение
которого к
области
естественных
наук дало
такие
блестящие
результаты,
есть самый
достоверный
научный
метод
исследования
проблем
психологических»
(11, 1112). «Занятый
исключительно
вопросом о
методе, автор
посвящает
несколько
начальных
глав своего
труда
историческому
очерку
обработки
теории
психологического
метода;
выработанная
таким
образом
теория
становится в
руках его
критериумом,
который он
прилагает
поочередно к
психологическим
трудам
сначала
англичан, а
потом и
немцев» (11, 1112).
Нельзя
отказать
Стороженке в
искусности и
дипломатичности
его доводов.
Наиболее неблагоприятным
для
Троицкого
моментом была
подчеркнутая
не только
покойным
Юркевичем, но
и более
благосклонными
петербургскими
рецензентами
тенденциозная
недооценка
немецкой
психологии и
философии за
счет
некритически
и односторонне
превозносившейся
английской.
Ученичество
немецкой
школы
Троицкий
сменил не на
зрелость
самостоятельной
и критической
мысли, а на
уче-
258
ничество
школы
английской,
авторитет
Канта и
Гегеля на
авторитет
Рида, Томаса
Броуна и Д. С.
Милля.
Стороженко
искусно
стушевывает
эту новую
вариацию
научной
несамостоятельности.
Он
представляет
совету дело
так, как если
бы критика и
огульное
отрицание
всех результатов
немецкой
философии
вытекали у
Троицкого не
из
субъективной
тенденции, а
из научного
метода, самим
Троицким
выработанного
и
прилагаемого
с равным
беспристрастием
к обеим
школам: к английской
не менее, чем
к немецкой.
Обе
рекомендации
имели целью
не только обосновать
в наиболее
благоприятном
для
Троицкого
свете его
кандидатуру,
но и
противопоставить
Троицкого
как
представителя
«научной»
философии
кандидату,
выставленному
другой партией,
Владимиру
Соловьеву.
Это не была,
разумеется,
борьба между
материализмом
и идеализмом,
но борьба
между двумя
фракциями
внутри идеализма.
Эмпирический
идеализм и
позитивистический
агностицизм
Троицкого
противопоставлялись
мистическому
идеализму Соловьева.
Противопоставление
подчеркивалось
тем фактом,
что Соловьев
только что
защитил в Петербурге
диссертацию,
специально
направленную
против
позитивистов.
Таким
образом, советам
факультета и
университета
приходилось
решать
вопрос не
только о
научной и
педагогической
подготовке,
об ученых
достоинствах
обоих
кандидатов,
но прежде
всего вопрос
о том, какое
из двух
направлений
идеализма
позитивистическое
или
мистическое
считать более
приемлемым и
желательным
для университета.
На
первый
взгляд могло
бы
показаться,
что противопоставление
это потеряло
остроту после
того, как
советом
факультета
были учреждены
два места
преподавателя
философии и
было решено
баллотировать
на эти места
сразу обоих
кандидатов.
Вполне
естественно
было
предполагать,
как это и
случилось впоследствии,
что
избранными
окажутся сразу
оба
претендента.
В
действительности
предвыборная
борьба
оказалась
более острой.
Во-первых, результат
первой
баллотировки
в совете факультета
получился
весьма
неблагоприятный
для
Троицкого: в
то время как
Соловьев получил
восемь
избирательных
голосов и всего
три
неизбирательных,
у Троицкого
избирательных
было всего
четыре, а
неизбирательных
целых
восемь. Таким
образом,
совет того
самого факультета,
профессором
которого
хотел стать
Троицкий, в
своем
заметном
большинстве
отнесся
отрицательно
к его
кандидатуре.
Не
оставалось
никакого
сомнения в
том, что совет
факультета
предпочитал
иметь на кафедре
философии
идеалиста-мистика,
а не идеалиста-эмпирика,
индуктивиста
и позитивиста.
Но на
этой стадии
вопрос о
судьбе обоих
кандидатов
еще не
решался.
Предстояла
решающая
баллотировка
в совете
университета.
И тут оказалось,
что по
крайней мере
для некоторых
членов
университетского
совета вопрос
о возможном
избрании
обоих
претендентов
имел не
формальное
только
значение, но
превратился
в
принципиальный
вопрос. Речь
шла о том,
допустимо ли
совместное
преподавание
двух лиц,
принадлежащих
к двум
.различным и
даже, как
ошибочно
казалось
некоторым, к
противоположным
направлениям
позитивизма
и спекулятивного
идеализма.
Так был
поставлен
вопрос
профессором
А. М. Иванцовым-Платоно-вым,
тем самым,
который выдвигал
кандидатом
Карийского. В
специальном
«мнении»,
представленном
в
историко-филологический
факультет,
Иванцов-Платонов,
не возражая в
принципе
против
института
двух
преподавателей
философии,
доказывал,
что в данном,
конкретном
слу-
259
чае,
когда оба
кандидата
оказались
представителями
направлений,
во многих
отношениях
противоположных,
избрание обоих
вместе
должно быть
признано не
только
нецелесообразным,
но прямо-таки
немыслимым.
В своем
противопоставлении
обоих кандидатов
Иванцов-Платонов
не
ограничивается
формальным
указанием на
различия
между ними.
Он стремится
точно
сформулировать
принципиальную
суть
имеющихся
разногласий.
И хотя он при
этом явно
преувеличивает
эти разногласия,
истолковывает
эмпиризм и
позитивизм Троицкого
в духе,
приближающем
точку зрения
Троицкого к
материализму,
однако это
преувеличенное
и ошибочное
противопоставление
с тем большей
резкостью
подчеркивало,
что в центре
внимания
Иванцова-Платонова
стояла принципиальная
противоположность
двух основных
направлений
философии.
«Предлагаемые
кандидаты,
писал
Иванцов-Платонов,
до того
расходятся
между собою в
своих
взглядах,
научных приемах
и отношениях
к предмету,
что совместное
существование
их на одной
кафедре, по моему
мнению, не
только не
принесло бы
желаемой от
преподавания
философии
пользы, но
существенно
могло бы
вредить тому
и другому
преподавателю,
и еще более
самой науке,
преподаваемой
одним и тем
же
слушателям, в
двух
радикально
противоположных
направлениях...
Один из
предлагаемых
кандидатов
(Вл. Соловьев. - В.
А.) по
преимуществу
метафизик;
другой
решительно
отрицает
всякую метафизику
(Троицкий.В.
А.). Один по
преимуществу
поклонник
философского
идеализма и
строго
силлогистической
методы
мышления;
другой
относится е
крайним
несочувствием
ко всякому
идеализму и, признавая
индуктивную
методу
единственным
органом
науки о
веществе, и
духе, считает
силлогистическую
методу
безусловно
несостоятельною.
Один с особенною
любовью и
уважением
относится к
послекантовскому
периоду
германской
философии,
хотя и не
разделяет
различных
его односторонностей
и увлечений.
По мнению
другого, «вся
эта философия
есть ложь в
квадрате и
кубе, ложь, разрастающаяся
во все
стороны и
совершенно
закрывающая
собою
действительность:
идеализм,
переходящий
в
патентованную
чепуху, и
реализм,
доходящий до
возбуждения
тошноты» (11, 2223).
При такой
крайней, по
мнению
Иванцова-Платонова,
противоположности
в общих отношениях
к предмету у
обоих
кандидатов
«естественно
расходятся
взгляды по
всем частным
самым важным
вопросам» (11, 24).
Например, по
мнению
одного, Кант
«есть замечательнейший
представитель
философской
критики»; по
мнению
другого, «у
Канта слово
«Kritik» осталось
на заглавных
листах его
сочинений; у
него не было
даже ни
малейшего
предчувствия
того, что
такое в науке
истинная
критическая
метода; и
кантовская
идея философской
критики
осталась
мертворожденной
для
дальнейших
судеб
немецкой
науки о духе».
По мнению
одного,
система
Гегеля есть
замечательнейшее
произведение
философского
творчества,
по мнению
другого, «в
этой системе,
гордящейся
абсолютной
методою, господствует
самый дикий
произвол,
пустая игра
понятиями,
переходящая
часто в
чепуху» (11, 24).
«Если
такой
крайний
дуализм,
доказывал
Иванцов-Платонов,
трудно было
бы допустить
в преподавании
какой бы то
ни было
науки, то тем
более
невозможно
его
допустить в преподавании
философии,
которой
задачи отличаются
особенною
серьезностью,
значительностью
и вместе с
тем
отвлеченностью,
трудностью
для молодого
понимания» (11, 25).
Подобный
дуализм
недопустим,
по мнению Иванцова-Платонова,
не только с
принципиальной,
но и с точки
зрения
практической,
с точки зрения
интересов
преподавания.
«Один
преподаватель,
разъяснял
Иванцов-Платонов,
будет стараться
развивать в
своих
слушателях
260
правильное,
логическое
мышление,
другой будет
внушать им
презрение к
силлогистической
логике, как к
самому
вредному и
одуряющему
средству
воспитания.
Один будет
стараться
заинтересовывать
своих
слушателей изучением
замечательнейших
систем новой германской
философии;
другой будет
отвращать их
от этого
философского
сумбура, который
может производить
только
головокружение
и тошноту» (11, 2526).
На
основании
этих
соображений
Иванцов-Платонов
предлагал из
двух
имевшихся
кандидатов
«избрать
сначала
одного, а
потом уже к
тому
кандидату,
которому
будет
оказано предпочтение
на
баллотировке,
приискивать
другого,
более
соответственного
по
направлению»
(11, 26).
Предложение
это было
сформулировано
в духе полной
беспристрастности.
Но в развитой
Иванцовым-Платоновым
характеристике
краски были
положены так,
что точка
зрения Троицкого
неизменно
выставлялась
в каком-то
ироническом
свете, с
оттенком
явного
осуждения и
пренебрежения.
Ввиду
таких
обстоятельств
можно было
опасаться,
что при
баллотировке
в совете университета
Троицкого
вновь
постигнет
неудача,
подобная испытанной
им в совете
факультета.
Профессора,
сочувствовавшие
влияниям
позитивизма,
должны были
не медлить с
ответными
мерами и
оказать
противодействие.
Такое
противодействие
было оказано
в лице
профессора Н.
В. Бугаева.
Профессор
математики,
проявлявший
большой
интерес к
проблемам
философии,
Бугаев в ту
пору был
сторонником
позитивизма
*. Точка
зрения
Троицкого,
развитая в
«Немецкой
психологии»,
импонировала
Бугаеву близостью
к взглядам
хорошо
известных
ему корифеев
английского
позитивизма.
С другой стороны,
признавая
выдающуюся
талантливость
во Владимире
Соловьеве,
Бугаев не
только отрицательно
относился к
мистицизму
Соловьева, «о
просто-напросто
сводил этот
мистицизм к
одной
патологии.
Движимый
этими
соображениями,
Бугаев решил
использовать
все свое
влияние на
членов
университетского
совета. Необходимо
было
рассеять
изложенные
Иванцовым-Платоновым
сомнения
относительно
возможности
иметь на
кафедре
философии
двух
преподавателей
различных
направлений. В
специальной
записке,
представленной
в совет
университета,
Бугаев
доказывал,
что практика
западных
университетов
полностью
опровергает
опасения
Иванцова-Платонова.
На Западе,
как указывал
Бугаев,
постоянно
заботятся о
том, чтобы
кафедры
философии
были заняты
людьми,
принадлежащими
к разным
философским школам.
Этим
способом
стараются в
философском
преподавании
избегнуть
односторонности
и исключительности.
Однако в
том
конкретном
случае, о
котором идет
речь, как
утверждал
Бугаев, не
приходится
даже
говорить о
полной
противоположности
направлений
обоих
кандидатов.
Для
доказательства
своей мысли
Бугаев сопоставляет
взгляды
Троицкого и
Соловьева на
силлогизм,
дедукцию и
индукцию.
Вопреки мнению
Иванцова-Платонова,
который
нашел у
Троицкого
полное
отрицание
силлогизма и
формальной
логики,
Бугаев
доказывает,
что мнение
Иванцова
есть простое
недоразумение.
В действительности,
утверждая,
будто
силлогизм
может быть
органом
науки только
под условием
индукции,
Троицкий
предлагает
«не отрицание
силлогизма, а
объяснение
отношения
силлогизма к
индукции» (11, 32) **,
не только не
отрицает
силлогизма,
но и признает
педагогическую
пользу
преподавания
силлогистического
искусства» (11,32).
Но и
Соловьев, так
доказывал
Бугаев
ссылками на
только что
напечатанную
диссертацию
Соловьева,
«не только не
отрицает
индукции,
261
а
напротив, и
не признает
никакой
другой методы,
кроме
индуктивной,
и силлогизм
или вывод a priori
ставит в
исключительную
зависимость
от эмпирических
данных» (11, 32).
Не видит
Бугаев
противоречий
и в историко-философских
взглядах
обоих
претендентов.
В стремлении
сгладить все
различия и
противоречия
между ними
Бугаев
пускается в
довольно-таки
наивную
дипломатию.
Он всячески
стремится
смягчить
резкость
критики, с
какой
Троицкий обрушился
на
идеалистов-диалектиков,
и утверждает,
будто
резкость эта
появляется у
Троицкого
«или тогда,
когда он
замечает у
некоторых
немецких
философов
неуважительное
отношение к
идее
божества, или
когда он
воспроизводит
приговоры
других
немецких
философов» (11). С
другой
стороны, и
Владимир
Соловьев, как
указывал
Бугаев, не
останавливается
иногда перед
крайне
отрицательными
и резкими оценками
крупнейших
немецких
философов.
Основываясь
на этих
соображениях,
Бугаев призывал
совет
университета
баллотировать
обоих
кандидатов
на оба
преподавательские
места по
кафедре
философии.
Совет
убедился
доводами
Бугаева, и в
результате
баллотировки
избранными
оказались и
Троицкий и
Соловьев: первый
в
профессоры,
второй в
доценты.
Формально
Троицкий
поражения не
потерпел. Но
его
моральное
положение
было незавидно:
в Московский
университет
он прошел голосами
не будущих
своих
товарищей по
факультету, но
головами
сочувствовавших
позитивизму
членов
других
факультетов.
На факультете
Троицкому
угрожала
перспектива
явной изоляции,
которая еще
более
подчеркивалась
успехом
Соловьева.
Так
закончился
этот
любопытный
эпизод из истории
борьбы
философских
направлений
в Московском
университете
в 70-х годах прошлого
века. Эпизод
этот
доказывает,
какой
большой
интерес
вызвал в
кругу
университетских
ученых
вопрос о
характере и
направлении
той
философии,
которая
должна преподаваться
с
университетской
кафедры. В борьбе
приняли
участие
профессоры
самых
различных
специальностей
от
математика
Бугаева до
филологов
Тихонравова
и Стороженко.
Ученые не
специалисты
по философии,
но заинтересованные
в судьбе
философской
кафедры,
пишут
пространнейшие
доклады, в
которых
подробно
обсуждают и
сопоставляют
философские
воззрения и
направление
всех
выдвинутых кандидатов.
Подготовляя
эти доклады,
они не только
изучают
труды
соревнующихся
претендентов,
но изучают
психологическую
и философскую
литературу
по вопросам,
составляющим
предмет
спора. Они
пускают в ход
все средства
убеждения
от
методологической
и логической
аргументации
до
дипломатической
«ретуши» наиболее
щекотливых
моментов.
Напряженности
этой борьбы
не
соответствуют,
однако,
ясность и
отчетливость
философского
понимания. Позитивизм
философское
направление,
стоящее в
центре всей
этой борьбы,
отвергается одними
и
приветствуется
другими
некритически,
без ясного
понимания
его
идеалистической
сущности, без
должной
ориентировки
в его логике,
в его
исторических
корнях, не
столько на
основе
продуманной
аргументации,
сколько в
силу
аффективной
неприязни
или, напротив,
почтительной,
некритической
веры. Исключение
составляют
отклики
Сидонского,
Никанора, не
только
тенденциозные
в идеалистическом
и
теистическом
смысле, но и весьма
проницательные
в смысле
историко-философской
ориентировки
и
гносеологической
критики.
Однако
отклики эти
исходят от
людей,
стоящих вне
университетского
круга.
Изучение
различных
перипетий
борьбы доказывает
факт
проникно-
262
вения
позитивизма
в ученый круг
Московского
университета
и вместе с тем
непрочность
его
положения и
слабость его
влияния,
особенно на
историко-филологическом
факультете.
Для
большинства
профессоров
этого
факультета
даже
позитивизм
казался
слишком еще
«радикальным»,
«левым», «опасным»
философским
течением.
Торжествовала
более
традиционная,
респектабельная
по отношению
к немецкому
идеализму,
верная религии
и мистике
форма
философского
идеализма.
Только
болезнь и
смерть
Юркевича
помешали
торжеству
этого
идеализма
оказаться еще
более полным.
Болезнь эта
помешала
Владимиру
Соловьеву,
молодому
тогда
магистранту
философской
кафедры
Московского
университета,
закончившему
в 1873 году
магистерскую
диссертацию,
защищать ее
здесь же, у
Юркевича, в
Московском
университете.
Диссертация
Соловьева называлась
«Кризис
западной
философии».
Но «кризис»
этот
Соловьев
находил не
только в развитии
классической
западной
философии, а также
и даже
прежде всего
в состоянии
современного
позитивизма.
Выше уже
отмечалось,
что
подзаголовок
диссертации
Соловьева гласил
«Против
позитивистов»
Диссертация
эта не была
плодом
непосредственного
влияния на
Соловьева
философских
идей,
разрабатывавшихся
в Московском
университете.
В
студенческие
годы Соловьев
развивался
вне прямого
воздействия
своих
учителей и
только к концу
ученичества
сблизился с
Юркевичем.
Однако
выросшие вне
круга
университетской
философии
идеи
Соловьева в
гораздо большей
степени
отвечали
тенденциям,
которые
укоренились
на
историко-филологическом
факультете
университета,
чем идеи
позитивизма
и эмпиризма.
Поэтому, не
будучи
плодом
прямого
влияния университета
на Соловьева,
философия
Соловьева
могла стать
силой,
способной
влиять на
философское
направление
университета.
Так и
случилось
впоследствии,
когда вокруг
философской
кафедры
Московского
университета
объединились
и стали
определять
ее направление
друзья и
соратники
Соловьева Л.
М. Лопатин, С. Н.
Трубецкой и
др.
Но в
середине 70-х
годов время
для этого еще
не наступило.
О силе
будущего
влияния
Соловьева в
Московском
университете
можно судить
только по успеху,
с каким
прошла его
кандидатура
на выборах по
кафедре
Успех этот
был основан на
впечатлении
от его
диссертации,
защита которой
состоялась,
однако, не в
Москве, а в Петербурге.
В
философской
борьбе,
происходившей
внутри
Московского
университета,
роль
диссертации
Соловьева
была
косвенной. Диссертация
достаточно
определила
лицо философа,
характер
идеализма,
провозвестником
которого он
выступил,
качество его
дарования.
Но, когда,
защитив
диссертацию
в Петербурге
и будучи
избран на
кафедру
Московского
университета,
Соловьев
вернулся в
Москву уже как
доцент этого
университета,
борьба была
уже позади. В
сущности, она
не была для
Соловьева
трудной И
если
Соловьев не
усидел в Московском
университете,
то причины
этого факта
лежали не в
условиях его
деятельности
и не в
отношении к
нему
профессуры, а
в тех чертах
и
особенностях
его
характера,
которые
плохо
вязались с
деятельностью
профессора и
которые
вскоре
увлекли
Соловьева в богословие
и в
публицистику.
Во всей
этой борьбе
вокруг
позитивизма,
развернувшейся
в 70-х годах в
Московском
университете,
должен быть
отмечен еще
один факт.
Это
открытое выступление
против
позитивизма,
сделанное
нефилософом
по
специальности,
профессором
математического
факультета В
Я. Цингером.
12 января 1874
года на
торжественном
годичном
акте
Московского
263
университета
в
присутствии
большого числа
студентов,
профессоров
и
посторонних
университету
лиц В. Я.
Цингер
произнес
речь на тему:
«Точные науки
и позитивизм»
(см. 13,3998).
Выступление
Цингера
отличалось
одной важной
чертой от частых
в то время
критических
нападок на позитивизм
и
позитивистов.
Мы не раз уже
отмечали, что
значительной
долей своего
успеха там,
разумеется,
где он его
имел,
позитивизм
был обязан
своей
репутацией
«научной философии».
Репутация
эта
создавалась
и раздувалась
прежде всего
самими
позитивистами.
Они
провозгласили
позитивизм
«научной
философией»,
а самих себя
ее представителями
еще прежде
того, чем их
признали в этом
качестве
подлинные
представители
подлинной
науки.
И все же
эта
«самоаттестация»
имела
известное
действие.
Многие
ученые, а еще
более
широкие
круги
образованной
части общества
склонны были
прислушиваться
к голосу
позитивистов,
так как
видели в них
«научную
фракцию
философов».
Критика
умозрительного
метода,
пропаганда
индуктивной
логики, отказ
от
исследования
сверхчувственных
сущностей
все эти
тенденции
позитивизма
казались
совпадающими
с принципом
научного мышления,
научного
метода и
познания. За
эмпиризмом и
индукцией не
замечали
идеалистической
их основы, за
отрицанием
сущностей не
видели
агностицизма,
враждебного
материализму
и терпимого к
мистике.
Обычные
идеалистические
соперники и
противники
позитивизма
критиковали
его философские
принципы и
основы, но не
посягали на
его
репутацию
«научной
философии».
Для этих
критиков
вопрос шел
лишь о том,
достаточен
ли тот
научный
принцип, который
выдвигал как
свое знамя
позитивизм.
Но в том, что
этот принцип
был научным,
у большинства
критиков не
возникало
сомнений.
Цингер
нанес
позитивизму
неожиданный
удар именно с
этой стороны
со стороны,
которую сами
позитивисты
считали
неуязвимой и неприступной.
Он решил
доказать
перед лицом
авторитетного
ученого
собрания и
перед
многочисленной
образованной
публикой, что
«научность»
позитивной
философии
мнимая и что
репутация
научной
философии,
которой
козыряет
позитивизм,
лишена
серьезного
основания.
Первым
предметом
своей
критики
Цингер выбрал
Конта того
корифея
позитивизма,
научный
авторитет
которого
почитался
особенно
высоким. Не
входя в
оценку
взглядов и
учений Конта,
лежащих вне
границ
собственной компетенции,
Цингер в
своем
докладе
подверг критике
только
учение Конта
о математике.
Для той
цели, которую
поставил
перед собой Цингер,
трудно было
выбрать
предмет
более подходящий.
Ведь Конт сам
был по
профессии преподавателем
математических
наук! Математика
составляет
одно из
оснований в
контовской
иерархии, или
системе,
положительных
наук.
И вот
против этого
оплота
контовской
системы
Цингер,
авторитетный
и
талантливый
профессор
математики,
направил
острие своей
критики.
Критика эта
оказалась
беспощадной.
В обстоятельном
разборе
Цингер
показал, что Конт
«не усвоил
вполне даже
первых начал
науки, не
говоря уже о
ученой
литературе,
которая в то
время была
весьма
богата
важными исследованиями,
но о которой
в обзоре
Конта почти
нет и помина» (13,
52).
За
доказательством
сбивчивости
и шаткости
основных математических
и
механических
понятий Конта
у Цингера
следует
доказательство
такой же
шаткости и
необоснованности
философских
конструкций
Конта и
Милля. Обоим
корифеям
позитивизма
Цингер
ставил в вину
«отрицание
всякого
философского
знания» (13, 59),
слепой и
односто-
264
ронний
эмпиризм,
непоследовательность
в проведении
собственных
принципов.
«Отвергая по
произволу
многие из
научных
результатов
и признавая
за выводы
строго
опытного
знания
многие
произвольные
фантазии,
которых не
допустила бы
никакая
метафизика,
позитивисты,
говорил
Цингер,
более чем
кто-либо
искажают
науку и
обнаруживают
крайнее к ней
неуважение» (13,
61).
Особенно
сильны
упреки
Цингера по
адресу Милля,
у которого не
остается уже
и следа от
призрачной
логической
систематичности
Конта: «Милль
руководствуется
не
убеждением, а
тенденцией;
он по
природе
софист,
опутывающий
и читателя и
самого себя
блестящею
смесью
фактов, цитат
и остроумных
оборотов» (13, 65).
Отвергая
научную
обоснованность
философских
понятий
позитивизма,
Цингер
поставил вопрос
о причинах,
которые
поддерживают
иллюзию
научности
этой
философии.
Одной из этих
причин он
считал то,
что знаменем,
«под которым
вступил
позитивизм
на философское
поприще»,
было «знамя
точных,
строгих, бесспорных
знаний,
всегда
поверяемых и
подтверждаемых
опытом» (13, 8283).
Эта
характеристика
позитивизма
завершалась
у Цингера
заключением,
согласно
которому
позитивизм
«есть
доктрина, не
допускающая
критики и
обсуждения:
он живет
главным
образом
готовыми
мнениями и
теориями» (13, 84).
Именно эти
качества
позитивизма
привлекают к
нему, по
Цингеру, таких
ученых, как
Дюринг.
Но
критика
позитивизма,
развитая
Цингером, не
ограничивалась
вопросом о
научных понятиях.
Критика эта
переходила
из области науки
в область философии.
И здесь
обнаруживалось,
что критика
эта велась
Цингером с
позиций
рационалистического
идеализма
(см. 13, 8698). В то
время как
богословы
критиковали
позитивизм
во имя
мистики и
религии,
Цингер
критикует
его с точки
зрения
рациональных
начал точной
науки. «В деле
мысли и
науки,
говорит он, существование
разума есть
основной,
первоначальный
факт, который
не может без
противоречия
подвергаться
сомнению» (13, 86).
По Цингеру,
сила точных
паук не в
обладании
внешним миром,
которое
остается
всегда неполным
и частичным,
а «в полноте и
твердости
познания тех
более
простых
предметов, которые
создаются
самим
разумом для
того, чтобы
служить
типом и мерою
опытного
знания» (13, 93).
Точные науки
отличаются
особой
достоверностью
именно
потому, что
«имеют дело с
такими
идеальными
предметами и,
не стесненные
эмпирическими
требованиями,
могут вполне
овладеть ими,
могут
исследовать их
чисто
логически и
достигать
этим путем весьма
важных и
глубоких
познаний» (13, 95).
Рационалистический
идеализм
кажется Цингеру
более
близким к
точным и
естественным
наукам, чем
позитивизм.
Правда,
идеализм,
Цингер
признает это,
«уже отжил
свой век; но
после него
вместе с
минувшей
славой,
вместе со многими
ошибками и
заслуженными
упреками остается
для науки
богатое
умственное
наследство,
еще не
разобранное
и не
приведенное
в порядок» (13, 97).
Речь
Цингера
произвела
сильное
впечатление
и была
крупным
общественным
событием (см. 10,
377). В разгар
всеобщей
веры в
позитивную философию
как в
философию
научную
Цингер подорвал
самые основы
этой веры. В
этом
заключалось
известное положительное
значение
выступления
Цингера.
Впервые в
Московском
университете
серьезным
ученым была
сделана
попытка
показать, что
наукообразность
не есть еще
наука и что
клятва от
имени науки
остается
только
пустым звуком
до тех пор,
пока она не
получит
оправдания в
подлинных
делах науки.
265
Вместе с
тем Цингер
напоминал,
что в классическом
идеализме
имелось
научное
содержание,
которого и
следа не было
в позитивизме
и которое
требовало
дальнейшего
развития.
Но Цингер
не понимал
того, что
развитие это
могло стать
истинно
плодотворным
только на основе
материалистической
переработки
понятий
науки и
философии.
Противопоставляя
позитивизму
рационалистический
идеализм,
Цингер
обнаруживал
более
взыскательный
научный вкус и
более
строгий
стиль
мышления, чем
те, которые
отличали его
коллег,
сочувствовавших
позитивизму.
Но вместе с
тем он
обнаруживал
и роковую
отсталость
собственного
философского
мировоззрения.
Он понимал,
что рационалистический
идеализм уже
сошел со сцены,
называл его
«состарившимся
и умирающим
львом» (13, 97) и все
же звал от
идеализма
позитивистического
к
рационализму,
т. е. к другой,
пусть более
строгой,
форме
идеализма.
Свой
доклад
Цингер
закончил
выражением надежды,
что «недалеко
время, когда...
не будет
повода
говорить с
университетских
кафедр о
таких мало
интересных
предметах,
как ошибки и
заблуждения
позитивизма...»
(13, 98).
Надежда
эта
оказалась
явно
преждевременной.
В довольно
значительной
части ученых и
полуученых
кругов
позитивизм
еще долгие
годы сохранял
свою
популярность
и свою репутацию
якобы
научной
философии.
Этой живучестью
позитивизм
был обязан
отнюдь не
собственной
научной и
философской
силе. Он пробавлялся
слабостью
своих
философских
противников
и прежде
всего
отсутствием
на философской
арене того
времени
крупных
материалистов.
Позитивизм
использовал
с выгодным
для себя
результатом
огромную
тягу
передовой части
общества к
научному
оформлению
философии
тягу, которой
не могли
удовлетворить
ни
вульгарный
материализм,
ни обычное
идеалистическое
эпигонство.
Единственная
подлинно научная
форма
материализма
диалектический
материализм
не была еще
известна в то
время
широким
кругам
русского
общества.
Поэтому
борьба
вокруг
позитивизма
не утихала. В
том же 1874 году,
следуя
примеру
Московского
университета,
профессор
Московской
духовной
академии В. Д.
Кудрявцев
произнес 1
октября на
публичном
акте
академии
речь против позитивизма
(см. 8). В 1875 году
появился
направленный
против
позитивизма,
не раз уже
упоминавшийся
выше труд
епископа
Никанора. И даже
в 1892 году
последний
могикан
русского гегельянства
Б. Н. Чичерин
нашел еще
необходимым
свести
теоретические
счеты с
позитивизмом
в
обстоятельном
критическом
исследовании
(см. 24, 333390). Но все
эти события
философской
борьбы
против
позитивизма
разыгрались
уже вне стен
Московского
университета.
ЛОГИКА
ОТНОШЕНИЙ В
РАБОТАХ
ШАРЛЯ
СЕРРЮСА
I.
ЛОГИКА
ОТНОШЕНИИ И
ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНАЯ
ЛОГИКА
Логика
отношений
возникла из
так называемой
«пропозициональной»
логики, или
«логики предложений»
* как
обобщение и как
обогащение
ее учений.
Пропозициональная
логика
изучала
главным
образом
логическую
связь
суждений в
умозаключении
и рассуждении.
Логику эту
часто
называли
«логикой
отношений»,
однако в
действительности
она была лишь
теорией
дедукции,
основанной
на логических
отношениях
между
суждениями
(предложениями).
«Логикой
отношений»
эту пропозициональную
логику
называли
потому, что,
будучи
логикой
предложений,
она в то же
время рассматривает
и отношения
между
предложениями,
а именно
отношения
логического
следования,
или
«импликации».
Напротив,
«логика
отношений», в
собственном смысле
этого
понятия, есть
логика,
изучающая не
только
отношения
между
суждениями, или
предложениями,
но также и
отношения
между
понятиями,
входящими в
суждения.
Отношения,
исследуемые
этой логикой,
в основе
своей
являются
отношениями
«между
предметами, а
не
отношениями между
мыслями» (4, 14)**.
Так же
как и
«пропозициональная
логика» (логика
предложений),
логика
отношений
есть одновременно
и логика
предложений
и логика отношений,
однако в
другом
смысле, чем
первая.
Различие это
обусловлено,
во-первых,
различием
предметов и
различием
самих
отношений, о
которых трактуют
обе эти
логики.
Логика
отношений
подчиняет
дедукцию тем
условиям,
которые выдвигаются
самим
предметом.
Будучи
теорией дедукции,
пропозициональная
логика
исследует
лишь такую
связь
предложений,
которая ведет
к формально
истинному
заключению.
Дредложения,
являющиеся
исходными
суждениями
дедукции,
принимаются
этой логикой
лишь в
качестве
гипотез. Для
нее ссылка на
реальность
не может
играть
никакой роли
в дедукции
ни для выбора
посылок, ни
для
обоснования
вытекающего
из них
следствия.
Основным
логическим
отношением
для «ее
является
отношение вывода.
Но
именно
поэтому
теория
суждения или
предложения,
развиваемая
этой логикой,
оказалась
слишком
формалистичной.
Рассел, например,
определяет
предложение
как «то, что
влечет за
собой себя
самое». Это
определение
предложения
основывается
на двух отношениях:
на отношении
следования
(«импликации»)
и на
отношении
тожде-
267
ства.
Доказываемое
в системе
логики
Рассела в
качестве теоремы
и выводимое
из первых
аксиом этой системы,
определение
это хорошо
выражает сущность
пропозициональной
логики.
Для
логики
отношений
такое чисто
формалистическое
определение
предложения
явно неудовлетворительно.
Дедуктивная
теория
необходима,
но недостаточна.
Она дает лишь
пустую схему
умозаключения.
Необходимо
в отличие от
того, что
способна
дать эта
теория.
рассмотреть
содержание
предложения
и его
структуру. Только
такое
рассмотрение
может дать
реальные
основания
для вывода и
действительно
направить на
верный путь
дедукцию.
Логика
отношений,
так же,
впрочем, как
и логика
пропозициональная,
возникла в
конечном
счете из
логики
Аристотеля.
Поскольку классическая
логика
рассматривала
суждение как
высказывание
о классах и
на первый
план
выдвигала атрибутивную
форму
суждения,
логика эта
была и
логикой
отношения,
так как
принадлежность
класса
классу,
конечно, есть
форма отношения.
Больше того.
В логике
отношений
форма эта
занимает
видное место
в общей
системе групп
и отношений
порядка.
Логика
отношений
есть лишь
обобщение
классической
логики,
приведенное
в
соответствие
с логической
формой
современной
науки в
первую очередь
с логической
формой
математики и
теоретической
физики.
«Обобщить,
говорит
Серрюс, видный
современный
представитель
логики отношений,
не значит
отрицать; это
значит превзойти,
обогатив
форму, вводя
в нее новые элементы
способом, в
результате
которого старая
форма
становится
приложением
новой» (4, 121). С
точки зрения
Серрюса,
современная
логика «не
может быть
даже названа
не-аристотелевской;
скорее
следовало бы
сказать, что
это
нехризипповская
логика, так
как Хризипп,
не
допускавший
случайности
во вселенной,
не мог
допустить
никакого
видоизменения
своих
принципов; но
для
Аристотеля это
только его
понятие
науки,
которое нам
предстоит
вновь
принять; речь
идет только о
том, чтобы
ввести
возможное в
науку, откуда
его исключил
Аристотель» (4,
121).
Но хотя,
таким
образом,
логика
Аристотеля была
первым
усилием
научной
мысли,
направленным
на систематизацию
логики,
учения ее не
просто сохраняются,
но
подвергаются
видоизменению.
Принимая из
логики
Аристотеля
центральное
для нее
учение о
классах в
качестве главы
логики,
современная
логика
отношений
даже это
учение о
классах
стремится
представить
в той более
строгой
научной
форме, в
какую облекли
его новейшие
теоретики
пропозициональных
функций.
В то
время как
логика
Аристотеля
была, по существу,
логикой
понятий и
классов,
современная
логика
отношений
есть логика
суждения в
точном
смысле этого
слова:
отношение
между
терминами
суждения
рассматривается
в ней не как
понятие, а
как основание
предикативной
структуры.
Аристотелевская
логика
сводила
суждение к
формуле SР, логика
отношений
сводит его к
формуле aRb. В
этой формуле R
противопоставляется
своим
терминам а и
b именно б
качестве
основания
предикации. Аристотелевская
логика все
суждения
сводила в
последней
инстанции к
атрибутивным
суждениям.
Логика
отношений
охватывает не
только
атрибутивные,
но и все
возможные другие
виды
отношений.
От
аристотелевской
логики и от
развившейся
на ее основе
схоластической
теории
предложения
логику
отношений
отличают
также
критика
античной
теории
модальности,
введение
учения об
исчислении
вероятностей,
новое учение
об
аксиоматике
и взгляд на
суждение как
на форму,
главенствующую
над понятием.
268
В то же
время логика
отношений
отличается и
от того
расширенного
сравнительно
с аристотелевским
учения об
отношениях,
какое разработала
пропозициональная
логика. Если
отношения
пропозициональной
логики связывают
между собой
различные
суждения, то
отношения
логики
отношений
характеризуют
строение
отдельного
суждения,
обусловленное
объективными
отношениями
предметов.
«Таким образом,
поясняет
эту мысль
Серрюс
существует два
вида
отношений в
познании:
логические отношения,
например
импликация и
объективные
отношения,
например
равенства
или
причинности, которые
связывают
термины
внутри
предложений»
(4, 151).
Но
именно это
стремление
развить
логику как
логику
суждения,
характеризующую
внутреннее
строение
суждения,
привело логику
отношений к
переработке
аристотелевской
теории
суждения.
Согласно
логике отношений,
суждение,
вообще
говоря, не
есть атрибутивная
связь
предиката с
субъектом, но
образует в
целом
предикат: оно
развивается
и
проверяется
в плане
предиката, т.
е. в плане отношения.
Так, в
математическом
суждении а = b предикатом
этого
суждения
будет все в
целом
отношение
равенства а
и b.
Это
«поглощение»
суждения
предикатом
не значит,
однако, будто
логика
отношений
совершенно
изгоняет
субъект из
мысли.
Изгоняя субъект
из состава
суждения,
логика эта
сохраняет
субъект как
ту область
предметности,
или действительности,
в сферу
которой
погружено само
предицирование,
как в свое
основание. Это
понимание
роли
субъекта
отчетливо
выразил
Серрюс. По
Серрюсу,
рассуждение
и мысль всегда
имеют
субъект, так
как говорить
или думать
можно только
о чем-нибудь.
Даже так
называемые
«имперсоналии»,
или
«безличные
предложения»,
также всегда
имеют
субъект.
Таким субъектом
будет,
например,
погода в
выражениях
«тает» или
«моросит».
Больше того.
С точки
зрения
логики
отношений
субъект имеет
значение не
меньшее, чем
даже само
суждение,
однако, по
учению этой
логики,
«реальный
субъект
мысли стоит
вне суждения,
а не заключается
в нем,
суждение же в
целом образует
предикат...
Вместо того,
чтобы
говорить, что
субъект
находится
внутри
суждения, мы охотно
скажем, что
суждение
находится
внутри
субъекта» (4, 153).
Иными
словами,
«субъект» предполагается
логикой
Серрюса в том
смысле, «в
каком
говорят о
сюжете книги,
т. е. в смысле предварительного
полагания некоторой
вещи, о
которой идет
речь и без
которой не
могло бы быть
ни истинного,
ни ложного» (2,20).
Учение о
внеположности
субъекта по
отношению к
суждению и
учение о
познании как
о ряде, или
серии актов
предицbрования,
последовательно
раскрывающих
для знания
все большее и
большее
число сторон
и свойств
предмета, а в
пределе
адекватно
постигающих
его бытие,
имеет явно
материалистический,
хотя самим
автором в
этом
качестве неосознанный
смысл. На это
значение
теории
суждения,
развитой
Серрюсом,
указал в своем
обзоре
французской
философии за
1941 год проф.
Андре Лаланд.
Выясняя
смысл
предложенной
Серрюсом
замены
традиционного
термина «субъект»
суждения
термином
«объект»,
Лаланд подчеркнул,
что это
изменение
касается не только
терминологии.
Изменение
это «стоит в
связи с
существенно
реалистическим
духом, в
котором
выполнена
эта работа» (2, 21).
«Новейшая
наука, так
формулирует
Лаланд мысль
Серрюса,
претендует
достигнуть
не субстанции
вещей, но
лишь
постигнуть
их
закономерность;
однако она
направляет
нас к объекту
и дает нам
возможность
все лучше и
лучше
269
познать
его
посредством
открытия
новых «предикатов»,
которые
являются
законами сосуществования
или
зависимости
между воспринятыми
вещами. Без
сомнения,
прогресс этот
осуществляется
через
заблуждения
и иллюзии, и
следует
остерегаться
принимать
современные
«итоги» наук
за
абсолютные
истины. И все
же науки
тяготеют к
бытию,
которое составляет,
так сказать,
предел их
прогресса. Онтологическая
мысль
сохраняется,
преобразуясь
в мысль
онтогенетическую»
(2, 21).
Это
учение о роли
субъекта для
мышления
напоминает
учение о
субъекте
суждения,
задолго д о
Серрюса и до
современной
зарубежной логики
отношений
выдвинутое
русским логиком
М. И.
Карийским в
его
замечательном
труде
«Классификация
выводов».
«Истинным
субъектом суждения,
писал
Каринский,
всегда
служит неопределенно
мыслимый
предмет, о
котором
всегда
предполагается,
что его
содержание
никак не
исчерпывается
сполна тем
свойством,
каким он
характеризуется
в подлежащем.
Этот
неопределенно
мыслимый
предмет ставится
в суждении
нашею мыслью
в качестве
некоторого,
чего-то
такого, что в
пределах
этого суждения
остается
неисчерпанным
со многих
сторон и что
может быть
исчерпано
сполна в
своем
содержании
лишь в целом
ряде суждений.
Определенное
представление,
которое непосредственно
соединяется
с термином
подлежащего,
имеет своею
целью только
указать на
этот предмет,
только
сделать, так
сказать,
намек на то,
на что
направлена
мысль, чему намереваются
приписать
известное
определение.
Подлинный
смысл
суждений
всегда таков:
предмет,
который
ближайшим
образом
характеризуется
для нас
такою-то
совокупностью
признаков (т.
е., теми
представлениями,
которые
непосредственно
соединяются
с термином
подлежащего),
имеет, кроме
того, еще такие-то
признаки
(соединяемые
непосредственно
с термином
сказуемого).
Определенное
представление,
соединяемое
непосредственно
с термином
подлежащего,
составляет в
сущности
только часть
содержания
предмета» (1, 88).
Таким
образом,
новое
понятие
логики Серрюса
есть понятие
отношения
между
именами или
терминами
суждения.
Здесь
рассматриваются
уже не только
отношения
между
предложениями,
но внутри
предложения
отношения
между именами,
отношения,
которые
трактуются
как формы
предикации и
которые
главенствуют
в организации
суждения.
«Отношения
эти объективны;
они
получаются
не из
простого
сравнения,
произведенного
в области
познания, но
из связи
самих вещей.
Это не
объекты
одного лишь
разума, так
как
отношения
эти, напротив,
мы мыслим в
сфере обекта»
(4, 193).
При этом,
однако, в
логике
исследуется
только
логическая
роль этих
отношений, но
не их конкретное
содержание,
ибо
последнее
принадлежит
только
специальным
наукам.
Так как
логика
отношений
видит в
отношениях,
образующих
суждение, не
объект
только разума,
а отношения,
лежащие в
области
предметов, то
для этой
логики, как
отчетливо
заявляет Серрюс,
«трансцендентальные
логики или
феноменологические
логики (каков
бы ни был их
смысл),
логики Канта,
или Гегеля,
или Гуссерля,
не являются
сами по себе
логиками» (4, 193).
Так как
априорная
дедукция
всех форм отношений
невозможна и
так как
логика имеет только
один
источник,
откуда она
может черпать
эти формы, а
именно
аксиоматики
отдельных
наук, в
которых эти
отношения
уже приняли
абстрактный
вид, то
логика
отношений не
может быть
чисто
формальной
или формалистической
логикой:
«Логика
отношений...
не есть уже
формальная
дисциплина (une
discipline formelle)» (4, 197). Раз дано
отношение, по
сути своей
объективное,
270
мы не
можем a priori
знать его
формальные
свойства, т. е.
образ его
действий в
ходе
дедукций. Так,
например,
формальные
свойства
равенства и
неравенства
может
сделать
известными
нам только
теория чисел.
Положения
эти кладут
четкую грань
между пропозициональной
логикой,
которую, как
уже отмечено,
не раз
ошибочно
смешивали с
логикой
отношений, и
между
логикой
отношений в
точном
смысле этого понятия.
Прозициональная
логика
стремится
быть чисто
формальной
логикой, т. е.
логикой,
совершенно
безразличной
к содержанию
мысли; она не
основывается
на смысле
слов и не
зависит от
связи, данной
объектом.
Но до какого
предела
может быть
доведена эта
независимость?
Пропозициональная
логика претендует
быть именно
такой
формалистической
логикой. Она
допускает
введение
одних лишь
интеллектуальных
отношений,
имеющих
значение
только для
ума и
существующих
только в уме,
и никогда не
вводит
отношений
вещей. (В качестве
таких
отношений
она
рассматривает,
например,
отрицание,
несовместимость
и т. д.) Для этой
логики
истина
зависит
только от
связи
пропозициональных
отношений, т.
е. от
отношений
между
предложениями,
имеющих
отправную
точку в
чистой
аксиоматике.
Серрюс
не отрицает
правомерности
такого исследования,
но он видит в
нем только
первую
ступень в
развитии
логики.
Исследование
это
необходимо,
но
недостаточно.
На второй
ступени
развития
логики
истина
предполагает
уже не только
формальные
отношения
между предложениями,
но также и
адекватность
своему
объекту. На
этой ступени
логика
становится
логикой
отношений. Ее
принципы
черпаются
уже из
содержания
науки и
зависят от
рассмотрения
самого
предмета.
Пропозициональная
логика была,
в сущности,
логикой
дедукции, а
рассматриваемые
ею операции
операциями
анализа.
Вразрез с
логиками,
допускавшими
существование
синтетической
дедукции, Серрюс
полагает, что
дедукция
заключает в
себе лишь
аналитические
операции.
Однако,
как бы совершенна
ни была
дедукция,
предполагаемая
ею
формализация
знания не
может
исчерпать
задачи науки.
Формализация
знания есть стремление
к построению
такой
системы или
таких систем,
в которых
никакое
знание не приходит
извне, но
строго
вытекает,
посредством
дедукции, из
порядка
принципов,
аксиом или постулатов.
Впрочем,
дедукция
лишь
использует
порядок,
который не ею
был создан.
Логика
отношений,
напротив,
исходит из
мысли, что
позади дедуктивных
теорий
всегда
существует
структура,
определенная
предметом, а
также из
мысли, что
существует
установка
знания,
простирающаяся
на этот
предмет (см. 4, 87).
Здесь
наиболее
характерная
черта логики отношений.
Логика эта,
как отмечает
Серрюс, «вышла
из
потребностей
науки» (3, 17)* и
«имеет своим
предметом
умозаключения
науки. Она не
предписывает
своих правил
мысли, но
извлекает их
из уже
сложившейся
мысли» (3, 16).
Соглашаясь с
тем, что
схема
дедуктивной
логики
«соответствует
требованию
ума» (3, 36), Серрюс
подчеркивает
в то же время,
что схема эта
«выражает
систематический
порядок
вселенной».
Существует
глубокая
определяющая
связь между
методами
современного
научного мышления
и учениями
логики
отношений. На
первый план
здесь должны
быть
поставлены
понятия
математики и
теоретической
физики. Таким
было,
например,
новое понятие
множества,
введенное в
математику
Георгом
Кантором.
Канторовское
понятие множества
прочно вошло
в
современную
математику и
повлекло за
собой не
толь-
271
ко
глубокое
преобразование
понятий и методов
этой науки,
но также
глубокое
преобразование
логики.
Понятие
это
отличается
от
аристотелевского
рода или
класса.
Отличие его
от класса в
том, что
множество
уже не
предполагает
«иерархии»
родов и
видов. В
отличие от
класса, множество
может быть
только
целостностью.
Будучи в
некоторых
случаях
столь же
сложным, как
сложен класс,
множество в
гораздо большей
степени есть
группа чисто
сочетательная
(аддитивная).
Класс может
быть частичным,
и выражение
«некоторые
смертные» не
определяет
множества.
Напротив,
множество
нескольких
смертных
предполагает
наличие индивидов
если не
обозначенных
поименно, то
по меньшей
мере
различимых.
В
отличие от
ряда логиков,
противопоставляющих
классы
отношениям,
Серрюс
считает это
противоположение
не
выдерживающим
критики. И
множества, и
классы, как
показывает
Серрюс (4, 243),
являются
отношениями,
так как они
соединяют
свои элементы,
которые в
сочетательной
(аддитивной)
группе
автономны по
отношению
друг к другу.
Сама
разделительность
(дизъюнкция)
есть вид
отношения
или связи. Но
если это так,
то
распространенное
противоположение
логики
отношений
логике
классов
утрачивает значение.
Здесь не
может быть
противоположения
разделительности
и
соединительности,
так как
классы, в
отличие от
простых агрегатов,
предполагают
между собой
«иерархическую»
связь,
которая
делает
возможным расположение
их в ряды.
Развивая
эти мысли в
«Логическом
трактате», Серрюс
критикует
концепции
тех представителей
логики
пропозициональных
функций,
которые
допускают
исчисление
одних лишь
классов.
Теоретики
эти
предполагают,
будто
исчисление
классов
содержит в
себе и поглощает
исчисление
отношений.
Напротив, по
мысли
Серрюса,
понятие
отношения и
более общее и
более
фундаментальное,
чем понятие
класса. До
тех пор пока
логика не
различала
понятия
агрегата,
множества,
класса, основная
роль
отношения
могла
оставаться неосознанной.
Однако такое
положение не
могло сохраниться.
II.
ЛОГИКА
ОТНОШЕНИЙ И
АКСИОМАТИКА
Стремление
поставить
разработку
логики в
связь и в
соответствие
с логическим
типом
понятий
науки
приводит
логику
отношений не
только к
обобщению
логики и не
только к преобразованию
некоторых ее
правил и законов.
То же
стремление
ведет ее и к
новому пониманию
логического
характера и
значения
аксиоматики.
Хотя
значения
истинного,
ложного и
абсурдного,
необходимого
и вероятного,
вероятного и
невозможного
соответствуют
полаганию
отношений,
однако они не
допускают чисто
формальных
приемов
обработки, и
их применение
зависит не
только от
правил формальной
логики, но и
от
содержания
аксиоматик.
Формальная
логика как
таковая
содержит в
себе лишь
идею
импликации и
идею значений
истинного,
ложного,
абсурдного и
т. д. Но, хотя
эти значения
составляют
первоначальный
фон логики,
из них без
наличия
науки нельзя
было бы
ничего
извлечь.
Именно наука
с новым
содержанием
и новой
логической
обработкой
ее понятий
подсказала
Броуэру, Рейхенбаху,
Тарскому
видоизменение,
или расширение
принципов
логики (см. 3, 6062).
Серрюс
не отрицает
того, что
аксиоматики
также
очерчивают
форму мысли.
Однако он подчеркивает,
что, в
отличие от
других
логических
форм,
аксиоматики
предполагают
«приспособление
мысли к
своему
объекту» (3, 65)*.
Логическая
форма
дедукции
совпала бы с
аксиоматикой,
например,
математики
только в том
случае, если
бы для
272
логической
характеристики
математики было
достаточно
характеризовать
математические
науки как
гипотетические
дедуктивные
системы.
Такие
попытки имели
место, но
Серрюс
справедливо
считает их фактически
неудавшимися
и неверными в
принципе. В
действительности
аксиоматика
есть не
столько
логика,
сколько
связь логики
с
определенной
наукой; она
описывает
некоторый объективный
порядок и
дает
возможность
использовать
этот порядок
дедуктивным
способом.
Сама по себе
форма
импликации
пуста и
бесплодна.
То, что в
умозаключении
есть плодотворного,
относится к
отправным
понятиям и к
определяющем
отношениям.
Однако отношения
эти
порождаются
уже не
логикой:
логика как таковая
не вызывает
ни
сопоставления
посылок, ни
мысли о
среднем
термине, она
только
использует
для операций
дедукции
порядок,
который не
был ею
создан.
Именно
поэтому всякий
раз, когда
при
применении
старых логических
форм и правил
к новому
содержанию
наталкиваются
на
непредвиденные
затруднения,
наука
требует или
коренного
изменения
определений
и принципов,
или по
крайней мере
их
модификации.
И хотя
оправданная
опытом
развития
науки
осторожность
требует, чтобы,
допуская
научное
новшество,
доводили до
возможного
минимума
преобразование
применяемых
при этом
методов,
требование
это не должно
быть
абсолютным.
Если
обобщение
старой формы
на основе
принятых
принципов оказалось
бесплодным,
необходимо
решиться на
видоизменение
самой
аксиоматики.
Так поступил,
например,
Гамильтон:
введя
исчисление
кватернионов,
он создал
исчисление,
уже не
отвечающее
правилу
переместительности
произведения.
Но
достигнутая
этим
нововведением
форма
оказалась
способной
развиваться
дедуктивно и потому
была принята
как
необходимая
новейшей
математикой
(см. 3, 6899).
Но то же
происходит
не только в
математике, но
и в логике.
Математика
только
предоставляет
нам образцы
обобщения
своих
понятий и тем
самым
прокладывает
путь логике.
Однако
логика должна
сама ступить
на этот путь
и сама пройти
по нему.
Попытки
спасти
старую
логику путем насильственного
механического
введения в
нее новых
принципов
все
оказались
неудавшимися.
При этом
значение
развития
науки для
развития
логики
настолько
велико и настолько
решает дело,
что, как
отметил
Серрюс, в случае,
если
предстояло
бы выбирать,
выбор не возбудил
бы сомнения:
обреченной
на крушение
оказалась бы
логика, а не
наука.
Так,
современные,
«поливалентные»
* логики «все
родились из
нужд
новейшей
науки, математической
науки, в
которой
введение
канторовского
бесконечного
повлекло за
собой известное
число
парадоксов,
представляющих,
с точки
зрения
классической
логики,
подлинные
противоречия,
а также из
нужд
физических
наук,
сломивших
рамки
старого
детерминизма»
(4, 121). «В то время
как теория
излучений и
теория волновых
колебаний
казались
исключающими
друг друга и
действительно
исключали друг
друга в
понятиях
бивалентной
логики (истинного
и ложного),
необходимо
утверждать их
вместе: там,
где мы
ставили «или»
в смысле
исключающем,
следует
ставить «и» (4, 120).
Итак,
аксиоматики
лишаются
абсолютного
значения. Не
может
сохранить за
ними это значение
даже
стремление
обосновывать
аксиоматики
на
очевидности.
Вопрос о том,
заключают
или не
заключают в
себе
противоречия
наши понятия,
не есть
вопрос одной
лишь логики: «То,
что до
нынешнего
дня могло
казаться лишенным
связи и
стоящим вне
постигнутого
нами порядка,
может не быть
таковым
ввиду неподозревавшейся
нами
сложности
объекта знания.
Не факты, а
наши
принципы
обязаны быть
гибкими» (3, 69).
273
По
убеждению
Серрюса, для
прогресса
знания
построение
аксиоматик
имеет
значение гораздо
большее, чем
голая
логическая
форма
дедукции.
Вопреки
Гильберту и
Расселу Серрюс
полагает,
что,
например,
бесконечное
число не
может быть
образовано
из
логических
констант и
что математика
не может быть
построена
как наука, не содержащая
никаких
данных
опытного
происхождения.
Но если
аксиомы и
принципы
утрачивают
абсолютное
значение, это
не значит,
что выбор их
совершенно
относителен
или произволен
и что между
логиками,
построенными
на различных
математиках,
нет ничего
общего. Несмотря
на явную
многочисленность
предложенных
за последние
десятилетия
аксиоматик,
относительность
аксиом всего
меньше
сказывается
именно в
логике, по
крайней мере
в пропозициональной
логике двух
значений
(истинного и
ложного).
Конечно,
система
Фреге не та,
что Рассела,
и не та, что
Аккермана и
Гильберта.
Фреге
применяет
следование
(импликацию)
и отрицание;
Рассел
разделительное
отношение и
отрицание;
Аккерман и
Гильберт
разделительное
отношение и
импликацию. Однако
если мы ближе
присмотримся
к различиям,
то, как
доказывает
Серрюс, без
труда убедимся,
что различия
эти
относятся
главным
образом к
языку науки,
но не к
существу вопроса.
Одна из этих
логик
выражается в
терминах
импликации и
отрицания,
другая в
терминах
дизъюнкции и
отрицания и
т. д., но аксиомы
этих логик
допускают
непосредственное
преобразование
друг в друга.
Сам
Серрюс
выбирает для
своей логики,
последовательно
изложенной в
«Логическом
трактате»,
систему
Гильберта и
Аккермана. В
этом он не
одинок. Систему
эту
принимают в
настоящее
время Томас
Грин-вуд*,
Марсель
Болл** и даже
сам Рассел.
Серрюс
исходит из
того, что
характерное для
Гильберта и
Аккермана
сочетание
разделительного
отношения и
импликации
отвечает
важным
интересам
логики.
Введение в дедуктивную
теорию
импликации
(которая естественно
ведет к
выводу и
которая, как
видел уже
Фреге, есть
жизненный
нерв
дедукции) способствует
ясности. С
другой
стороны, разделительное
отношение
весьма
оперативно.
Значение его
ясно
выступает в
так
называемой теории
нормальных
форм,
составляющей
важную главу
современной
Логики.
Возникшая в логике
по аналогии
алгебраической
теории канонических
форм (вроде,
например,
уравнения
второй
степени ax2 + bx + c =
0) ***, логическая
теория
нормальных
форм (форм
сочетания и
Дизъюнкции)
сводит к
единству
построения
многообразие
сложных
выражений.
Основанная
на
непосредственном
применении
законов
противоречия
и
исключенного
третьего,
теория
нормальных
форм играет
важную роль в
доказательстве
и при
проверке.
Освобожденная
от признания
какой-либо одной
аксиоматики
в качестве
абсолютно
необходимой,
логика
отношений в
то же время
развивает
учение о
дедукции
более точное
и более
строгое, чем
традиционная
логика. Логика
отношений
развивает систему
дедуктивных
правил,
сохраняющих
силу для
групп
определенных
отношений. Но
логика эта не
предполагает
абсолютной
неизменности.
Ее
исследования
применяются к
различию,
которое
несводимо к
безусловному
единству, но
которое
частичным
образом выражает
объективный
порядок.
Частичным,
так как формальное
соответствие
отношений
всегда есть
только факт и
может быть
всегда
поколеблено
с открытием
другого
факта.
Поскольку
логика
отношений
есть общая теория
дедукции, она
не зависит от
методологий
специальных
наук. Но,
поскольку
отношения,
рассматриваемые
ею, суть
объективные
отношения
предметов, она
всегда
«связана в
своей судьбе
с судьбой
науки и
всегда
готова
подчиниться
ее непредвиденным
потребностям»
(3, 86).
274
Несмотря
на
отмеченные
ограничения,
логика отношений
есть
одновременно
и теория,
исследующая
формы
мышления, и
техника
вывода. В то
время как в
правилах
гипотетического
силлогизма и
в формальной
схеме
дедукции не было,
в сущности,
ничего
оперативного,
в логике
отношений
дедукция
принимает
форму учения
о
комбинаторике
терминов и
отношений, а
также об
оперативном
значении
самих аксиоматик.
Аксиоматики
описывают
операции. Однако
это
операции
более общие и
отвлеченные:
логические
сложение и
умножение,
инверсии,
обращения,
ряды выводов,
основывающиеся
на симметрии,
или
переходности,
или обращаемости
отношений.
Логика эта
учит
использовать
порядок,
выясняемый
наукой,
посредством
правил,
извлеченных
из
аксиоматик.
Она есть
учение, более
обобщенное
сравнительно
с научными
аксиоматиками
и более
плодотворное
сравнительно
с чисто
формалистической
логикой,
распространяющейся
на одну лишь
форму вывода.
В этом смысле
логика
отношений может
быть
характеризована
как логика второй
степени (см. 3, 86).
III.
КРИТИКА
ЛОГИКИ
ОТНОШЕНИИ
ШАРЛЯ
СЕРРЮСА
Уже из
сказанного
может быть
выведен ряд
положительных,
ценных для
науки черт
логики
отношений, и
в частности,
логики
Серрюса.
Главнейшими
из них являются:
1) онтологизм,
т. е.
убеждение в
том, что логические
отношения,
исследуемые
логикой, суть
прежде всего
отношения
предметов; 2)
убеждение в
тесной связи
между
развитием
науки, прежде
всего науки о
физическом
мире, и
развитием
логики; 3)
историческая
точка зрения,
воздающая
должное
значению
классической
логики для
формирования
современной
логики
отношений, в
частности
значению
логики
Аристотеля, 4)
критическое
отношение к
распространенной
в зарубежной
логике чисто
формалистической
трактовке
логики; 5)
критика
отождествления
формальной
логики с
математикой;
6) критика
отождествления
исчисления
классов с
исчислением
отношений и выделение
этого
последнего в
особый раздел
логики.
Однако
при изучении
работ
Серрюса,
крупного
представителя
логики
отношений,
нельзя
отвлечься от
той научной и
философской
действительности,
на почве
которой
работы эти
возникли и
подвергаются
обсуждению в зарубежной
печати.
Стремясь
связать
логику с
современной
физикой и в
меньшей
степени с
современной
математикой,
Серрюс связывает
логику с
наукой,
находящейся
я а Западе в
состоянии до
сих пор не
изжитого
кризиса ее
философских
оснований.
Последние
причины и
основы
философской
стороны этого
кризиса
лежат уже вне
области
науки в особенностях
мышления,
присущих
зарубежным
ученым как
ученым
буржуазного
класса. Научное
содержание
кризиса
состоит в
том, что
новые
понятия о
строении
атомов и об
энергетических
силах и о
процессах,
протекающих
в недрах
вещества,
оказались
несовместимыми
со старыми
механическими
понятиями
классической
физики.
Философское
содержание
кризиса
буржуазной
мысли
состоит з
том, что из
недостаточности
научных
понятий
классической
механики и
физики
буржуазная
философия делает
не те выводы,
какие должны
были бы быть
из нее
сделаны.
В
недостаточности
понятий
старой
физики о
материи и
энергии
буржуазная
мысль видит
доказательство
несостоятельности
философского
понятия о
материи. Но
философское
понятие
материи, как
по-
275
казал
Ленин, вовсе
не связано
необходимой и
неизменной
связью с тем
или иным
исторически
возникшим и
исторически
преходящим, изменчивым
понятием
физики о
материи. Философское
понятие
материи как
об объективной
реальности,
существующей
независимо
от сознания и
отражающейся
в наших
ощущениях, не
затрагивается
и не
колеблется
никакими,
даже самыми
глубокими и
радикальными,
изменениями
в научных
понятиях о
веществе.
Напротив,
буржуазная
мысль
стремится
использовать
противоречия
и перемены в
научных
понятиях о веществе
в качестве
основания
для философского,
в частности
теоретико-познавательного,
идеализма.
Не
удивительно
поэтому, что
зарубежная
логика
отношений,
ставящая
развитие
понятий и
учений
логики в
зависимость
от развития
понятий и
учений
физики,
развивается
в атмосфере
того самого
идеализма,
который на
каждом шагу
примешивается
к учениям
современной
зарубежной
физики.
К
идеализму
клонятся и те
выводы,
которые зарубежная
буржуазная
наука делает
и из развития
новейшей
математики.
Уже
марбургская
школа неокантианства
пыталась
применить
логическое своеобразие
математических
понятий и методов
как средство
защиты
гносеологического
идеализма.
Так,
например, в
высшей степени
поучительная
для логики
история обобщения
понятия о
числе была
использована
логиками
марбургской
школы
(Когеном,
Наторпом,
Кассирером)
для нападок
на
материалистическую
теорию
отражения в
гносеологии.
Развитие
математической
логики,
формализация
математических
аксиоматик,
обогащение
математики
новым понятием
о
бесконечности
были
использованы
в том же
направлении.
Глубокая
погруженность
зарубежной
буржуазной
науки в
атмосферу
философского
идеализма
наложила
свою печать и
на логику Серрюса.
Влияние
идеализма
сказывается
в логике Серрюса
не только вне
и помимо тех
черт и
тенденций
его
логического
построения,
которые мы
признали
плодотворными.
Влияние это
обнаруживается
и в том, что даже
отмеченные
нами
прогрессивные
тенденции
логики
Серрюса
проводятся
автором непоследовательно,
сочетаются и
смешиваются
с чертами и
тенденциями
идеалистическими.
Для
Серрюса
признание
субстанциальности
ошибочно
представляется
несовместимым
со взглядом
на познание,
который в
познании
видит
последовательность
актов предикации,
раскрывающих
все новые и
новые стороны
познаваемого
предмета. Не
зная
материализма
диалектического,
Серрюс
смешивает
признание
«субстанции»,
открытое
признание
материалистической
трактовки
логики с
метафизическим
пониманием
познания
«субстанции»,
с отрицанием,
непрерывного
изменения и
обогащения
наших знаний.
Особенно
слабой в этом
отношении, т.
е. изобилующей
неверными
положениями
или, по меньшей
мере,
положениями
неточными,
сбивчивыми,
противоречивыми,
оказалась
концепция, развитая
в последней
главе книги
Серрюса «Опыт
исследования
значения
логики» (Essai sur la signification de la
logique). Глава эта
посвящена
вопросу об
отношении
логики к
теории
познания и к
философии (по
терминологии
Серрюса к
«метафизике»).
Так же
безуспешно,
как и его
многочисленные
предшественники,
Серрюс
пытается
представить
свою позицию
как такую,
которая
якобы стоит
выше противоположности
материализма
(конечно, именуемого
у Серрюса
«реализмом») и
идеализма.
276
Серрюс
ясно видит
несостоятельность
идеализма, по
учению
которого
«реальное
существование
принадлежит
мыслящему
субъекту» (3, 148) и
который «по
мнению одних,
строит самый
предмет
познания
(чистый
идеализм) или
же, по мнению
других,
ограничивает
себя одними лишь
явлениями
(трансцендентальный
идеализм)» (3, 148).
Вразрез с
этими
учениями
идеализма логика,
как ее
понимает
Серрюс,
«делает
важную
уступку
реализму,
когда она
соглашается
признать
роль объекта
в познании» (3,148).
Но тут же
Серрюс
заявляет, что
позиция идеализма
«шире того,
что можно
было бы о нем
думать после
того, что
было только
что сказано» (3,
148).
«Оказывается,
уверяет
Серрюс,
существует
род идеализма,
вполне
совместимый
с логикой
отношений и
даже
составляющий
единое с этой
последней;
его можно
характеризовать
как релятивистский
идеализм» (3, 148).
Учение это
одновременно
есть и
идеализм
«так как оно
рассматривает
одну лишь
мысль без
реального объекта:
но этот
идеализм
релятивистский,
так как
отношение он
превращает в
само содержание
познания» (3, 148).
Здесь в
рассуждении
Серрюса
явное и притом
непростительное
идеалистическое
заблуждение.
В самом деле:
основанием
для
квалификации
своей логики
в качестве
«идеалистической»
Серрюс
считает то,
что логика
эта
рассматривает
одну лишь мысль
без ее
реального
объекта (см. 3, 148).
Это известное
нам учение
Серрюса,
сводящее
суждение к
предикату, а
«субъект»
суждения (т. е.
его реальный
объект)
выносящее -з
а пределы
суждения.
Но с
каких это пор
мысль о том,
что объект мышления
существует
вне мышления
и что логика
исследует
непосредственно
не самый этот
объект, а
формы мысли о
существующем
вне мысли
объекте,
получила
право
называться
«идеализмом»?
Здесь вопиющая
несообразность.
Нежелание
расстаться с
«почтенным» в
глазах
буржуазных
ученых наименованием
идеалиста
заставляет
Серрюса
называть
«идеализмом»
то, что так
называть нет
никакого
основания.
Если бы
Серрюс был прав,
то всю
формальную
логику
пришлось бы считать
«идеализмом»,
так как
формальная
логика,
предполагая
объективное
существование
предметов
вселенной,
галактик,
звезд,
планет,
растений,
животных,
людей, в том
числе и
буржуазных
идеалистов,
рассматривает,
однако, не
непосредственно
все эти вещи
и отношения
между ними,
но
рассматривает
непосредственно
формы, в
которых
протекает мышление
обо всех этих
объективно
существующих
и
отражающихся
в мышлении
предметах и
об их
отношениях.
Вторым
важным
вопросом, в
котором
обнаруживается
непоследовательность
Серрюса,
влияние на
него
идеалистических
заблуждений
современной
зарубежной логики,
является
вопрос об
аксиоматике.
С одной
стороны,
Серрюса
выгодно
отличает от многих
зарубежных
логиков
убеждение в
том, что
логическая
аксиоматика
кладет
предел
формалистическому
пониманию
логики.
Аксиоматика
область, в
которой на
первый план
выступает
объективный,
независящий
от мышления
порядок,
отношения
между
предметами, а
не только
терминами.
Это та часть
логики, где
формальнологический
аппарат
дедукции
оказывается
связанным с
наглядным
представлением,
где
логическая
форма
оказывается
формой
некоторого
исходного
содержания,
определяющего
технику
формальных
операций. В то
же время
Серрюс далек
от
предпосылок
классического
рационализма,
приписывавшего
аксиомам
безусловную
очевидность
и из этой для
всех единой и
непреложной
очевидности
выводившего
абсолютное
значение как
евклидовой,
так и
логической
аксиома-
277
тики.
Вместе со
всей
современной
наукой математикой
и теоретической
физикой
Серрюс
отрицает
безусловную
очевидность
аксиом,
признает
возможность
многообразия
аксиоматик и,
стало быть,
некоторую их
относительность,
не исключающую,
впрочем,
возможности
перехода от одних
аксиоматик к
другим при
помощи соответствующих
преобразований.
Однако
предложенное
Серрюсом
объяснение
самой
возможности
этого
перехода
совершенно
неудовлетворительно
и стоит в
явном
противоречии
с основной
тенденцией
его логики,
понимающей
отношения
как отношения
между
предметами,
как
некоторый объективный
порядок.
Уступая
внушениям
той самой
идеалистической
философии,
которая в
условиях
кризиса
науки
овладела
умами современных
физиков и
математиков,философии
махизма и
прагматизма,
Серрюс
объясняет
возможность
перехода от
одной аксиоматики
к другой
соблюдением
принципа
прагматического
«удобства» и
принципа
«экономии
мышления»: по
словам
Серрюса.
возможность
этого перехода
«говорит о
простоте
доктрины» (4, 92) и
вместе с тем
«означает...
что выбор
остановили
на наиболее
удобной
системе, «а
формулах
достаточно
простых и по
числу
достаточно немногочисленных»
(4, 92).
Не
больше
вяжется с
основной
здравой тенденцией
логики
Серрюса,
подчеркивающей
объективную
природу и
объективный
источник
логических
отношений,
ряд
замечаний и формулировок,
в которых
Серрюс, в
явном и
вопиющем
противоречии
с собственными
логическими
взглядами,
утверждает
абсолютно
случайный и
даже произвольный
характер
аксиоматик.
С одной
стороны,
Серрюс
показывает
и здесь он
совершенно
прав, что
произвол
геометрий
«превратился
в аналитический
выбор с тех
пор, как они
стали лишь
развитием
группы:
анализ
положения развитием
группы
Клейна,
пространство
Эйнштейна
развитием
группы
Лоренца» (3, 154).
Но если
можно
согласиться
с
утверждением
Серрюса,
согласно
которому
современная
математика
стремится
«устранить
постулирование
в пользу
аксиоматики»
(3, 154), и даже с
утверждением,
что система
аксиом
определяется
сознательным
выбором, то
предлагаемое
Серрюсом
объяснение
оснований
этого сознательного
выбора не
выдерживает
никакой критики.
Противоречие
между общим
направлением
учения
Серрюса об
аксиоматике,
ограничивающим
субъективность
в выборе
аксиом, подчиняющим
этот выбор
соображению
об объективном
порядке
предметной
области, и
между срывами
в
субъективизм
становится
уже совершенно
очевидным
там, где
Серрюс
утверждает,
будто преобразование
аксиоматик
«делает для
нас ясной
абсолютную
случайность
принципов» (3, 69) и
где ссылку на
очевидность
он
провозглашает
«лишь формой
предрассудка»
(3, 69).
Блестящий
пример
совершенно
иного отношения
к развитию
аксиоматики
представляет
деятельность
великого
русского
геометра и мыслителя
Лобачевского.
Никто не
сделал больше,
чем
Лобачевский,
для
разрушения
предрассудка
об
абсолютном
характере и о
безусловной
очевидности
аксиом.
Однако из своего
открытия
относительности
аксиом
Лобачевский
не сделал
никаких
выводов в
пользу
идеализма или
идеалистического
абсолютного
релятивизма.
Напротив, в
течение всей
своей деятельности
Лобачевский
был
принципиальным
борцом
против
кантианского
идеализма в теории
познания и, в
частности,
против
обоснования
геометрии на
идеалистической
теории
пространства.
В учении
Серрюса об
аксиоматике
имеется порок
другого
порядка.
Защищая
правильную мысль
о том, что
вопрос о
содержании
не
278
может
быть выведен
за пределы
логики и что
логический
характер
аксиоматики
определяется
потребностями
науки, стало
быть, особенностями
ее
содержательной
предметности,
Серрюс
именует эту
черту логики
содержания
«интуиционизмом»
или даже
«интуитивизмом».
Происхождение
этой
терминологии
Серрюса
вполне
понятно. Это
не
философская,
но математическая
терминология,
терминология
Броуера и его
математической
школы,
противопоставившей
крайностям
математического
и логического
формализма и
априоризма
систему
обобщения
математики,
основанную
на учете ее
предметной
содержательности.
Однако
ссылка на
источник
термина
Серрюса в
терминологии
одного из
направлений
современной
математики
отнюдь не
делает самый
термин
адекватным.
Правда,
сформулированное
самим
Серрюсом
определение
термина
«интуиционизм»
или
«интуитивизм»
не заключает
в себе
ничего, что
говорило бы о
принципиальной
связи смысла
этого термина
с
философским,
теоретико-познавательным
интуитивизмом.
И
действительно,
согласно
определению
Серрюса,
«интуитивной
логикой
называют
логику,
принципы
которой почерпнуты
в известной
части как бы
мала она ни
была из
науки и
зависят от
рассмотрения
предмета» (4, 15). И
в том же
смысле в
другом месте
«Логического
трактата»
Серрюс
поясняет, что
впредь он
будет
«называть
интуиционистскими
в се системы,
аксиомы
которых
строятся не
на a priori, но на
учете
потребностей
науки» (4, 123).
Конечно,
ученый
формально
имеет право
обозначить
точно
определенное
им содержание
понятия
любым
термином,
лишь бы
только при
этом было
дано
однозначное
определение самого
этого
термина
Но если
термин,
выбранный
для
обозначения
содержания
понятия,
имеет уже в
развитии мысли
свою историю
и ранее был
связан с
другим содержанием
понятия той
же или
смежной науки,
то
использование
старого
термина для обозначения
нового
содержания
пусть даже безупречного
представляется
сомнительным.
Это новое
применение
старого
термина становится
уже
совершенно
нецелесообразным
и даже
недопустимым,
если в
прежнем традиционном
значении
термина
имелась хотя
бы часть
содержания,
несовместимая
со вновь
предлагаемым
его
значением.
Но
именно так
обстоит дело
с термином
«интуитивная»
или
«интуиционистская»
логика! Логику
Серрюсу
следовало бы
посчитаться
с тем, что в
истории
логики и
гносеологии
термин
«интуиция»
отнюдь не
противопоставлялся,
как он
противопоставляется
у самого
Серрюса,
логическому
и гносеологическому
априоризму.
Интуиции
пространства
и времени, на
которых ряд
логиков и
философов
основывали,
например,
теорию
математики,
рассматривались
ими именно в
качестве
интуиции
«априорных»!
Больше
того. Термин
«интуитивная
логика»
является
совершенно
нецелесообразным
и
недопустимым
не только потому,
что в истории
философии с
термином этим
связывалось
априористическое
понимание
познания.
Термин этот
особенно
неприемлем
именно для
логики
Серрюса, так
как аксиоматика
Серрюса
основывается
на
положениях,
несовместимых
с понятиями
об
аксиоматике,
развивавшимися
в системах
интуитивизма.
Даже
рационалистический
интуитивизм
Декарта и
Лейбница, к
традиции
которых
Серрюс
склонен
возводить
современную
логику отношений,
связывает
понятие
интуиции с
признаком
очевидности,
279
наглядности
разумеющегося
под этим термином
знания. Это
знаменитые
«ясность и
отчетливость»
интуитивного
знания, в
которых Декарт
и весь
последующий
классический
рационализм
видели
критерий
истинности знания.
Даже в
рационализме
Гуссерля
понятие очевидности
(Evidenz) сохраняет
важное
значение.
Напротив,
основная
тенденция
учения об аксиоматике,
развиваемого
Серрюсом,
состоит если
не в изгнании
понятия
очевидности
из
аксиоматики,
то по крайней
мере в
ограничении
безусловного,
непреложного
значения
этой
очевидности.
Для
Серрюса и
это наиболее
характерная,
основная
черта его
понятия об
аксиоматике
ни
формальное
отношение
противоречия
не может быть
решающим
основанием
для отрицания
истинности
данного
положения, ни
простая
ссылка на
очевидность
основанием
для
признания
этого
положения
истинным. По
Серрюсу,
никакая
форма
порядка, указываемая
данной
аксиоматикой,
не может научить
нас
устранению
противоречий
в самой
действительности:
«...то, что до
нынешнего дня
могло
казаться
лишенным
связи (incoherent) и
стоящим вне
постигнутого
нами порядка,
может не быть
таковым
ввиду
непо-дозревавшейся
нами
сложности
объекта
знания. Не
факты, повторим
здесь
высказывание
самого
Серрюса, а
наши
принципы
обязаны быть
гибкими. Во
имя
очевидности
средние века
отрицали
существование
антиподов,
так как не могли
представить,
каким
образом люди
могут ходить
вниз головой!
Так
называемые
парадоксы,
касающиеся
бесконечного
числа и теории
множеств,
парадоксы
физики
Эйнштейна и
волновых
теорий могут
оградить от
этих предрассудков»
(3, 6970).
Все это
очень верно.
Но если это
так, то каким
образом
может Серрюс
называть
логику отношений,
не
полагающуюся
безусловно
на очевидность,
логикой
«интуитивной»?
Здесь не может
быть
оправданием
ссылка на
новое
определение
«интуитивности»,
сформулированное
Серрюсом и
процитированное
нами выше.
Даже если мы
условимся вместе
с Серрюсом
называть
интуитивными
логиками
только те
логики,
принципы
которых черпаются
из науки и
зависят от
рассмотрения
предмета, то
это
действительно
новое
содержание
термина на
каждом шагу
будет
вступать в противоречие
с его старым
содержанием,
неотделимым
от понятия
очевидности
пусть даже
очевидности
интеллектуального
усмотрения.
Из
сказанного
видно, что
ценное
содержание
логики
отношений
Серрюса не
может быть принято
без
предварительной
и притом радикальной
критики. В
работах
самого
Серрюса
содержание
это
амальгамируется
с рядом воззрений
гносеологического
идеализма и
идеалистического
релятивизма.
Доказать
отсутствие
необходимой
связи между
этими
воззрениями
и
заблуждениями
Серрюса,
общими у него
с
современным
зарубежным
идеализмом и
плодотворными
для науки
специально
логическими
положениями
Серрюса
задача
советской
логики.
Логика наша
не может
некритически
воспроизводить
логические
построения
зарубежных
ученых. Но
вместе с тем
она не должна
и отказываться
от выяснения
ценного и
плодотворного
в их
построениях
на том только
основании,
что к
построениям
этим
примешивается
изрядная
доля
идеалистической
путаницы и
идеалистического
заблуждения.
Игнорирование
на этом
основании
положительных
результатов
развития
формальной
логики в
течение
последних
десятилетий
привело бы к
явному
пробелу в
логической
теории;
ПОНЯТИЕ
§ 1.
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОНЯТИЯ
Логическое
мышление
обычно
состоит не из
отдельных
изолированных
мыслей, оно
представляет
собой различные
связи мыслей.
Отдельными
звеньями этих
связей
являются
суждения.
Примеры суждений
«Логика
философская
наука»,
«Научная система
земледелия
условие
высокой
урожайности
растений».
Будучи
единой
мыслью,
суждение
имеет некоторое
строение,
некоторый
состав.
Так, из
суждения
«Логика
философская
наука» могут
быть
выделены в
качестве его
членов мысли
«логика» и
«философская
наука». И
точно так же
из суждения
«Научная
система
земледелия
условие
высокой
урожайности растений»
могут быть
выделены
мысли «научная
система
земледелия» и
«условие
высокой урожайности
растений».
Возможность
выделить из
состава
целостного
суждения
известные
мысли,
входящие в суждение
как его
члены, обусловлена
тем, что эти
мысли еще до
того, как мы
образовали
данное
суждение,
многократно
встречались
в практике
нашего
мышления как
члены других
суждений.
Так, мысль
«логика»
может быть
найдена в
составе
таких суждений,
как «Логика
есть наука о
формах и законах
мышления»,
«Логика и
грамматика
рассматривают
формы,
отвлекаясь
от
конкретности
их
содержания»,
«В логике
один из ее
главных
разделов
раздел об
умозаключениях»
и т. д.
Эти
отдельные
мысли,
существующие
в суждении не
сами по себе,
а в
логической
связи и
только
выделяемые
нашей мыслью
из состава
суждения,
называются
понятиями.
Так, в
наших
примерах
мысли
«логика»,
«философская
наука»,
«научная
система
земледелия», «условие
высокой
урожайности
растений» являются
понятиями.
Мысль о
предмете
есть понятие
только при
условии, если
посредством
этой мысли мы
можем
различать то,
в чем
мыслимый предмет
сходен с
отличными от
него предметами,
и то, чем он
отличается
от сходных с
ним предметов.
То, в чем
предметы
оказываются
или сходными
между собой,
или
отличными друг
от друга,
называется
признаками
предмета.
Признаки
предмета,
отраженные в
нашей мысли о
предмете,
называются
признаками понятия.
Хотя
понятие
может быть
выделено из
состава
различных
суждений,
однако это
вовсе не значит,
что оно может
встречаться
только
281
в
составе
суждения. В
практике
мышления понятие
встречается
как в составе
суждения, так
и вне
суждения, в
качестве
отдельной мысли.
В
особенности
в научном
мышлении
имеются условия,
благоприятные
для
выделения
понятия в
качестве
самостоятельной
мысли. В
науке
понятие
кроме той
функции,
которую оно
обычно
выполняет в
суждениях,
выполняет
еще одну и
притом
чрезвычайно
важную функцию:
оно
выступает
как мысль,
выражающая
результат,
итог
научного
знания и
исследования
на данном
этапе
познания.
Так, научные
понятия
атома,
молекулы в
физике, вида
и разновидности
в биологии,
научное
понятие
общественного
класса или
способа
производства
в социологии
суть
определенный
итог
изучения
этих явлений,
выражающий
сумму
достигнутых
знаний о
данных
явлениях.
Таким
образом, в
современном
логическом
мышлении понятие
выполняет
двоякую
функцию.
Рассмотрим
подробнее
два
различных
применения понятия.
Первое
применение
понятия в
мышлении состоит
в том, что оно
представляет
собой условие
для
понимания
суждений.
Роль эту
понятие
выполняет
тогда, когда
оно есть
точная мысль
о признаках
предмета,
отличающих
данный
предмет от
всех других
предметов.
Например,
непонятное
слово
«эклиптика»
становится
словесным
выражением
понятия для
того, кто
знает, что
эклиптикой
называется
большой небесный
круг, по
которому в
течение года
движется
справа
налево
Солнце в
своем видимом
движении
вокруг Земли
Этим,
однако, роль
понятия в
мышлении
далеко не
исчерпывается.
Отличение
предмета от других
есть только
одно и
притом
простейшее
назначение
понятия. Это
назначение
выполнено,
когда точно фиксируется
в мысли
некоторое, в
большинстве
случаев
небольшое,
число
признаков предмета,
отличающих
этот предмет
от других. Гораздо
более важна
для мышления
другая логическая
функция
понятия его
способность
отражать в
мысли более
или менее
полный итог,
сумму знаний.
Понятие
как итог
познания
предмета
есть уже не
простая
мысль об
отличительных
признаках
предмета:
понятие-итог
есть сложная мысль,
суммирующая
длинный ряд
предшествующих
суждений и
выводов,
характеризующих
существенные
стороны,
признаки предмета.
Понятие как
итог
познания
это сгусток
многочисленных
уже добытых
знаний о предмете,
сжатый в одну
мысль.
Если нам
надобно лишь
отличить
квадрат от всех
других фигур,
то для этой
цели достаточно
понятия, фиксирующего
только два
существенных
признака
квадрата:
равносторонность
и прямоугольность
параллелограмма,
называемого
квадратом. Но
если мы
хотим, чтобы
наше понятие
отразило всю
совокупность
познанных наукой
признаков
квадрата, то
кроме признаков
прямоугольности
и
равносторонности
параллелограмма
оно должно
включить в
себя
множество связанных
между собой
признаков.
Так, квадрат
характеризуется
тем, что он. 1)
равносторонний
параллелограмм,
2)
прямоугольный
параллелограмм;
3) имеет
равные
диагонали; 4)
диагонали
эти взаимно
делятся
пополам и
пересекаются
под прямым
углом; 5)
диагональ
квадрата
несоизмерима
с его
стороной; 6)
вокруг каждого
квадрата
можно
описать
окружность, 7) в
каждый
квадрат
можно
вписать
окружность; 8)
из всех
четырехугольников
с заданным периметром
квадрат
имеет
наибольшую
площадь и т. д.
и т. д.
Место и
значение
понятия в
логическом
мышлении
бывают
различными в
зависимости
от того, идет
ли речь о
понятии в
составе
суждения
282
или же о
понятии как
мысли,
выражающей
результат
научного познания
предмета.
Если
понятие
рассматривается
по той логической
функции,
какую оно
выполняет в
составе
суждения, то
оно
выступает в
мышлении только
как
необходимое
звено в
логической связи.
В этом случае
в центре
внимания
стоит не
данное
понятие само
по себе, а то
конкретное
отношение
между предметом
и его
свойством
или
отношение
между предметами,
которое
составляет
объект утверждения
(или
отрицания),
мыслимого в
суждении.
Если же
понятие
рассматривается
как итог познания
предмета, то
применение
его далеко выходит
из рамок
конкретного
суждения, ибо
в таком
случае
понятие есть
мысль о предмете
не одного
только
данного
суждения, а
длинного
ряда
суждений, в
своей
последовательности
и
совокупности
отражающих
все познанные
стороны и
связи
предмета.
Такое понятие
становится
даже в
известной
мере синонимом
всей науки
вообще. В
этом смысле
Ушинский
говорил, что
«каждая наука
есть не
более, как
одно
чрезвычайно
обширное и
сложное понятие...
Для человека,
изучившего
науку вполне,
вся она
является
одним
понятием,
историю
образования
которого он
может
довести с конца
до начала, т. е.
до первичных
суждений, до
основных
сочетаний из
ощущений» (5, 601602).
Способность
быть итогом
развития
науки В. И.
Ленин считал
очень важным
и очень
ценным свойством
понятия.
«Очень верно
и важно,
отмечал
Ленин,
именно это
повторял популярнее
Энгельс,
когда писал,
что... итоги
естествознания
суть
понятия...» (2, 29, 236).
Понятие
как итог
познания
предмета не
составляет
объекта
изучения для
формальной логики.
Формальная
логика
рассматривает
понятие лишь
в составе
суждения, т. е.
как мысль,
посредством
которой в
суждении отражается
предмет
суждения, его
свойства, а также
отношения
между
предметами.
§ 2. ПОНЯТИЕ
И
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Всякое
понятие есть
мысль о
признаках
предмета.
Мыслится ли в
понятии
предмет или
свойство
предмета, или
отношение
между
предметами,
во всех трех
случаях
понятие
является
мыслью о
признаках.
Однако,
хотя всякое
понятие есть
мысль о признаках
предметов, не
всякая мысль
о признаках
есть понятие.
Так,
например,
представление
тоже есть
мысль о
признаках
предмета.
Когда я
представляю,
например,
станцию московского
метрополитена
«Арбатская», я
непременно
мыслю те или
иные
признаки
этого сооружения,
или его
внешний вид,
или внутренний
вид, или
место этой
станции по
отношению к
окружающим
улицам и
площадям,
или, наконец,
ее положение
на подземной
линии Киевская
Первомайская.
Представлять
предмет это
значит иметь
в мысли тот
или другой
признак или
группу
признаков
предмета.
Но чем же
тогда
понятие
отличается
от представления?
Отличие
это состоит
не в том, что в
понятии мыслятся
общие, а в
представлении
индивидуальные
признаки
предмета. И
общие и индивидуальные
признаки
могут
мыслиться
как в понятии,
так и в
представлении.
Например, в понятии
«капитализм»
мыслятся не
только общие
признаки
всякой
общественной
формации, но
также и даже
главным
283
образом
признаки,
которыми
капитализм
отличается
от всех
других
общественных
формаций.
И точно
так же в
представлении,
например в представлении
станции
метро
«Арбатская»,
мыслятся не
только
признаки,
характеризующие
исключительно
эту станцию
(архитектурная
ее
композиция,
ее положение
на площади и
т. д.), но также и
признаки,
общие у нее с
другими станциями
московского
метро
(например, светящаяся
«ад входом
буква «М»).
Существенное
различие
между
представлением
и понятием
заключается
прежде всего
в том, что первое
есть
наглядное
воспроизведение
в сознании с
той или
другой
степенью
отчетливости
живого,
чувственного
созерцания
предметов,
тогда как
понятие это
обобщенное отражение
в мысли
определенных
связей и
отношений между
предметами и
их
свойствами.
Понятие
всегда
выступает в
мышлении как
член
некоторой
логической
связи. Оно
мыслится или
в составе
суждения, или
в составе умозаключения,
или в составе
доказательства.
Даже когда оно
мыслится
само по себе,
то и тогда
оно выступает
как
результат,
как
завершающее
звено более
или менее
длинной цепи
предшествующих
суждений и
умозаключений.
Кроме того, в
этом
последнем
случае
понятие
реализуется
в мысли не
иначе, как
посредством
ряда суждений,
отражающих
последовательно
и в известной
логической
связи все
познанные стороны
и отношения
предмета.
Напротив,
представление
может
мыслиться и
обычно мыслится
вне
логической
связи с
другими
мыслями.
Представление
мыслится
само по себе,
а не в составе
суждения,
умозаключения
или доказательства.
От этого
представление
как таковое
ничего не
теряет,
наоборот,
самыми яркими,
наглядными
обычно
бывают те
представления,
которые
появляются в
нашем
сознании как
отдельные
образы
предмета.
Конечно,
и представления
не являются
какими-то
безусловно изолированными
мыслями,
ничем не
связанными с
общим
потоком
мышления.
Психология изучает
объективные
закономерности
появления и
смены
представлений
в нашем сознании,
закономерные
связи
представлений.
Однако связи
представления
с другими
представлениями
и с другими
формами
душевной
деятельности
(чувство,
воля) не
являются
связями
логическими.
Особые для
представлений
способы и законы
их связей
изучает не
логика, а
психология
мышления.
§ 3.
СУЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЗНАКИ.
КРИТЕРИЙ
СУЩЕСТВЕННОСТИ
Мыслимые
в понятии и
особым
образом
отобранные
признаки
предмета
называются
существенными
признаками.
Существенными
признаками
называется
такая группа
признаков
предмета,
каждый из
которых,
отдельно взятый,
необходим, а
все, вместе
взятые,
достаточны,
чтобы с их
помощью
можно было
отличить
данный
предмет от
всех
остальных по
той его
стороне,
познание
которой выдвигается
как задача
развитием
практики и которая
так связана в
самом
предмете со
всеми
другими его
сторонами,
что, познав
эту сторону,
мы можем
уяснить
зависимость
от нее других
сторон
познаваемого
предмета.
Так, например,
существенными
признаками
понятия
«квадрат»
будут,
во-первых,
прямоугольность
и, во-вторых,
равносторонность
параллелограмма,
называемого
квадратом;
существенными
признаками
понятия
«товар»
способность
вещи,
называемой
товаром,
во-первых,
284
удовлетворять
какую-либо
потребность
и, во-вторых,
обмениваться
на другие
вещи.
И в
понятии
квадрата и в
понятии
товара отражается
только часть
признаков
предмета. Но
мыслимые в
этих
понятиях
признаки не
случайно выделены
из числа всех
других, они
отобраны по
особому
принципу.
Первая
черта
существенных
признаков
их объективность.
Существенный
признак так же
объективен,
как
объективны
все остальные
признаки
предмета.
Предмет
существует
независимо
от нашего
мышления со
всеми своими
признаками
как существенными,
так и
несущественными.
Объективный
характер
имеет и само
различие
между существенными
и
несущественными
признаками.
По
вопросу о
существенных
признаках в
домарксистской
философии
имелись два
ошибочных
взгляда.
Идеалисты
утверждали и
утверждают,
будто различие
между
существенным
и несущественным
признаками
имеет
основание не
в самом
предмете, а
только в
нашем
мышлении, в
нашей
субъективной
оценке.
Логики-идеалисты
пытались
указать
критерий
различения
существенных
и
несущественных
признаков, но
усматривали
его в чисто
субъективном
желании
мыслящего
выделить в
предмете ту
или другую
сторону его
содержания.
Так, по
определению
логика-кантианца
А. И.
Введенского,
существенные
признаки «это
признаки,
которые...
оказываются
более
важными при
рассмотрении
данного
предмета или
данной
группы
предметов с
той точки
зрения, с
какой мы
хотим узнать
их» (разрядка
моя. В. А.) (3, 59).
Старые
материалисты
признавали
объективность
различия
между
существенными
и несущественными
признаками.
Однако они не
могли указать
критерий,
посредством
которого
устанавливается
это
объективное
различие. Теория
эта была
теорией
созерцательной
объективности.
Она
оставляла
непонятным,
каким
образом доходит
наша мысль до
знания, что
одни
признаки предмета
в данном
случае
существенные,
а другие
несущественные.
Дать
полное
решение
этого
вопроса
может только
диалектическая
логика,
теория познания
диалектического
материализма.
Только
введение
критерия практики
позволяет
понять
одновременно
и объективный
характер
различия
между существенными
и
несущественными
признаками и тот
способ,
посредством
которого
различие это
отражается в
нашем
мышлении.
При этом,
разумеется,
следует
помнить, что
в каждом
конкретном
случае
определение
существенных
признаков
добывается
не логикой и
не
диалектикой,
а только
конкретным
исследованием
вопроса по
существу его
содержания.
Так, определение
существенных
признаков
математической
функции дает
не логика, а
математика. Но
математика
(как и всякая
другая
специальная
наука) определяет
эти признаки
при условии,
если ею
соблюдаются
все
формальнологические
требования
определения
существенных
признаков и
если при
изучении
своего
особого
предмета она
руководствуется
теми требованиями,
какие
предъявляет
диалектика к
научному исследованию
любых
предметов и
явлений.
Умение
выделить
действительно
определяющий
признак
предмета
важнейшая
задача познания.
В период
перехода к
нэпу в нашей
стране разгорелась
дискуссия о
профсоюзах.
Говоря о роли
профсоюзов в
системе
советского
строя, В. И.
Ленин из всех
сторон этой
наиболее
массовой
организации
рабочего
класса
выделил решающую:
профсоюзы
школа
коммунизма.
285
Это
действительно
наиболее
существенная
их черта: с
какой бы
стороны ни
подходить, профсоюзы
должны
помогать
Коммунистической
партии и
Советской
власти
воспитывать рабочий
класс как
хозяина
страны, как
строителя
социализма и
коммунизма.
Враги народа
троцкисты
хотели
оказенить
профсоюзы, превратить
их в дубинку
против
самого же рабочего
класса и
поэтому
стремились
выпятить
совсем
другие
стороны этой
организации.
Бухаринцы,
помогая
троцкистам,
попытались
эклектически
примирить
все точки
зрения на профсоюзы,
заявляя, чго
спор
беспредметен,
так как
профсоюзы и
то и другое,
точно так же
как стакан
есть
одновременно
и сосуд для
питья и
стеклянный
цилиндр.
Разоблачив
субъективизм
и эклектику
врагов
партии, Ленин
камня на
камне не
оставил от их
«философских»
построений.
Ленин говорил:
«Стакан есть,
бесспорно, и
стеклянный
цилиндр и
инструмент
для питья. Но
стакан имеет
не только эти
два свойства
или качества
или стороны,
а бесконечное
количество
других
свойств,
качеств, сторон,
взаимоотношений
и
«опосредствовании»
со всем
остальным
миром. Стакан
есть тяжелый
предмет,
который
может быть
инструментом
для бросания.
Стакан может
служить как пресс-папье,
как
помещение
для
пойманной бабочки,
стакан может
иметь
ценность, как
предмет с
художественной
резьбой или
рисунком,
совершенно
независимо
от того,
годен ли он
для питья,
сделан ли он
из стекла,
является ли
форма его
цилиндрической
или не совсем,
и так далее и
тому
подобное» (2, 42, 289).
Какое из
всех этих
бесконечных
свойств стакана
является
существенным
признаком предмета?
По какому
основанию
существенные
признаки
отделяются
от
несущественных?
Ленин показал,
что
основанием
для
отделения
существенных
признаков от
несущественных
будет та
сторона
предмета,
которая
выдвигается
на первый
план самой
практикой,
практическим
отношением
человека к
предмету.
Ленин
говорил:
«Если мне
нужен стакан
сейчас, как
инструмент
для питья, то
мне
совершенно
не важно
знать, вполне
ли
цилиндрическая
его форма и
действительно
ли он сделан
из стекла, но
зато важно,
чтобы в дне
не было
трещины, чтобы
нельзя было
поранить
себе губы,
употребляя
этот стакан,
и т. п. Если же
мне нужен
стакан не для
питья, а для
такого
употребления,
для которого
годен всякий
стеклянный
цилиндр,
тогда для
меня годится
и стакан с
трещиной в
дне или даже
вовсе без дна
и т. д.» (2, 42, 289).
Поэтому
определить
признаки
предмета,
которые
могут
оказаться существенными,
значит
определить
все возможные
изменения
предмета, в
особенности
все
возможные
изменения в
нашем
практическом
отношении к
предмету.
Для
полного
определения
существенных
признаков
предмета
необходимо
учитывать критерий
практики.
«...Вся человеческая
практика,
указывает
Ленин, должна
войти в
полное
«определение»
предмета и как
критерий
истины и как
практический
определитель
связи
предмета с
тем, что
нужно человеку»
(2, 42, 290).
«Чтобы
действительно
знать
предмет, надо
охватить,
изучить все
его стороны,
все связи и
«опосредствования».
Мы никогда,
поясняет
Ленин, не
достигнем
этого
полностью, но
требование
всесторонности
предостережет
нас от ошибок
и от омертвения»
(2, 42, 290).
Задачи
практики
выдвигаются
объективным
ходом
развития всей
деятельности
общественного
человека.
Субъективное
осознание
задачи,
разумеется,
необходимо
для ее
решения. От
практики животного
человеческая
практика тем
и отличается,
что в ней
решению
задачи
предшествует
субъективно
осознанное
представление
цели, которая
должна быть
выполнена. По
словам
286
Маркса,
«самый плохой
архитектор
от наилучшей
пчелы с
самого
начала
отличается
тем, что,
прежде чем
строить
ячейку из
воска, он уже
построил ее в
своей голове.
В конце процесса
труда
получается
результат,
который уже в
начале этого
процесса
имелся в
представлении
человека, т. е.
идеально.
Человек не
только
изменяет
форму того,
что дано природой;
в том, что
дано
природой, он
осуществляет
вместе с тем
и свою
сознательную
цель...» (1,23, 189).
Но из
того факта,
что требуется
предварительное
осознание
цели и
средств,
ведущих к
решению
задач,
выдвигаемых
'практикой,
вовсе не
следует,
будто осознание
цели и выбор
средств
всецело
субъективны,
обусловливаются
исключительно
той или иной
«точкой
зрения»
субъекта.
Как раз
наоборот.
Субъективное
осознание
задач практики
и
сознательный
отбор
требуемых
средств
возможны
лишь тогда,
когда не
только уже возникла
в самом
объективном
ходе развития
практики
данная
задача, «о
когда имеются
уже налицо в
самой
объективной
действительности
условия,
необходимые
для того,
чтобы задача
оказалась не
только
поставленной,
осознанной,
но и
выполненной.
Отдельный человек
и отдельные
группы людей
могут заблуждаться
относительно
объема своих
сил и пределов
того, что для
них возможно.
Но общество в
целом не
ошибается.
По
словам
Маркса,
«человечество
ставит себе
всегда
только такие
задачи,
которые оно может
разрешить,
так как при
ближайшем
рассмотрении
всегда
оказывается,
что сама задача
возникает
лишь тогда,
когда
материальные
условия ее
решения уже
имеются
налицо, или,
по крайней
мере, находятся
в процессе
становления»
(1, 13, 7).
Все эти
положения
марксистской
философии
дают ключ для
разрешения
вопроса о
существенных
признаках.
Различие
между
существенными
и несущественными
признаками
имеет относительный
характер.
Одни и те же
признаки одного
и того же
предмета
будут в одном
случае
существенными,
а в другом
несущественными.
Признаки,
существенные
для познания предмета
с одной его
стороны,
могут оказаться
вовсе
несущественными
для познания
того же
предмета с
другой его
стороны, и
наоборот. Все
зависят от
конкретного
соотношения связей
самого
предмета и
тех сторон, с
которых
человек в
своем
практическом
отношении
подходит к
этому
предмету.
Признаки,
существенные
для познания
предмета по
данной его
стороне,
выбираются, а
несущественные
для этой цели
исключаются.
В. И. Ленин
писал, что
«говоря: Иван
есть человек,
Жучка есть
собака, это есть
лист дерева и
т. д., мы отбрасываем
ряд
признаков
как случайные,
мы отделяем
существенное
от
являющегося и
противополагаем
одно другому»
(2, 29, 321).
Как
всякий отбор
и как всякое
исключение, отбор
существенных
признаков и
исключение
несущественных
предполагают
в каждом отдельном
случае
определенную
точку зрения.
Зависимость
этой точки
зрения от
цели, от той
стороны,
какую
предстоит
познать в
предмете, делает
существенность
признаков
относительной.
Но эта
относительность
не субъективная,
ибо она
обусловлена
вовсе не
субъективным
произволом,
не
субъективной
точкой зрения,
а
материальной,
предметной
практикой
общественного
человека. Из
множества
признаков,
которыми
обладает
любой
предмет,
практика
выдвигает на
первый план в
качестве существенного
тот признак,
который
объективно
оказывается
определяющим
в данной конкретной
ситуации его
связей и
отношений. Относительность
существенности
признаков
«субъективна»
лишь в том
широком и не
собственном
смысле, в
каком
«субъективна»
вся
287
человеческая
материальная
практика.-
Это та
«субъективная»
сторона или
точка зрения,
которой, по
словам
Маркса, не
понимал
метафизический
материализм,
рассматривавший
действительность
только как
предмет
созерцательного
познания, но
не
рассматривавший
ее в связи с
материальной
практикой
общественного
человека.
В ходе
практической
деятельности
людей последовательно
выдвигаются
одна за другой
и притом не
эклектически,
а в
определенной
связи
задачи
познания то'
тех, то
других признаков
предмета. И
именно
практика в соответствии
с изменением
этих задач
удостоверяет,
какие
признаки
предмета в
каждом отдельном
случае будут
существенными
и какие
несущественными,
какие, будучи
отобраны,
должны войти
в понятие
предмета и
какие в
данном
случае
должны быть
исключены.
Обратясь
к критерию
материальной
практики,
марксистско-ленинская
теория
познания и
только она
одна
преодолевает
как созерцательный
объективизм,
так и
субъективный
идеализм в
учении о
существенных
признаках.
Подчеркивая
зависимость
всех
определений
существенности
от
развивающихся
и изменяющихся
задач
практики
общественного
человека, от
обусловленной
этим
изменением и развитием
точки зрения
на предмет,
от
определяемого
ею выбора
признаков,
теория эта
преодолевает
созерцательный
объективизм.
В то же время
субъективному
идеализму,
объясняющему
относительность
существенных
признаков одним
лишь
направлением
желаний
познающего
субъекта, теория
эта
противопоставляет
материалистическое
объяснение
самой
«субъективности»,
самой
«относительности»
существенных
признаков.
Таким
образом,
теория
познания
диалектического
материализма
на основе
объективного
уничтожает
метафизическое
противоречие
«объективного»
и
«субъективного»
в вопросе о
существенных
признаках.
Этим
положением
марксистской
теории познания
следует
руководствоваться
и при решении
вопроса о
существенных
признаках, мыслимых
в понятиях,
когда
последние
рассматриваются
в качестве
членов логической
связи
суждений. В
каждом
данном суждении,
в понятиях,
входящих в
его состав,
мыслится не
все
возможное
множество
существенных
признаков
предмета, но
лишь одна, притом
вполне
определенная,
группа таких признаков.
Это та именно
группа
существенных
признаков,
которая
необходима
для познания
предмета по
известной
его стороне,
причем
сторона эта
определяется
той задачей,
которую
выдвигает в
каждом
конкретном
случае
развивающаяся
практика
Для
понимания
смысла
каждого
суждения достаточно,
чтобы группа
признаков,
мыслимых в
понятии,
входящем в
состав
данного
суждения,
давала нам
возможность
отличить
мыслимый
предмет от
всех других.
Такая группа
признаков
будет
группой существенных
признаков по
отношению к
задаче
отличения
данного
предмета от
других.
Признаки,
существенные
лишь в
отношении
задачи отличения
данного
предмета
мысли от
других
предметов, в
логике
называют
отличительными
признаками.
Всякая
группа
отличительных
признаков
предмета
принадлежит,
во-первых,
каждому
предмету,
характеризуемому
этими признаками,
и, во-вторых,
только тем
предметам, которые
характеризуются
этими
признаками.
Так, признаки
прямоугольности
и равносторонности
принадлежат
в своей
совокупности
каждому
параллелограмму,
называемому
квадратом. И
в то же время
признаки эти
принадлежат
только
квадратам.
Задача
отличения
предмета от
других есть лишь
первоначальная
задача,
возникающая при
познании
предмета. Но
наибольшее
значение
288
для
познания
предмета
имеет
выделение такой
группы
признаков,
которая
определяет собой
все
остальные
его признаки.
Такая
группа
существенных
признаков,
относительно
которой
могут быть
указаны другие
(зависимые от
нее) признаки
предмета, может
быть названа
группой
признаков
существенных
в
безотносительном
смысле. Напротив,
всякая
группа
признаков,
которые существенны
лишь в
каком-нибудь
строго определенном
отношении,
при решении
какой-нибудь
определенной
задачи, но не
могуг быть основанием
для уяснения
других
(зависимых) признаков
предмета,
может быть
названа группой
признаков
существенных
в относительном
смысле. Так,
кольца
Сатурна
представляют
признак
существенный,
если иметь в
виду только задачу
отличения
Сатурна от
других
планет. Это
признак
существенный
в
относительном
смысле,
потому что из
него не могут
быть выведены
другие
признаки,
характеризующие
эту планету,
например
наличие у нее
обширной атмосферы,
состоящей из
метана,
наличие в ее атмосфере
широких
полос
облаков,
параллельных
экватору,
малый
удельный вес,
скорость
суточного
вращения,
расстояние
от Солнца,
время
обращения
вокруг
Солнца и т. д.
Существенными
в
безотносительном
смысле являются
признаки,
характеризующие
производственные
отношения,
которыми
определяется
каждая
общественно-экономическая
формация.
Так, на
основе
производственных
отношений
капитализма
могут быть
определены и
объяснены
многие
другие черты
и стороны,
характеризующие
жизнь и
развитие
капиталистического
общества. Эту
связь между
производственными
отношениями
и
вытекающими
из них сторонами
и
отношениями
жизни
капиталистического
общества
исследовал в
«Капитале» К.
Маркс. Маркс
дал полную и
всестороннюю
характеристику
капиталистического
общества. «Он
сделал это,
писал о
Марксе Ленин,
посредством
выделения из
разных
областей
общественной
жизни
области
экономической,
посредством
выделения из
всех
общественных
отношений отношений
производственных,
как
основных,
первоначальных,
определяющих
все
остальные
отношения» (2, 1, 134).
Признаки
существенные
в
безотносительном
смысле
составляют
только одну,
строго определенную
группу черт
предмета.
Однако группа
эта
особенная.
Особенной ее
делает связь
ее со всеми
производными
от нее
признаками,
возможность перехода
от нее к
группам
производных
признаков. Понятие
о предмете,
мыслимое
посредством
такой группы
существенных
признаков,
есть уже не
просто мысль
о той или
другой
стороне предмета,
а мысль о
стороне
главной.
Понятие,
выделяющее в
предмете
группу
признаков,
существенных
в
безотносительном
смысле, есть
понятие о
сущности
предмета.
§ 4.
СРАВНЕНИЕ
КАК УСЛОВИЕ
ОТРАЖЕНИЯ В
МЫСЛИ СУЩЕСТВЕННЫХ
ПРИЗНАКОВ
ПРЕДМЕТА
Прежде
чем понятие
из средства
простого
отличения
предмета от
других
предметов
превратится
в средство
для познания
сущности
предмета, оно
проходит долгий
путь
формирования
и развития.
Исходной
точкой в
процессе
формирования
понятия
является
необходимость
практически
воздействовать
на предмет с
тем, чтобы
использовать
полезные
свойства
предмета и
устранить
или нейтрализовать
свойства
вредные или
бесполезные.
Поэтому
первоначальным
условием
образования
понятия
является не
деятельность
«чистого»
мышления, а
производство,
продуктивная
деятельность
человека.
«...Люди, писал
об этом Маркс,
никоим
289
образом
не начинают с
того, что
«стоят в ...теоретическом
отношении к
предметам
внешнего
мира» ...они
начинают с
того, чтобы есть,
пить и т. д., т. е.
не «стоять» в
каком-нибудь
отношении, а активно
действовать, овладевать
при помощи
действия
известными
предметами
внешнего
мира и таким
образом
удовлетворять
свои
потребности.
(Начинают
они, таким
образом, с
производства.)»
(1, 19, 377).
В
процессе
производства
предмет
охватывается
мышлением
прежде всего
по той своей
стороне, по
тем признакам,
в силу
которых он
может
удовлетворять
известной
практической
потребности.
«Благодаря
повторению
этого
процесса способность
этих
предметов
«удовлетворять
потребности»
людей
запечатлевается
в их мозгу, люди...
научаются и
«теоретически»
отличать внешние
предметы,
служащие
удовлетворению
их
потребностей,
от всех
других
предметов» (1, 19,377).
Формирование
понятия, как
и всякая
деятельность
мышления,
предполагает
в качестве своего
условия
выражение
мысли в языке.
Различия
между
предметами,
подмеченные
путем
повторных
действий,
закрепляются
в
наименованиях
предметов и
целых классов
предметов.
«На
известном
уровне
дальнейшего
развития,
после того
как
умножились и
дальше развились
тем временем
потребности
людей и виды
деятельности,
при 'помощи
которых они
удовлетворяются,
люди дают
отдельные названия
целым
классам этих
предметов,
которые они
уже отличают
на опыте от
остального
внешнего
мира» (1, 19, 377).
Возможность
дать общее
имя целому
классу предметов,
сходных в
способности
удовлетворять
известные
потребности,
обусловлена,
во-первых и
прежде всего,
производством,
его
повторяющимися
моментами.
Во-вторых,
возможность
эта обусловлена
возникшей на
основе
производственной
деятельности
человека
речью. Маркс
писал, что
«словесное
наименование
лишь выражает
в виде
представления
то, что
повторяющаяся
деятельность
превратила в
опыт, а именно,
что людям,
уже живущим в
определенной
общественной
связи {это
предположение,
необходимо
вытекающее
из наличия
речи},
определенные
внешние
предметы
служат для
удовлетворения
их
потребностей.
Люди дают
этим предметам
особое
(родовое)
название, ибо
они уже знают
способность
этих
предметов
служить
удовлетворению
их
потребностей,
ибо они стараются
при помощи
более или
менее часто
повторяющейся
деятельности
овладеть ими
и таким
образом
также
сохранить их
в своем владении...»
(1, 19, 377378).
Каким же
образом
совершается
в мысли выделение
общих
признаков
предметов,
имеющих значение
для
практической,
производственной
деятельности
общественного
человека?
Ответ на
этот вопрос
дал великий
русский ученый-физиолог,
психолог и
философ-материалист
И. М. Сеченов.
Сеченов
правильно
указывал, что
выделение в
предмете
некоторого
признака или
группы
признаков
первоначально
достигается посредством
сравнения.
Всякий
признак,
принадлежащий
предмету, находится
в самом этом
предмете и,
вообще говоря,
может быть
познан.
Однако
наличия этого
признака в
предмете и
наличия
органов чувств,
посредством
которых этот
признак может
быть
воспринят,
недостаточно
для того,
чтобы
признак этот
действительно
был познан.
Для
апельсина,
например,
характерны
следующие
признаки:
шарообразная
форма, оранжевый
цвет,
известная
величина,
вес, определенный
запах. Но
существования
всех этих
признаков в
самом
апельсине
еще недостаточно
для того,
чтобы мы
могли,
выделив в
мысли все эти
признаки,
составить
290
понятие
о них. Для
этого
совершенно
необходимо
существование
других вещей
с другими
признаками
как сходными
с признаками
апельсина,
так и
отличными от
них.
Необходима,
кроме того,
возможность
сравнения
апельсина с
этими
предметами.
«Если бы
все вещи в
мире,
замечает
Сеченов, обратились
в апельсины,
то возможно,
что человек
никогда не
дошел бы до
различения
всех
признаков
этого плода.
Но так как
ему приходится
встречаться
с круглыми
формами
самых
разнообразных
цветов,
величин и
веса, равно
как с запахом
от предметов
иных форм и
цвета, и так
как в тайниках
памяти
впечатления,
как бы
разнородны
они ни были,
всегда
сравниваются
по сходству...
то из этих
сравнений и
вытекает
обособление
друг от друга
форм, цвета,
величины,
запаха и пр.» (4, 206).
Сеченов
не только
выяснил
значение
сравнения
для
выделения в
мысли
признаков
предмета. Это
было сделано
еще задолго
до него другими
логиками-материалистами,
например
Гоббсом,
Локком. Заслуга
Сеченова
состоит в
том, что он
разъяснил,
какими
движущими
мотивами
направляется
сама
деятельность
сравнения.
Предшественники
Сеченова
понимали
деятельность
сравнения
как
деятельность
созерцательную.
Сеченов же
показал, что
направление,
в каком
производится
сравнение,
определяется
значением сопоставляемых
и выделяемых
в мысли признаков
предметов
для
материальной
практики.
Как и все
прочие
операции
мышления,
сравнение не
есть
привиле-тия
научного
мышления. Оно
начинается и
широко
применяется
уже в обиходном
мышлении,
притом в
мышлении не
только взрослых,
но и детей.
Однако в
детском
мышлении, а
часто и в
обиходной
жизни
операции
сравнения
производятся
еще «над
предметами,
очень
близкими друг
к другу,
притом по
признакам,
непосредственно
доступным
чувству» (4, 298).
На этой
стадии
развития
сравнение
осуществляется
в отношении
признаков,
которые почему-либо
особенно
поражают
наши чувства
и потому,
естественно,
побуждают
нас сопоставлять
их между
собой. Здесь
сравнение, так
сказать,
навязывается
нашим
чувствам
особо
бросающимися
в глаза
признаками. Такое
сравнение
почти
непроизвольно,
нецелеустремленно,
а потому и
результаты
его незначительны
для познания
сравниваемых
предметов.
Но
существует,
как показал
Сеченов,
другое и
притом
гораздо
более важное
для мышления
основание,
побуждающее
к сравнению предметов
и их
признаков.
Таким
основанием
является
связь этих
предметов и
их признаков
с задачами,
возникающими
перед человеком
в процессе
его
практической
деятельности.
Этот
второй
указанный
Сеченовым
источник сравнения
приводит
мышление к
результатам,
гораздо
более важным,
чем
сравнение,
непроизвольно
возникающее
вследствие
непосредственного
впечатления,
производимого
на наши
чувства
особо
выдающимися
признаками
предметов.
Сравнение,
к которому
нас
побуждают
запросы
практики,
несравненно
более
разнообразно.
Интересы и
соображения
практики заставляют
сопоставлять
и сравнивать
между собой
не только
предметы,
непосредственно
находящиеся
перед нами в
поле зрения
наших чувств
в данное
время, но и
предметы и явления,
далеко
отстоящие
друг от друга
в пространстве
и во времени.
Практические
интересы и соображения
побуждают к
сравнению
таких признаков,
которые на
первый
взгляд
представляются
не имеющими
ничего
общего между собой.
291
Непрекращающееся
развитие
практики, изменение
способа
производства,
совершенствование
орудий труда
и техники,
успехи эксперимента
постоянно
обогащают
мысль все
новыми и
новыми
точками
зрения, с
которых
могут
сравниваться
между собой
различные
предметы и
явления.
Умножение
разнообразия
направлений,
в каких может
производиться
сравнение
предметов и
их признаков,
особенно
характерно
для развития
научного
мышления. Ум ученого,
изощрившегося
в
исследованиях,
отличается
от ума
человека,
далекого от
науки, между
прочим, и тем,
что гораздо
легче и быстрее
видит
сходство,
близость,
связь, взаимную
зависимость
там, где ум
неопытный
видит только
различия,
только
раздельность
и разобщенность,
и, наоборот,
видит
различие там,
где
неопытный ум
видит только
сходство. Одно
из
величайших
преимуществ
физики новейшего
времени
перед
физикой
прошлых веков
состоит как
раз в том, что
в явлениях
механики,
оптики,
электричества,
магнетизма
новейшая
физика
открыла
общность,
которой не
могла даже
подозревать
прежняя
физика и которая
имеет
значение
бесконечно
большее, чем доступные
непосредственному
восприятию
несходства и
раздельности
этих явлений.
Именно это
существенное
сходство,
открывшееся
путем
сравнения
явлений,
далеких друг
от друга и
разнородных,
позволило
объединить
частные и
изолированные
результаты исследования
отдельных
областей в
единую
физическую теорию.
§ 5.
СОДЕРЖАНИЕ И
ОБЪЕМ
ПОНЯТИЯ
Всякое
понятие
независимо
от его
предмета,
всегда имеет
две
логические
характеристики:
содержание и
объем.
Мыслимые
в понятии
существенные
признаки
предмета
составляют
содержание
понятия.
Например,
содержанием
понятия «передовик
производства»
являются
признаки,
характеризующие
мастера
высокопроизводительного
социалистического
труда; содержанием
понятия
«машина»
признаки,
характеризующие
орудие
производства,
имеющее определенный
исполнительный
механизм,
заменяющий
рабочие руки,
и т. д. и т. п.
Содержание
необходимая
характеристика
каждого
понятия. Не
может быть
понятия, лишенного
всякого
содержания,
т. е. такого
понятия, в
котором бы не
мыслились
никакие признаки..
Поэтому когда
о некоторых
понятиях
говорят, что
они «бессодержательны»
или «пусты», то
этим хотят сказать
не то, что в
понятиях
этих не
мыслится
никакого
содержания, а
лишь то, что
содержание
их скудно, не
отражает
всех
необходимых,
существенных
признаков
предмета.
Множество
предметов,
однородных в
известном
отношении,
называется
классом. Так,
множество
музыкальных
произведений,
написанных в
форме песни,
образует
класс песен;
множество
растений,
заканчивающих
свой жизненный
цикл в
течение
одного года,
образует класс
однолетних
растений.
Принадлежность
предмета к
классу
определяется
свойственными
предмету
признаками,
по которым
происходит
выделение
известной
части
предметов в
класс: все
предметы, обладающие
такими
признаками,
войдут в класс,
а предметы,
не
обладающие
ими,
останутся
вне класса.
Так, все
организмы, состоящие
из одной
единственной
клетки, составят
класс
одноклеточных
организмов, а
все
организмы,
состоящие из
большего
числа клеток,
останутся
вне класса
одноклеточных
организмов.
292
Кроме
содержания
всякое понятие
характеризуется
еще своим
объемом, под
которым
понимается
вся сумма или
совокупность
(множество,
класс) тех
предметов, которые
могут
мыслиться
посредством
этого
понятия.
Например,
объем
понятия
«колхоз»
составляют
все
сельскохозяйственные
кооперативные
артели
социалистического
типа, т. е. все
хозяйства,
которые
могут
мыслиться
посредством
понятия
«колхоз».
Объем
такая же
необходимая
логическая
характеристика
понятия, как
и его
содержание.
Понятие без
объема так же
невозможно,
как
невозможно
оно без
содержания.
На
первый
взгляд может
показаться,
будто существуют
понятия, у
которых нет
объема Таково,
например,
понятие
«круглый
квадрат». Совершенно
очевидно, что
не
существует
ни одного
квадрата,
который
соответствовал
бы этому
понятию.
Однако и во
всех
подобных
случаях,
строго
говоря,
понятие не
лишено
объема.
Только объем
этот Здесь будет,
как говорят,
нулевым (или
пустым). Но
нуль число,
не менее
определенное,
чем любое другое
число.
Подобным
образом и
нулевой объем
тоже объем,
совершенно
так же, как в
грамматике
русского
языка
отсутствие
падежного
окончания
все же
характеризует
вполне
определенный
падеж
именительный.
Нулевой
объем
обусловлен в
данном примере
тем, что
мыслимое в
понятии
содержание
логически
противоречиво,
т. е.
составляющие
содержание
этого
понятия
признаки
несовместимы
в одном и том
же предмете.
Если
доказано, что
объем того
или иного понятия
является
нулевым (по
отношению к
той области
предметов,
которую
изучает
данная наука),
то это
означает
исключение,
устранение
этого
понятия из
науки как
понятия
противоречивого,
вздорного.
§ 6. ВИДЫ
ПОНЯТИИ
1. ВИДЫ
ПОНЯТИЙ ПО
РАЗЛИЧИЯМ В
ОБЪЕМЕ. ОБЩИЕ
И ЕДИНИЧНЫЕ
ПОНЯТИЯ
В
зависимости
от различий
по объему
понятия
бывают
единичные и
общие.
Единичным
называется
понятие,
которое может
быть отнесено
только к
одному
единственному
предмету
независимо
от того, к
какому
классу принадлежит
этот предмет.
Так,
единичными
будут
понятия
«Бородинская
битва»,
«Кременчугская
2-я средняя
школа», «автор
«Героической
симфонии»»,
«экипаж
теплохода
«Украина»».
Общим
называется
понятие,
которое
относится не
к одному
предмету, а к
классу
предметов,
притом к
любому
предмету
этого класса.
Примеры
общих
понятий:
«самолет»,
«число»,
«государство»,
«круглый
квадрат».
Внутри
класса общих
понятий, в
свою очередь,
существуют
различные
виды. А
именно:
1) Класс
может
состоять из
конечного,
ограниченного,
принципиально
допускающего
исчисление
количества
предметов.
Таковы, например,
понятия
«самолет», «дни
недели»,
«тракторный
парк
Советского
Союза на 1
января 1956 года»,
«участники
международного
шахматного
турнира в
Москве в 1925
году» и т. Д.
Общие
понятия
этого вида в
логике
называются
понятиями
конечными по
объему.
Имеются
две
разновидности
понятий,
конечных по
объему.
а) Эти
понятия
могут иметь
такой объем,
который не
только
принципиально,
но и
фактически
может быть
исчислен, т. е.
может быть
точ-
293
но
указано
число
предметов, к
которым относится
данное
понятие.
Такие
понятия
называются
регистрирующими.
Примеры
регистрирующих
понятий:
«современное
народнодемократическое
государство»,
«планета
солнечной
системы».
б) В то же
время
количество
предметов
класса,
охватываемых
понятием,
бывает
иногда настолько
большим, что
определение
его может
быть только
приблизительным
определением
не самого
числа, а его
порядка.
Однако число
это все же
конечное.
Таково,
например,
понятие
«молекулы,
составляющие
атмосферу
Земли».
2) Класс
может
состоять из
бесконечного,
неограниченного,
принципиально
не поддающегося
определению
количества
предметов.
Таковы,
например,
понятия: «шар»,
«точка», «атом»,
«момент
времени».
Очевидно, что
здесь даже
порядок
числа,
определяющего
количество
предметов
этих классов,
не может быть
указан. Общие
понятия
этого вида
называют бесконечными
по объему.
Различие
между общими
конечными и
общими бесконечными
понятиями
различие
логическое.
Его
необходимо принимать
во внимание,
например, при
рассмотрении
некоторых
важных в
логическом
анализе
отношений
между
понятиями.
3) Класс
может не
иметь в своем
составе ни одного
предмета.
Таков,
например,
класс «простых
чисел в
интервале
натурального
ряда чисел
между 13 и 17». Так
как ни одно
из чисел в
этом интервале
не является
простым, то
класс этот не
будет иметь
ни одного
предмета или
элемента.
Общие
понятия
этого вида
называются
понятиями
нулевого, или
пустого,
класса.
Понятия,
которыми
пользуется
наука, могут
быть
понятиями
различных
степеней
абстракции. В
связи с этим
класс,
нулевой в
одной области
абстрактных
понятий, или,
как говорят,
в составе
одного
универсального
класса, может
оказаться не
нулевым в
другой области
абстрактных
понятий, в
составе
другого универсального
класса. Так,
класс
равносторонних
прямоугольных
треугольников
есть нулевой
в составе
универсального
класса плоских
фигур, в этом
последнем
нет ни одного
такого
треугольника.
Но тот же
класс
равносторонних
прямоугольников
будет не
нулевым в составе
универсального
класса фигур
«а сферических
поверхностях,
так как в
этом последнем
классе
существуют
равносторонние
прямоугольные
треугольники.
И, наоборот,
класс
параллельных
линий, не
нулевой в
универсальном
классе линий,
допускаемых
аксиоматикой
Евклида и
аксиоматикой
Лобачевского,
будет нулевым
в
универсальном
классе линий,
допускаемых
аксиоматикой
Римана, так
как в геометрии
Римана
существование
даже одной линии,
которая была
бы
параллельна
данной, не
допускается.
В ряде
случаев
научное
мышление
вырабатывает
понятия,
относительно
объема
которых
заранее
нельзя
сказать,
является ли
он нулевым
или не
нулевым. А
между тем до
того, как
этот вопрос
будет решен,
делаются
выводы и
другие
логические
операции, в
которые
входят как
термины
такие
понятия.
Таково, например,
понятие «все,
'кроме Земли,
населенные
организмами
планеты
солнечной
системы». При
настоящем
состоянии
знаний мы не
может еще
сказать с
достоверностью,
существует
или не
существует в
классе всех,
кроме Земли,
планет
солнечной
системы
предмет, к которому
могло бы быть
отнесено это
понятие, т. е.
не можем
сказать,
нулевым или
не нулевым
будет его
объем.
Такие
понятия,
пустота или
непустота
которых еще
не
установлена,
могут
использоваться
в науке как
понятия,
содержание
которых
гипотетично.
Доказательство
пустоты этих
понятий
означает устранение
их
294
из науки,
и наоборот,
доказательство
их непустоты
означает
доказательство
их права на
существование
в науке.
Единичные
понятия, в
свою очередь,
бывают двух видов.
1)
Единичные
понятия
индивидов.
Таковы все
единичные
понятия,
относящиеся
к особому,
индивидуальному
предмету,
который и мыслится
в этих
понятиях не
как предмет,
образованный
совокупностью
других
предметов, а
как предмет,
образованный
самим собой.
Например:
«ближайшая к
Солнцу
планета солнечной
системы»,
«первая
русская
революция», «изобретатель
беспроволочного
телеграфа».
2)
Единичные
понятия
собирательных
единств, или
просто
собирательные
понятия. Так называются
единичные
понятия,
предмет которых
мыслится не
просто как
индивидуальный
предмет, а
как такой,
который
состоит из
определенной
совокупности
предметов,
образующей
некоторое
определенное
единство (агрегат).
Таковы,
например,
понятия:
«Московский
зоопарк»,
«первый
выпуск
Литературного
института
при ССП»,
«коллектив
автозавода
имени Лихачева».
Особенность
единичных
понятий
собирательных
единств
состоит в
следующем:
все, что может
утверждаться
о предметах
этих понятий,
утверждается
не
относительно
каждого в
отдельности
предмета,
который
составляет
элемент
единства, но
только об
этом единстве
как целом.
Так,
утверждение
«Н-ская дивизия
вернулась из
боя
победительницей»
означает не
то, что
каждый боец
Н-ской дивизии,
отдельно
взятый,
вернулся из
боя как победитель
(часть бойцов
не вернулась,
павши в бою), а
то, что
победительницей
вернулась из
боя вся
Н-ская
дивизия,
взятая как
единство, как
целое.
2. ВИДЫ
ПОНЯТИЙ ПО
РАЗЛИЧИЯМ В
СТЕПЕНИ
ОТВЛЕЧЕНИЯ.
КОНКРЕТНЫЕ
И
АБСТРАКТНЫЕ
ПОНЯТИЯ
Признаки,
отражаемые в
мысли, могут
выделяться
из числа всех
признаков
предмета так,
что
совокупность
их характеризует
именно этот
предмет.
Таковы понятия:
«город»
«общество»,
«стадион»,
«скульптор»,
«идея». Другой
возможный
способ
выделения признаков
состоит в
том, что
посредством
этих
признаков
мыслится не
предмет как таковой,
а какое-либо
свойство
предмета или
отношение
предметов,
рассматриваемое
в качестве
особого
предмета.
Таковы
понятия:
«доблесть»,
«делимость»,
«всхожесть»,
«болезненность»,
«равенство».
Понятие,
посредством
признаков
которого предмет
мыслится как
таковой и как
данный
предмет,
называется
конкретным.
Понятие,
посредством
признаков
которого мыслится
не данный
предмет как
таковой, а некоторое
свойство
предмета или
отношение
предметов,
называется
абстрактным.
Это
отличие
абстрактных
понятий от
понятий конкретных
вовсе не
значит, будто
в образовании
конкретных
понятий
абстракция,
или отвлечение,
не принимает
никакого
участия. Всякое
понятие и
абстрактное
и конкретное
возникает
путем
отвлечения
от предмета какой-то
части
признаков.
Понятия,
которое отражало
бы все
признаки
предмета и не
нуждалось бы
вовсе в
отвлечении,
не
существует и
существовать
не может.
Однако,
будучи
всегда
результатом
отвлечения,
понятия
отличаются
друг от друга
типом
отвлечения,
посредством
которого они
образуются.
Самый же тип,
или способ,
отвлечения в
конечном
счете определяется
характером
самих
предметов, отражаемых
в понятии.
Если
отвлечение
выделяет в
предмете
один
какой-нибудь
признак и делает
этот признак
предметом
рассмотрения,
рассматривает
его как
особый
295
предмет,
то возникает
понятие
абстрактное
в разъясненном
выше смысле
слова. Если
же отвлечение
выделяет в
предмете
группу
признаков не для
того, чтобы
рассматривать
эти признаки
в
отдельности
от предмета,
как особый
предмет, а
для того,
чтобы
посредством
этих признаков
характеризовать
тот самый
предмет, от которого
эти признаки
отвлекаются,
и характеризовать
его именно
как предмет,
то возникает
конкретное
понятие.
§ 7. ВИДЫ
ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ
ПОНЯТИЯМИ ПО
СОДЕРЖАНИЮ И
ПО ОБЪЕМУ
Так как
содержание и
объем
основные
логические
характеристики
понятия, то
все понятия
должны быть
различаемы
по
логическому
типу
отношения
между их
содержанием
и объемом.
Сравнивая
два понятия с
различным
содержанием,
легко
убедиться в
том, что
некоторые признаки,
мыслимые в
содержании
каждого из
этих двух
понятий,
являются
общими для
обоих
понятий, а
некоторые,
напротив
различными.
Так, в
содержании
понятий
«ученый» и
«поэт» одни
признаки в их
содержании общие:
и ученый и
поэт
работники
умственного
труда, оба
они в своих
произведениях
осуществляют,
каждый
особым
образом,
познание жизни,
оба
воздействуют
на жизнь
продуктами
своего
творчества и
т. д. Другие
признаки в
содержании
этих понятий
различны:
научное
познание
действительности
отличается
от познания
художественного.
Два
понятия, в содержании
которых
имеются
общие
признаки, называются
сравнимыми
понятиями.
Строго
говоря, любые
два понятия,
к какой бы
области
действительности
они ни
относились,
всегда
сравнимы. Так
как в
действительности
все предметы
и явления
существуют не
изолированно,
а различным
образом
связаны
между собой,
то найти
такие два
понятия, в
содержании
которых не
могли бы быть
мыслимы
никакие общие
для них
признаки,
невозможно.
Однако
практически
есть все же
смысл отличать
понятия,
предметы
которых
принадлежат
к одной и той
же области
действительности
и потому в своем
содержании
имеют ряд
общих
признаков, от
понятий,
предметы
которых
относятся к
чрезвычайно
отдаленным
друг от друга
сторонам или
областям
действительности,
а потому в
своем
содержании
имеют
несравненно
больше
различных,
чем общих
признаков.
Понятия этого
последнего
рода
называются
несравнимыми.
Так,
несравнимыми
в указанном
смысле не
абсолютном, а
относительном
являются, например,
понятия
«счастье» и
«квадратный
корень».
СРАВНИМЫЕ
ПОНЯТИЯ
Все
сравнимые
понятия
делятся на
совместимые
(согласимые)
и несовместимые
(несогласимые).
Совместимыми
называются
два понятия,
содержание
которых
различно, но
при этом различие
их не
исключает
возможности
хотя бы частичного
совмещения
или
совпадения
их объемов.
Так, понятия
«скульптор» и
«живописец»
совместимые
понятия.
Содержание у
этих понятий
не одно и то
же, оно
состоит из
различных
признаков. Но
это различие
не таково,
чтобы им
исключалась
возможность
существования
таких живописцев,
которые
одновременно
были бы скульпторами,
и таких
скульпторов,
которые одновременно
были бы
живописцами.
Таковы были, например,
Микеланджело
и Врубель.
296
Несовместимыми
понятиями
называются
два понятия,
содержание
которых
настолько различно,
что объемы
этих понятий
не могут совпадать
даже
частично. Это
значит, что в
действительности
не может быть
предметов, в
которых совмещались
бы признаки
содержания
одного из
этих понятий
с признаками
содержания другого.
Так, понятия
«имеющий
диплом об окончании
высшего
учебного
заведения» и
«не имеющий
диплома об
окончании
высшего
учебного
заведения»
несовместимые
понятия.
Содержание
этих понятий
состоит из
признаков, которые
не могут
совмещаться
в одном и том
же предмете
и,
следовательно,
исключают
возможность
даже
частичной
принадлежности
объема одного
из них объему
другого.
И
совместимые
и
несовместимые
понятия делятся
каждое на
виды.
Совместимые
понятия
бывают; 1)
равнозначные,
2)
перекрещивающиеся
и 3) понятия,
между которыми
имеется
отношение
подчинения.
А.
СОВМЕСТИМЫЕ
ПОНЯТИЯ
1)
Равнозначные
понятия
Два
понятия
называются
равнозначными,
если
содержание у
них различно,
состоит из различных
признаков, но
объем у них
один и тот же.
Так, понятия
«перпендикуляр,
опущенный и а
конечную
точку
радиуса
круга» и
«касательная,
проведенная
к конечной
точке
радиуса
круга»
равнозначные.
Содержание этих
понятий
различно, но
объемы их
полностью
совпадают, и
то и другое
понятие
относятся к
одному и тому
же предмету.
Возможность
существования
равнозначных
понятий обусловлена
тем, что
каждый
предмет
имеет столь
огромное
множество
признаков,
составляющих
различные
группы, что
может быть
мыслим в
одном случае
посредством
одной группы своих
признаков, а
в другом
случае
посредством
другой. Но в
том и в
другом
случае посредством
признаков,
образующих
различное содержание
понятий,
мыслятся не
различные
предметы, а
один и тот же
предмет.
2)
Перекрещивающиеся
понятия
Второй
вид
совместимых
понятий
перекрещивающиеся
понятия. Так
называются
два понятия,
содержание
которых
различно, но
объемы
частично
совпадают.
Это значит,
что предмет,
принадлежащий
объему одного
из таких
понятий,
одновременно
принадлежит
объему и
другого.
Например,
понятия «математик»
и «астроном»
перекрещивающиеся.
По
содержанию
они различны,
но часть
объема
понятия
«математик»
является
общей с частью
объема
понятия
«астроном»: не
все астрономы
математики
и не все
математики
астрономы, но
есть среди
математиков
астрономы и среди
астрономов
математики.
Такими же перекрещивающимися
понятиями
будут, например,
понятия
«поэт» и
«коммунист»,
«ученый» и
«турист» и т. п.
Предельным
случаем
отношения
перекрещивающихся
понятий
может быть
случай, когда
общая для
объема обоих
понятий
часть представлена
одним
единственным
предметом. Примером
такого
случая могут
быть понятия
«химик» и
«выдающийся
русский композитор».
Известно, что
А. П. Бородин
был видным
для своего
времени
химиком и
выдающимся композитором.
3) Понятия,
между
которыми
имеется
отношение
подчинения
Третий
вид
совместимых
понятий
понятия, находящиеся
в отношении
подчинения.
Между содержанием
и объемами
таких
понятий
297
имеет
место
следующее
соотношение:
все существенные
признаки
первого из
них составляют
только часть
существенных
признаков
второго,
обладающего,
кроме этих
признаков
еще
некоторыми
другими
признаками, а
объем
второго
понятия входит
полностью
как часть в
объем
первого. Таким
будет,
например,
отношение
между следующими
понятиями:
«периодическое
издание» и
«журнал»,
«социалистическое
предприятие»
и «совхоз»,
«химическое
соединение» и
«кислота».
В самом
деле, все
существенные
признаки
содержания
понятия
«периодическое
издание»
входят в
число
признаков,
образующих содержание
понятия
«журнал».
Кроме этих
признаков в
содержании
понятия
«журнал»
имеются еще
некоторые
признаки,
которыми
журналы
отличаются
от всех
остальных
видов периодических
изданий. В то
же время
понятие
«периодическое
издание»,
более бедное
признаками в своем
содержании,
шире понятия
«журнал» по своему
объему: все
журналы
входят в
объем периодических
изданий, но в
этом объеме
кроме
журналов
имеются
другие виды
периодических
изданий,
например
газеты,
ежегодники и
т. д.
Если
между двумя
понятиями
существует
отношение
подчинения,
то понятие с
большим объемом
называется
подчиняющим,
а понятие с
меньшим
объемом
подчиненным.
В нашем примере
понятие
«периодическое
издание» будет
подчиняющим,
а понятие
«журнал»
подчиненным.
Отношение
подчинения
понятий
чрезвычайно
важное
логическое
отношение. В
практической
деятельности,
в обиходном
мышлении и
особенно в
мышлении
научном
постоянно возникает
задача
мысленно
выделить из
более
широкого
круга или
класса
предметов известную
группу
предметов,
входящую в
этот класс
как его
часть.
Результат
этого действия
дает
отношение
подчиняющего
понятия к
понятию
подчиненному,
и наоборот.
Отношение
подчинения
может быть,
во-первых,
между двумя
общими и,
во-вторых,
между общим и
единичным
понятиями.
Если
отношение
подчинения
существует
между общими
понятиями, то
в таком
случае подчиняющее
понятие
называется
родом (или родовым
понятием), а
подчиненное
видом (или видовым
понятием).
Так, отношение
между
понятиями
«учащийся» и
«студент» есть
отношение
подчинения
вида роду.
Понятие «студент»
здесь
видовое, а
понятие
«учащийся»
родовое.
Так как
каждая
группа или
класс, или
множество
предметов,
вообще
говоря, может
одновременно
и входить как
часть в более
обширную
группу,
класс,
множество и
может, в свою
очередь,
заключать в
своем составе
как свою
часть
меньшую
группу, меньший
класс,
меньшее
множество, то
отсюда видно,
что род и вид
являются
относительными,
а не
безусловными
логическими
характеристиками
понятий. Одно
и то же
понятие,
являясь
видом по
отношению к
подчиняющему
понятию, есть
род по
отношению к
другому,
подчиненному
ему понятию.
Так, понятие
«студент» есть
видовое
понятие по
отношению к
подчиняющему
понятию
«учащийся», и в
то же время оно
есть родовое
по отношению
к подчиненному
ему понятию
«студент
университета».
Понятия
рода и вида
встречаются
и в биологии,
но там они
имеют другое,
безотносительное
значение.
Класс
животных или
растений, составляющий
вид, не
рассматривается
в этой науке
как род, и,
наоборот, род
нельзя
рассматривать
как вид.
Если
отношение
подчинения
существует
между
подчиняющим
об-
298
щим и
подчиненным
единичным
понятиями, то
в таком
случае
подчиняющее
понятие
называется
видом, а
подчиненное
индивидом.
Так, отношение
между
понятиями
«студент» и
«студент Н. В. Семенов»
есть
отношение
подчинения
индивида
(«студент Н. В.
Семенов»)
виду
(«студент»).
Б.
НЕСОВМЕСТИМЫЕ
ПОНЯТИЯ
Как мы
уже знаем,
несовместимыми
понятиями
называются
понятия,
объемы
которых не могут
иметь никакой
общей части.
Несовместимые
понятия
делятся на
противоречащие
(контрадикторные)
и противные
(контрарные).
1)
Противоречащие
(контрадикторные)
понятия
Два
понятия
называются
противоречащими
(контрадикторными),
когда в
содержании
одного из них
мыслится некоторый
признак
предмета, а в
содержании другого
признаком
предмета
является
отсутствие
того же
самого
признака,
который мыслится
в первом
понятии.
Например,
понятия «имеющий
высшее
образование»
и «не имеющий
высшего
образования»
противоречащие.
В содержании
первого из
них указана,
как это
обычно бывает
в понятии,
определенная
группа существенных
признаков. В
содержании
другого
признаком
предмета
является
отсутствие
этой группы
существенных
признаков.
Точно так же
противоречащими
понятиями
будут
понятия: «курящий»
и «не курящий»,
«здоровый» и
«не здоровый»
и т. д.
2)
Противные
(контрарные)
понятия
Два
понятия
называются
противными
(контрарными),
когда
содержанием
одного не
только
отрицается
содержание
другого, но,
кроме того, в
отрицающем
понятии
мыслятся некоторые
определенные
признаки,
противоположные
признакам,
мыслимым в
содержании
отрицаемого
понятия.
Примеры
противных
понятий:
«здоровье» и
«болезнь»,
«храбрость» и «трусость»,
«красота» и
«безобразие».
В понятии «болезнь»
не только
отрицаются признаки,
мыслимые в
понятии
«здоровье».
Отрицая эти признаки
понятие
«болезнь»
имеет в своем
содержании
еще
некоторые
определенные
и в этом
смысле
положительные
признаки,
которыми
характеризуется
и по которым
опознается
болезнь:
повышение
температуры,
озноб, специфические
болевые
ощущения,
изменение
нормального
течения
жизненных
процессов и
т. д. и т. п.
Другое
отличие
противных
понятий от
противоречащих
состоит в
следующем.
Между противоречащими
понятиями
нет ничего
среднего.
Между
понятиями
«здоровый» и
«не здоровый»
нет
переходных
понятий.
Напротив, между
противными
понятиями
могут быть переходные
понятия,
представляющие
различные
степени той
же самой
противоположности.
Так,
например,
между «белым»
и «черным»
существует
градация
бесчисленных
переходов, ведущих
от белого
через серое к
черному, и
наоборот.
СОПОДЧИНЕНИЕ
ПОНЯТИИ
Рассматривая
совместимые
понятия, мы
выделили
отношение
рода к виду.
При этом мы
рассматривали
отношение к
роду одного
единственного
понятия,
которое и
было видом
этого рода.
Однако
принадлежать
к одному и
тому же роду
не может только
одно
единственное
понятие. Род
потому и является
родом, что
ему под-
299
чинены
несколько
видов. Так,
роду
«студенты»
подчинен не
только вид
«студенты
университета»,
но также и
виды
«студенты
консерватории»,
«студенты
института»,
«студенты
высшего технического
училища» и т. д.
Каждый
из таких
видов может
рассматриваться
в двояком
отношении:
во-первых, в
отношении к
своему роду
и, во-вторых, в
отношении ко
всем другим
видам того же
самого рода.
Отношение
вида к роду
есть один из
случаев уже
известного нам
подчинения
понятий.
Отношение
между всеми
видами,
подчиненными
одному
общему для
них роду,
есть
отношение
соподчинения.
Так,
отношение
соподчинения
имеется
между видовыми
понятиями
«лейтенант»,
«капитан», «майор»,
«полковник»,
подчиненными
родовому
понятию
«офицер».
Видовые
понятия,
образующие
отношение
соподчинения,
называются
членами
соподчинения.
Соподчиненные
виды могуг
быть
несовместимыми
или
совместимыми
понятиями.
Например,
понятия
«поэт»,
«романист», «критик»,
«драматург»,
«публицист»
соподчиненные,
ибо все они
подчинены
понятию
«писатель»
как виды
роду. Здесь
соподчиненные
виды совместимые
понятия: поэт
может быть
одповременно
и романистом,
и драматургом
и т. д. А. С.
Пушкин,
например, был
и поэтом, и
романистом, и
критиком, и
драматургом,
и публицистом.
Но
соподчиненные
виды могут
быть и понятиями
несовместимыми.
Таковы
понятия
«острый угол»,
«прямой угол»,
«тупой угол».
Особый
случай
соподчинения
несовместимых
понятий
представляет
соподчинение
двух
противоречащих
понятий.
Таково,
например, соподчинение
понятий
«студент,
живущий в общежитии»
и «студент, не
живущий в
общежитии».
Оба эти
понятия
соподчинены
роду «студент».
Между ними
отношение
противоречащих
понятий.
Различение
двух видов
соподчинения
соподчинения
несовместимых
и соподчинения
совместимых
понятий
имеет
значение для
изучения
логических
действий, или
операций, над
понятиями.
АНАЛОГИЯ
§ 1.
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
АНАЛОГИИ
В
обиходной
речи и даже в
речи научной
аналогией
часто
называют
простое
сходство
между
явлениями.
Так, говорят,
что
существует
аналогия, т. е.
сходство,
между крылом
птицы и
плавником
рыбы. В этом
же смысле
говорят об
аналогичных
чертах двух
сходных
между собой
явлений,
например об
аналогичных
чертах
поведения
буржуазии в
революциях
французской
1848 г. и русской 1905
г., и т. д.
Аналогия,
понятая в
этом смысле,
т. е. как простое
сходство,
выясняется
посредством
сравнения.
Сравнение
имеет
чрезвычайно
широкое применение
в мышлении,
как в
обиходном,
так и в научном.
Но как бы
ни было
распространено
сравнение в практике
мышления, оно
само по себе
еще не есть
логический
вывод.
Сравнение
только подготавливает
условия для
вывода,
который может
быть сделан
на его
основе. В
одной из работ
И. В. Мичурина
мы находим
следующее
рассуждение:
«Как ребенок
не может
иметь одинакового
вида со своим
родителем, а
несет на себе
лишь едва
заметное
сходство с
ним, так и в
наружном
виде
молодого
сеянца
растения нельзя
надеяться
найти
большого
сходства с
видом его
родителей» (2, 167).
Это рассуждение
представляет
пример
сравнения. В
нем нет
признаков
логического
вывода.
Есть и
другое
значение
термина
«аналогия». В
логике
аналогией
называется
не простое сравнение
или
параллель
между двумя
предметами, а
определенный
тип
умозаключения.
Умозаключением
по аналогии
называется
вывод от
сходства
двух
предметов в
одной части
их признаков
к вероятному
сходству их в
другой части признаков,
когда эти
другие
признаки уже
найдены в
первом
предмете, но
еще
неизвестно,
окажутся ли
они в другом
предмете.
Рассмотрим
пример
умозаключения
по аналогии.
Открытие
Галилеем
четырех
больших
планетоподобных
спутников у
Юпитера
позволило
подкрепить
гипотезу
Коперника о
центральном
положении
Солнца в
нашей
планетной системе
и о движении
Земли и
других
планет вокруг
Солнца новым
доводом
выводом по
аналогии.
Галилей
сравнил
систему
спутников
Юпитера с
солнечной
системой. В
обеих
системах налицо
ряд общих для
них
признаков. В
каждой из них
огромное по
размерам
тело связано
с системой
весьма малых
сравнительно
с ним тел. В
обеих
системах
обращение
всех малых
членов совершается
почти в одной
плоскости,
совпадающей
в системе
Юпитера
301
с
экватором
центральной
планеты, а в
солнечной
системе с
плоскостью
эклиптики.
(Кроме того, в
системе
Юпитера все
эти признаки,
общие для
обеих систем,
сочетаются
еще с одним
признаком: как
показали
телескопические
наблюдения Галилея,
все малые
члены
системы
Юпитера обращаются
вокруг
огромной
центральной
планеты.
Основываясь
на этих
данных,
Галилей
заключил по
аналогии:
подобно тому
как в системе
Юпитера в
центре
движения
всех членов
системы
находится
наибольшее
по размерам
тело, так и в
солнечной
системе в
центре движения
планет
находится
наибольшее
по объему
тело этой
системы
Солнце.
В этой
аналогии
признаком,
переносимым
с одного
предмета на другой
(здесь с
системы
Юпитера на
солнечную
систему),
является
центральное
в системе
положение
наибольшего
по размерам
тела.
Выводы
по аналогии
принадлежат
к выводам вероятности.
Вероятность
умозаключения
обусловлена характером
его
оснований.
Вывод по
аналогии
опирается
непосредственно
на факт
сосуществования
в одном
предмете
признаков abc с
признаками klm, переносимыми
с одного
предмета на
другой: если
признаки abc оказались
сосуществующими
с переносимыми
признаками klт
в одном
предмете, то
это значит, что
их
сосуществование,
вообще
говоря, возможно
и что поэтому
может быть
поставлен вопрос,
не окажутся
ли они
сосуществующими
еще в одном
предмете, где
уже
установлено
существование
признаков abc.
Однако в
действительности
выводы по
аналогии
никогда не
делаются на
основании
одной лишь
такой возможности.
В каждом
предмете
вместе с
признаками abc, тождественными
для обоих
предметов,
могут
сосуществовать
весьма
многие
другие признаки.
Чтобы
выбрать из
этого
множества такой
признак
(группу
.признаков),
который можно
предположить
существующим
и в другом
предмете,
необходимо
основание
более веское,
чем простая
абстрактная
возможность
сосуществования
тождественных
признаков с
признаками
переносимыми.
Поэтому основанием
для аналогии
являются,
кроме уже
установленного
однажды
факта
сосуществования
тождественных
признаков с
признаками
переносимыми,
соображения,
выявляющие
не только отвлеченную
возможность
повторения
этого сосуществования
в другом
предмете, но
также и
соображения,
повышающие
степень
вероятности
этого сосуществования
в данном
случае.
В основе
выводов по
аналогии
всегда лежит предположение
о том, что
обнаруженное
в одном из
двух
сравниваемых
предметов
сосуществование
тождественных
признаков с
признаком
переносимым
факт не
случайный, а
закономерный,
т. е.
обусловленный
необходимым
характером связи
этих
признаков.
Другими
словами, вывод
по аналогии
основывается
на
предположении
о
необходимом
характере
связи признаков,
общих для
обоих
предметов, с
признаками,
сосуществующими
в одном из
них вместе с
группой общих
для обоих
предметов
признаков.
Раз предположение
о
необходимой
связи между
признаками
сделано,
вывод о
наличии и во
втором
предмете
признаков,
сосуществующих
в первом
предмете с
группой
общих для
обоих предметов
признаков,
получается с
полной логической
необходимостью.
Однако
необходимость
эта является
гипотетической
необходимостью.
Если верно,
что связь
между
признаками,
тождественными
для обоих
предметов, и
признаками,
обнаруженными,
кроме того, в
одном из них,
есть связь
необходимая,
то и во «тором предмете
связь эта
должна
существо-
302
вать как
связь
необходимая,
и потому во
втором
предмете, как
и в первом,
должны
иметься
признаки,
сосуществующие
в первом
вместе с
признаками,
тождественными
для обоих предметов.
Поскольку в
выводе по
аналогии необходимая
связь
признаков
только
предполагается,
вопрос об
истинности
этого вывода может
быть решен
лишь при
условии, если
будет
доказано, что
связь между
тождественными
признаками и
признаками,
переносимыми
с одного
предмета на
другой, есть
связь, необходимая
в
действительности,
а не только
по предположению.
Поэтому
всякий вывод
по аналогии
требует проверки
и до
выполнения
этой
проверки может
рассматриваться
только как
вероятный.
Из
сказанного
ясно, что в
выводах по
аналогии
проверке
подлежит
собственно
не следствие,
вытекающее
из
предположения,
на котором
основывается
аналогия, а
само это предположение.
Речь идет о
том,
действительно
ли связь
между
признаками,
переносимыми
в выводе по
аналогии, и
признаками,
тождественными
в обоих
сравниваемых
предметах,
есть связь
необходимая
или же
сосуществование
этих
признаков в
первом из
исследуемых предметов
дело случая,
который,
может быть,
никогда
более не
повторится.
Чтобы в выводе
по аналогии
мысль могла
направиться
от предмета к
предмету,
необходимо,
чтобы относительно
предмета, в
котором
переносимые
признаки
даны вместе с
признаками,
общими для
обоих
предметов,
существовало
предположение,
что предмет
этот не
единственный,
в котором
признаки эти
могут
сосуществовать,
что он
представляет
в мысли целый
ряд таких предметов
и, может быть,
даже целый
класс, каждый
член (или
экземпляр)
которого
характеризуется
сосуществованием
переносимых в
аналогии
признаков с
признаками,
общими для
сравниваемых
предметов.
Только
при наличии
такого
предположения
и при
условии, что
оно
обосновано,
вывод по
аналогии
опирается не
только на
абстрактную
возможность
того, что
сосуществование
признаков,
наблюдавшееся
в одном
случае, может
повториться
и в другом
случае.
Основанием
для
предположения,
что связь между
признаками klm и
abc в первом
предмете (А)
есть связь
необходимая,
может быть
наличие этой
же связи в
целой группе
предметов, к
которой
принадлежит
предмет А. Так,
на вопрос о
том, на каком
слоге должно
стоять
ударение в
слове
«мышление»,
ответ можно
получить на
основании
аналогии (сходства)
слова
«мышление» со
словом
«размышление».
Слово
«размышление»
принадлежит
к целой
группе слов
отглагольных
существительных,
образованных
от глагола
«мыслить». В каждом
из этих слов
ударение
стоит на
суффиксе «ен».
Таковы слова:
«размышление»,
«примышление»,
«измышление»
и т. д. Во всех
этих словах
ударение
стоит на
суффиксе «ен».
Слово «размышление»,
как и вся
указанная
группа слов,
сходно со
словом
«мышление» в
том, что они отглагольные
существительные,
образованные
от глагола
«мыслить». На
основании
предположения
о том, что
связь между способом
образования
всех этих
слов и постановкой
в них
ударения на
суффиксе «ен»
есть связь
необходимая,
а также на
основании сходства
их со словом
«мышление» в
общем для всех
них
происхождении
от глагола
«мыслить»
делаем
заключение
по аналогии,
что и в слове
«мышление»
ударение
должно
стоять на суффиксе
«ен».
Во всех
случаях
аналогий
этого рода
мысль о
необходимом
характере
связи между
признаками abc в
предмете А и
признаками klm возникает
на основе
индукции, в которой
суждение о
предмете
303
А есть
лишь одно из
ряда
суждений об
однородных с
предметом А предметах
группы, к
которой
принадлежит
предмет А.
Что
вывод по
аналогии не
есть просто
вывод от
признаков
одного
отдельного
предмета к
признакам
другого
отдельного
предмета,
было указано
уже М. И.
Каринским
(см. 1, 183).
Карийский
показал, что
в выводах по аналогии
сравниваются
между собой,
собственно,
не два
предмета, что
один из
сравниваемых
предметов
мыслится в
качестве
представителя
целой группы
предметов.
Но если
это так, то
значит
предмет В, на
который в
заключении
аналогии
переносятся
признаки klm, сам
принадлежит
к той группе
предметов, в
которую
входит и
предмет А. Предмет
В принадлежит
к ней не
только
потому, что и
в «ем имеются
согласно
заключению
вывода
признаки klm, но
и потому, что
эти признаки
(по
предположению)
так же
связаны в нем
с признаками abc,
как это
имеет место в
предмете А.
Так как
группа
предметов,
однородных с
предметом А, в
выводах по
аналогии
представлена
всего лишь
одним из
входящих в
нее
предметов (А), то
процесс
вывода
непосредственно
представляется
как переход
от
отдельного
предмета к
другому
отдельному
предмету.
В тот
момент, когда
возникает
вывод по аналогии,
связь между
признаками abc и
признаками klm, найденная
в первом
предмете,
остается еще
не
исследованной.
Возможно, что
эта связь,
уже
обнаруженная
в первом
предмете,
есть
необходимая,
но возможно,
что она есть
простая
связь
одновременного
сосуществования,
т. е. не
является
необходимой.
Если связь
между abc и klm
необходимая,
то тогда
всюду, где
налицо abc, должно
быть также и klm.
В этом
случае, как
только
необходимость
связи между abc и
klm будет
доказана,
вывод о
наличии во
втором предмете
(В) признаков
klm будет уже
не вероятным,
а вполне
достоверным.
Если же связь
между abc и klm, найденная
в предмете Л
и
предполагаемая
в качестве
необходимой,
на самом деле
не такова, т. е.
если это лишь
связь
случайного
сосуществования,
то тогда и
при наличии в
другом
предмете (В) признаков
abc нет вовсе
никакой
необходимости,
чтобы вместе
с abc были и klm: они
могут
случайно
оказаться
(как оказались
в первом
предмете А), но
могут и не
оказаться.
Аналогия
является
правомерной
лишь в том случае,
когда есть
основания
предполагать,
что связь
между abc и klm
необходимая.
Но
поскольку
эта связь
обычно не
доказана и
она не может
быть
доказана с
помощью
самой
аналогии (это
может быть
сделано лишь
с помощью
индукции и дедукции),
то выводы по
аналогии
требуют проверки.
§ 2.
УСЛОВИЯ
ПОВЫШЕНИЯ
СТЕПЕНИ
ВЕРОЯТНОСТИ
ВЫВОДОВ ПО
АНАЛОГИИ
Характеристика
выводов по
аналогии как
выводов
только вероятных
сама по себе
еще не
определяет
их познавательной
ценности.
Там, где речь
идет о
вероятности,
встает
вопрос о
степени этой
вероятности
в каждом
отдельном
случае.
Как было
показано, в
выводах по
аналогии в ряде
случаев
сравнивается
не отдельный
предмет А с
предметом В. Предмет
А мыслится
принадлежащим
к некоторой
группе
однородных
предметов.
Нетрудно
видеть, что,
чем большую
часть
предметов
группы представляет
предмет А, являющийся
исходным для
аналогии, тем
более
высокой
будет
вероятность,
что связь
между
признаками abc и
признаками klm, наблю-
304
дающаяся
у всех
предметов
группы,
связь не
случайная, а
необходимая.
Напротив,
число
признаков,
общих для
предметов А и
В и
существующих
в предмете А вместе
с признаками klт,
не имеет
решающего
значения.
Если ряд сходных
в обоих
предметах
признаков
является действием
одной и той
же причины,
то, строго
говоря, все
эти признаки
должны
приниматься
во внимание в
качестве
одного
единственного
сходного
признака.
Если в
предмете В, относительно
которого
делается
вывод по аналогии,
открыто
наличие
признака,
несовместимого
с теми
признаками klт,
какие
приписываются
ему
заключением
по аналогии,
то сходство
сравниваемых
предметов А и
В в признаках
abc теряет
всякое
значение, и
аналогия в
этом случае
оказывается
необоснованной.
Если,
например,
считать
установленным,
что для
существования
органической
жизни,
подобной той,
какая
известна на Земле,
необходимы
воздух, вода
и наличие температурных
колебаний, не
превышающих
известных
пределов, то
существование
на других планетах
условий,
несовместимых
с этими требованиями,
делает
несостоятельным
всякий вывод
по аналогии
относительно
наличия на
этих
планетах
органической
жизни, подобной
той, какая
существует
на Земле. Так,
например, Луна
имеет
множество
признаков,
общих с Землей:
одинаковое
среднее
расстояние
от Солнца,
близкую к
шаровидной
форму,
твердую кору,
наличие
горного
рельефа,
смену дня и
ночи, годовое
движение с
Землей
вокруг Солнца
и т. д.
Возможно Ли,
основываясь
на наличии
всех этих
общих обеим
планетам
признаков,
сделать
вывод, что на
Луне, так же
как и на Земле,
существует
органическая
жизнь? Очевидно,
нет.
В самом
деле,
известно, что
на Луне нет
ни воды, ни
воздуха *.
Известно
также, что
колебания
температуры
в одной и той
же точке
лунной
поверхности
в зависимости
от смены дня
и ночи
огромны и
далеко превышают
пределы,
внутри
которых
возможна жизнь,
аналогичная
земной. Так
как Луна не защищена,
как Земля,
толстым
покровом
атмосферы,
смягчающим
резкость
температурных
колебаний, то
с
наступлением
дня
температура
лунной
поверхности
поднимается
до 100° выше нуля,
а с
наступлением
лунной ночи
понижается
до 160° ниже нуля.
Условия эти
настолько
очевидно
несовместимы
с условиями
жизни, существующей
на Земле, что
для вывода о
наличии на
Луне
органической
жизни,
подобной жизни
на Земле, нет
достаточного
основания,
несмотря на
все
многочисленные
черты сходства
между Землей
и Луной в
других, указанных
выше,
отношениях.
Более
того, при
наличии в
предмете В свойства,
несовместимого
с теми, о
существовании
которых
заключают по аналогии,
множество
остальных
сходных черт
между
предметами А
и В обращается
в довод
против
аналогии. И
действительно,
если Земля и
Луна сходны
между собой в
столь многих
свойствах, то
естественно
ожидать, что
и условия,
при которых
на них
возможна
жизнь, должны
быть также
сходными.
Если же на
Луне в действительности
имеют место
условия, резко
противоречащие
условиям
жизни, известным
на Земле, то
вероятность
того, что на Луне
окажется
жизнь,
сходная с
земной, должна
быть
признана
крайне
низкой.
Большое
значение для
повышения
степени вероятности
выводов по
аналогии
имеют соображения,
заставляющие
предполагать,
что связь
между
признаками abc и
klт не
случайная. Во
многих
случаях,
несмотря на
то, что в
момент, когда
делается
вывод по
аналогии,
связь эта еще
не доказана в
качестве
необходимой,
существуют
все же веские
основания,
говорящие в
пользу
предположения
об ее
объективной
необ-
305
ходимости.
Ученый,
накопивший
огромный опыт
наблюдений и
обобщений,
может лучше и
точнее, чем
кто бы то ни
было, не
занимающийся
данным
вопросом,
предвидеть,
что связь между
признаками abc и
klm, найденная
фактически, в
известных
случаях есть
связь не
случайная, а
необходимая.
Разумеется,
это
предположение,
как всякое предположение,
требует
проверки. Эта
проверка
осуществляется
уже не путем
аналогии, а
посредством
подлинных
доказательств.
Много
научных
истин как
частного, так
и весьма
общего
характера
было впервые
найдено
посредством
аналогии.
Так,
сравнение
явлении
звука и света
доказало, что
явления эти
заключают в
себе ряд сходных
свойств: и
звук и свет
подчиняются
законам
прямолинейного
распространения,
отражения,
преломления
и
интерференции.
Относительно
звука
доказано,
кроме того,
при помощи
опытов с
сиреной и
монохордом,
что звук
вызывается
периодическими
движениями. Отсюда
сделали
заключение
по аналогии,
что и свет
вызывается
подобными же
движениями.
Именно эта
аналогия,
подмеченная
знаменитым
голландским
физиком и
математиком
XVII века
Христианом
Гюйгенсом,
привела его к
понятию
световой
волны. В этом
случае
аналогия оказалась
исходным
выводом для
сформирования
одной из
важнейших в
истории
науки гипотез.
Аналогия
между
распространением
теплоты и
распространением
электричества
в проводниках
дала
возможность
физику Ому
распространить
на область
электричества
уравнения, разработанные
Фурье для
явлений
теплоты. Аналогия
между
магнитными и
электрическими
изоляторами
сыграла
видную роль в
развитии
физических
учений о
магнетизме и
диэлектрической
поляризации.
Примеры
эти не
единичны и не
случайны.
Физик, химик,
биолог,
историк стремятся
не только к
накоплению
фактов, но также
к
объединению
изучаемой
области явлений
в теории,
охватывающей
всю эту
область. При
этом
исследователь
часто
пользуется выводами
по аналогии,
основываясь
на связях, которые
он находит
между
изучаемыми
явлениями и
явлениями,
наблюдаемыми
в другой области.
Разумеется, в
ряде случаев
найденные
таким
образом
заключения
по аналогии оказываются
ошибочными, и
тогда науке
приходится
отбрасывать
их, как
негодные. Но
во многих случаях
догадки,
возникшие
путем
аналогии,
оказываются
по проверке
истинными.
Поэтому
выводы по
аналогии
есть
постоянно
действующее
условие
научного
прогресса. Не
случайно
Кеплер
называл
аналогии
своими «вернейшими
учителями» и
«участниками
тайн природы».
Даже
аналогия,
оказавшаяся
по проверке
ошибочной,
может
принести
пользу, и
притом немалую.
И
действительно,
всякая
аналогия заключает
от того, что
более
известно, к
менее
известному.
То, что
выведено
посредством
аналогии в
качестве
вероятного,
должно быть проверено.
Поэтому
вслед за
догадкой
идет проверка.
Эта проверка
может или
оправдать
аналогию, или
опровергнуть
ее Но даже
если вывод по
аналогии
окажется
опровергнутым,
сама
необходимость
проверки
вывода всегда
полезна, так
как в
результате
ее область В окажется
лучше
исследованной;
чем до возникновения
аналогии: в
этой области
могут быть
открыты
новые, ранее
не известные
нам свойства
или факты.
Тот факт,
что аналогия
сама по себе
не имеет
полной
доказательной
силы и всегда
нуждается в
проверке, а
также тот
факт, что в
одних
случаях
аналогии по
проверке
оказываются
истинными, а
в других ложными,
породили в
научной
литературе
по логике
противоречивую
оценку
аналогии как
вывода. Те
логики,
которые наи-
306
большее
значение
придавали
вопросу о доказательной
силе
аналогии,
часто были
склонны
низко оценивать
роль этого
рода
умозаключения
в логическом
мышлении.
Пример
такого взгляда
представляет
оценка
аналогии,
высказанная
английским
философом-агностиком
Гербертом
Спенсером. По
Спенсеру,
«рассуждение
по аналогии
есть антипод
доказательного
(demonstrative) рассуждения...»
(3, 48).
Другую
крайность
представляет
собой преувеличенно
высокая
оценка
аналогии как
вывода.
Например, Мах
и махисты
рассматривали
аналогию как
основной и
чуть ли не
единственный
метод познания.
В
действительности
аналогия
представляет
собой одну из
важных
ступеней в
развитии
научного
знания. Но
эта ступень
никогда не
бывает
окончательной
и скорее есть
начальная
ступень
исследования.
Поэтому все свое
научное
значение
аналогия
приобретает
лишь тогда,
когда со
ступени
вывода по
аналогии,
через
проверку в
практике
наука
поднимается
на высшую
ступень на
ступень
подлинно достоверного
знания.
ГИПОТЕЗА
§ 1.
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ГИПОТЕЗЫ
Слово
«гипотеза»
имеет не одно
значение. Гипотезой
называют,
во-первых,
догадку о
факте,
который в
настоящее
время по
некоторым
причинам
недоступен
для
обнаружения,
но который
может быть
обнаружен
без каких-то
особых
исследований.
Во-вторых,
гипотезой
называют
предположения
особого рода,
применяемые
в научном исследовании.
Предположение
является
гипотезой в
логическом
смысле слова
при наличии
следующих
условий:
1)
Предположение,
составляющее
содержание
гипотезы, не
должно
находиться в
противоречии
ни с какими
данными
науки.
Гипотеза по
своему
содержанию
не должна
противоречить
научному
мировоззрению
и составу
достоверных
научных
знаний, имеющихся
ко времени ее
возникновения.
2)
Предположение,
составляющее
содержание
гипотезы,
должно быть
достаточным
для того,
чтобы с его
помощью
могли быть
объяснены
все те факты,
для
объяснения
которых оно
выдвигается.
3)
Предположение,
составляющее
содержание
гипотезы,
должно лучше
и полнее, чем
всякое
другое
предположение,
объяснить те
явления; те
факты, для
объяснения
которых оно привлекается.
Из
указанных
здесь
условий видно,
что
гипотезой не
может
считаться
предположение
фантастическое,
произвольное,
надуманное.
По каждому
вопросу
науки может быть
придумано
неисчислимое
множество всяких
предположений,
которые, если
рассматривать
их
изолированно
от всей
совокупности
научных
знаний эпохи,
могут, вообще
говоря,
давать какое-то
объяснение.
Однако этого
совершенно
недостаточно.
Гипотеза
должна
органически
входить в
систему
теоретических
знаний той
области, для
которой она
разработана.
Важно,
чтобы
гипотеза
объясняла не
часть фактов
или явлений,
нуждающихся
в объяснении,
а всю их
совокупность.
Правда, на
практике это
требование
бывает
трудно
осуществить. Тем
не менее
требование
полноты
объяснения
остается
обязательным.
Наконец,
чрезвычайно
важным
является требование,
чтобы
гипотеза не
только
объясняла
все явления,
к которым она
относится,
но, кроме
того,
объясняла бы
каждое из них
с наибольшей
полнотой и
точностью.
Там, где
все три
указанных
выше условия
соблюдены,
предположение
приобретает
значение
подлинной
научной
гипотезы и
является по
осуществлении
надлежащей
проверки
важным
фактором
научного
развития.
308
В науке
гипотезой
называют
предположение
либо о
непосредственно
не
наблюдаемом
факте, либо о
предполагаемом,
непосредственно
не
наблюдаемом
закономерном
порядке, объясняющем
известную из
опыта
совокупность
явлений.
В
качестве
примера
гипотезы о
факте можно назвать
предположение
о том, что
шесть круглых
кратеров на
острове
Саарема в
Эстонской
ССР
образовались
вследствие
падения на
Землю в этом
месте
крупного
метеорита. Примерами
гипотез о
закономерном
порядке
могут быть
гипотезы
академика В.
Г. Фесенкова
и академика
О. Ю. Шмидта о
происхождении
солнечной
системы, в
которых
известные в
настоящее
время
особенности
строения
солнечной системы
выводятся из
некоторого
предполагаемого
каждой такой
гипотезой
закономерного
порядка
образования
этой системы.
Гипотеза
возникает
обычно как
более или менее
вероятный
вывод из
фактов,
которые не представляют
достаточного
основания для
признания
достоверной
истинности
этого вывода.
Исходную
фазу в
образовании
гипотезы
часто
образует аналогия.
Заметив, что
две группы
явлений имеют
ряд сходных
или
тождественных
черт, и зная,
какой
причиной
вызывается
одна из этих
групп
явлений,
предполагают
по аналогии, что
и другая
группа
явлений
может
вызываться
той же
причиной.
Так, одна
из
величайших
по своему
значению гипотез
естествознания
гипотеза об
атомном
строении
материи
была
разработана
и в древности
и в новое
время при
посредстве аналогии.
Уже античные
атомисты
Демокрит, Эпикур,
Лукреций Кар
при
создании ими
атомистической
гипотезы опирались
на аналогию
движений
атомов с движением
пылинок в
воздухе:
подобно тому
как обычно
невидимые
нами пылинки
носятся по
воздуху и
лишь при
особых
условиях
освещения
становятся
видимыми, так
и невидимые, невоспринимаемые
чувствами,
атомы
движутся в
пустом
пространстве.
И в новое
время
создатели
атомистической
гипотезы
опирались на
аналогии
между
макромиром
(вселенной
небесных тел)
и микромиром
(миром
молекул и
атомов).
Необходимость
возникновения
гипотез обусловлена,
как показал
Ф. Энгельс,
самим
прогрессом
науки
открытием
новых данных,
которые противоречат
прежнему
объяснению
ранее известных
фактов,
относящихся
к тому же
самому кругу
явлений.
«Наблюдение
открывает какой-нибудь
новый факт,
делающий
невозможным
прежний
способ
объяснения
фактов,
относящихся
к той же
самой группе.
С этого
момента возникает
потребность
в новых
способах объяснения,
опирающаяся
сперва
только на ограниченное
количество
фактов и
наблюдений. ...
Если бы мы
захотели
ждать, пока
материал будет
готов в чистом
виде для
закона, то
это значило
бы
приостановить
до тех пор
мыслящее
исследование,
и уже по
одному этому
мы никогда не
получили бы
закона» (1,20, 555).
Несмотря
на то что
гипотеза
представляет
собой лишь
предположительное
объяснение
известных
фактов, она
имеет
большое
значение в развитии
знания. После
того как
гипотеза возникла,
из нее могут
быть
выведены
различные
следствия о
существовании
тех или иных
еще не
известных
явлений и
закономерностей.
Это
определяет
направление
дальнейшего
исследования,
обеспечивает
возможность
целенаправленного
наблюдения и
постановки экспериментов.
Таким
образом,
гипотеза сказывается
важным
средством
научного познания,
формой
движения от
известного к
неизвестному.
Исходя из
этого,
Энгельс
подчеркивал,
что гипотеза
является
формой
развития
естествознания,
поскольку
оно мыслит
(см. 1, 20, 555).
309
Гипотезы
применяются
не только в
естественных
науках, но и в
науках
исторических.
Величайшие
научные
теории,
представляющие
в настоящее
время
фундамент
всего научного
знания, во
многих
случаях
возникали
первоначально
как гипотезы.
Примером
такой гипотезы
может быть
теория
исторического
процесса,
разработанная
Марксом.
В
произведении
«Что такое
«друзья
народа» и как
они воюют
против
социал-демократов?»
В. И. Ленин писал,
что
исторический
материализм
не сразу сложился
в качестве
достоверной
теории. Сначала
это была в
высшей
степени
вероятная
гипотеза. В
таком виде в
форме
гипотезы, говорит
Ленин,
основоположники
научного коммунизма
изложили
теорию
исторического
материализма
в «Манифесте
Коммунистической
партии».
«Разумеется,
писал об этом
В. И. Ленин, пока
это была еще
только
гипотеза, но
такая гипотеза,
которая
впервые
создавала
возможность
строго
научного
отношения к
историческим
и
общественным
вопросам» (2, 1, 136).
Однако на
стадии
гипотезы
теория
исторического
материализма
не
остановилась.
Написав
«Капитал»,
Маркс
превратил
это учение из
гипотезы в
научно
доказанную,
достоверную
теорию.
«Теперь,
писал В. И.
Ленин, со
времени
появления
«Капитала»
материалистическое
понимание
истории уже
не гипотеза,
а научно
доказанное
положение...» (2, 1,
139140).
§ 2.
РАЗВИТИЕ
ГИПОТЕЗЫ
Всякая
гипотеза
проходит
определенный
процесс
развития, в
котором она
подвергается
уточнениям и
исправлениям,
дополняется
новыми
предположениями
и в конце
концов либо
доказывается
и
превращается
в научную
теорию, либо
опровергается
и заменяется
новой
гипотезой.
Во
всякой
гипотезе
отчетливо
выделяются три
последовательные
стадии ее
развития. Первая
стадия это
возникновение
гипотезы на
основе тех
или иных
фактов и
положений
науки. Вторая
стадия
развития
гипотезы
состоит в анализе
основного
предположения
и разработке
ряда
следствий,
вытекающих
из этого предположения.
Третья
стадия
состоит в
том, что
следствия,
аналитически
полученные из
исследования
основного
допущения
гипотезы, сопоставляются
с данными
наблюдения и
опыта. Если
это
сопоставление
покажет, что
все следствия,
теоретически
выведенные
посредством
анализа
основного
допущения,
существуют в
действительности,
то это будет
доказывать, что
гипотеза
вероятна.
Может
показаться,
что если
теоретически
выведенные
следствия
гипотезы
соответствуют
наблюдаемым
фактам
действительности,
то тем самым
гипотеза
должна
считаться доказанной
в качестве
достоверной
истины.
Однако это не
так. Дело в
том, что одно
и то же
следствие
(или
следствия) может
вытекать из
различных
оснований.
Поэтому
согласие
выведенных
из основного
предположения
гипотезы
следствий с
фактами действительности
еще не
доказывает
ее достоверности.
Эти факты
могут
оказаться обусловленными
д р у г ой
закономерностью,
которая
осталась
неизвестной
автору
гипотезы.
Поэтому требуется
дальнейшее
исследование.
При
возникновении
и при
дальнейшей
разработке
гипотезы
мысль идет от
суммы известных
фактов или
явлений к их
предполагаемой
причине, к предполагаемому,
обусловливающему
эти факты или
явления
закону
развития. В
этом процессе
исследования
часто
возникает не
одна
единственная
гипотеза, а
две или даже
несколько.
Раз
возникнув,
гипотезы эти
вступают в
соревнование
и даже в
борьбу. Эта
борьба должна
показать
впоследствии,
какие из соревнующихся
310
между
собой
гипотез
ложны, не
соответствуют
действительности
и какая одна
окажется
истинной При
этом речь
идет о
соответствии
действительности
не следствий,
извлекаемых
из каждой
гипотезы, но
ее основного
предположения,
из которого
следствия
выводятся
аналитически.
В чем
может
состоять
дальнейшее
развитие гипотезы?
Дело в том,
что
известная
нам область
явлений, для
объяснения
которых
создается
гипотеза, по
мерс успехов
наблюдения и
опыта
непрерывно
расширяется.
Если в момент
своего
возникновения
гипотеза
должна
объяснить
определенный
круг явлений,
то по мере
дальнейшего
развития
науки
становятся
известными
все новые и
новые факты,
относящиеся
к той же области,
для которой
предназначена
гипотеза, но
неизвестные
науке в то
время, когда
гипотеза только
еще
возникала
Если
гипотеза не
искусственное
и не надуманное
измышление, а
действительно
обоснованное
научное
допущение,
соответствующее
действительности,
то из ее
основного допущения
могут быть
аналитически
выведены не
только те
факты,
которые были
известны при
создании
гипотезы, но
также и те,
которые
становятся
известными
уже после
того, как
гипотеза
была
сформулирована.
Способность
гипотезы, т. е.
ее основного
допущения,
объяснить не
только ранее
известные
явления, но
также
явления,
ставшие известными
впоследствии,
есть важное
условие проверки
истинности
основного
предположения
гипотезы.
Чем
больше
открывает
наука новых
фактов, объясняемых
основным
предположением
гипотезы, тем
более
высокой
становится
степень
вероятности
гипотезы
Так, для
объяснения в
высшей
степени
правильных,
периодически
повторяющихся
изменений в
силе блеска
некоторых
звезд (вроде
Алголя в
созвездии
Персея или
беты в созвездии
Лиры) была
предложена
гипотеза,
согласно
которой
периодические
изменения в
силе блеска
звезды
объясняются
наличием у
такой звезды
спутника, движущегося
вокруг нее в
плоскости
луча нашего
зрения
Спутник этот
затмевает
звезду всякий
раз, когда в
своем
обращении
вокруг нее он
проходит
между нами и
звездой. При
этом затмение
в системе,
состоящей из
двух звезд, должно
происходить
дважды во
время каждого
из ее
обращений: 1)
когда
спутник
проходит
между
звездой и
нами,
закрывая
своим диском
часть
поверхности
главной
звезды, и 2) когда,
продолжая
свое
обращение
вокруг главной
звезды,
спутник
заходит за
нее и сам скрывается
за ее диском
Так как
звезды эти
удалены от
нас на огромное
расстояние и
так как
составляющие
каждой такой
пары
относительно
близки одна к
другой, то
для земного
наблюдателя
каждая такая
пара
представляется,
даже при
рассматривании
ее через
телескоп, не
в виде двух, а
в виде только
одной звезды.
По той же
причине
правильно
повторяющиеся
затмения
главной
звезды
спутником и спутника
главной
звездой
представляются
не в своем
подлинном
виде как
затмения, а в
виде
периодического
изменения
силы блеска
одной
единственной
звезды, в
которую для
наблюдателя
сливаются
обе
составляющие
тесной пары.
Как же
должен
представляться
наблюдателю
весь ход
явлений, если
гипотеза эта
истинна?
Вне
затмений
сила блеска
всей пары
будет
представляться
наблюдателю
наибольшей,
так как в это
время до него
доходит полный
свет каждой
из звезд,
составляющих
пару. Когда
меньшая из
составляющих
скрывается
за большей,
сила блеска
всей пары будет
для
наблюдателя
минимальной,
так как в это
время до
наблюдателя
доходит свет
только одной
из
составляющих,
а именно
большей. Когда
меньшая из
составляющих
проходит
между Землей
и большей,
сила блеска
всей пары бу-
311
дет для
наблюдателя
тоже
минимальной,
так как в это
время до
наблюдателя
доходит не
полностью
весь свет
обеих
составляющих,
но лишь
полный свет
от меньшей и
свет от той
части
большей,
которая
осталась во
время
прохождения
меньшей не
закрытой ее
диском. При
этом один из
этих
минимумов
обычно глубже
другого.
Изложенное
здесь
предположение
о причине
наблюдаемых
правильно
периодических
изменений
силы блеска
некоторых
звезд
гипотеза. В
ней все
наблюдаемые
факты,
выражаемые
кривой
изменения
блеска и периодом
изменений,
представляют
сложное
действие, к
которому
должна быть
подыскана
объясняющая
его причина
или
закономерный
порядок.
Как
обычно
бывает при
возникновении
гипотезы, на
мысль об этой
причине
навела аналогия.
Из опыта
известны
некоторые
явления ослабления
силы блеска,
наблюдаемые
при затмениях
Солнца и
Луны.
Известна
также и причина
этих явлений.
Сходство
некоторых
сторон этих
явлений с
явлениями,
наблюдаемыми
при изменении
силы блеска
некоторых
звезд, породило
по аналогии
догадку, что
причина, сходная
с той,
которая
производит
явления солнечных
и лунных
затмений,
производит и
наблюдаемые
изменения в
силе блеска
некоторых звезд.
Таково
было
первоначальное
предположение.
Однако в
рассматриваемом
случае гипотеза
не могла
ограничиться
столь
простым допущением.
Новые, более
тщательные,
более полные
и точные
наблюдения
обнаружили,
что в ходе
изменения
силы блеска
переменных
звезд
рассматриваемого
типа имеются
усложнения,
которые
говорят о
том, что
кроме уже предположенной
в гипотезе
причины,
объясняющей
картину
явлений в
целом, должны
существовать
особые,
добавочные
причины. Для
объяснения этих
впоследствии
обнаруженных
изменений
первоначальное
предположение
оказалось
уже
недостаточным.
Пришлось,
сохраняя это
предположение
в целом,
допустить,
что кроме
затмения
одной из
составляющих
другой в
рассматриваемом
случае
действуют, вызывая
дополнительные
изменения
силы блеска,
новые причины.
Главнейшие
из этих
усложняющих
обстоятельств
следующие: 1)
Вследствие
силы взаимного
притяжения и
близкого
расстояния
между
некоторыми
двойными
звездами обе
составляющие,
вытянувшись
по
направлению
друг к другу,
приобрели
продолговатую
форму и
потому поворачиваются
к земному
наблюдателю
в различное
время то
большей, то
меньшей
частью своей
поверхности,
давая то
большее, то
меньшее
количество
света. 2) Так
как каждая из
составляющих
имеет
атмосферу, то
для земного
наблюдателя
звезда
представляется
более
светлой в
середине
своего диска
и более темной
у края.
Вследствие
этого во
время затмения
сила света
звезды
убывает и
нарастает не
равномерно,
но с
различной
интенсивностью,
в
зависимости
от того,
закрывается
ли в данный
момент
затмения
более темная
или более
светлая
часть диска
затмеваемой
звезды. 3)
Каждая из
составляющих
вследствие
близкого
расстояния
между ними
отражает со своей
поверхности
свет другой.
Это также дает
дополнительное
изменение
силы света. 4) Вследствие
вытянутости
орбит обеих
звезд взаимодействие
лучистой
энергии
каждой составляющей
с другой
также
изменяется
во времени и
т. д.
Выяснение
всех этих
дополнительно
действующих
причин,
действия
которых
накладываются
на основную
причину,
ведет к тому,
что та часть
наблюдаемых
явлений,
которая оставалась
непонятной,
пока мы
опирались
только на
основное
допущение
гипотезы,
получает
теперь
полное
объяснение.
Рассмотренный
пример есть
пример
уточнения и
усложнения
первоначального
предположения
гипотезы.
312
Важно
заметить, что
в этом случае
дополнительные
причины,
присоединяемые
к причине, первоначально
указанной в
гипотезе, не
требуют
изменения
основного
предположения
гипотезы,
вполне
совместимы с
ним и только
присоединяются
к нему,
уточняя,
таким образом,
и без того в
общем верное
объяснение.
Именно это
присоединение
дополнительных
причин
улучшает
согласие
между всей
суммой известных
из
наблюдений
фактов и
предположенной
в гипотезе их
причиной.
Развитие
гипотезы
может
привести не
только к
уточнению и
улучшению
основного
допущения, но
и к гораздо
более
существенному
результату
к необходимости
изменения
основного
предположения
гипотезы и
даже к
необходимости
отказа от него,
т. е. к замене
данной
гипотезы
другой гипотезой.
Примером
частичной
поправки,
внесенной в
основное
допущение
гипотезы,
может быть
развитие
представлений
о (форме
орбит, по которым
планеты
движутся
вокруг
Солнца. Коперник,
создавший
гелиоцентрическую
гипотезу,
предполагал,
так же как и
античные и
средневековые
астрономы,
будто
единственной
формой
орбиты,
свойственной
небесным
телам, может
быть круг.
Но когда
Кеплер,
располагавший
более точными
данными
наблюдений,
чем Коперник,
убедился в
том, что
допущение
круговых
движений
планет
несовместимо
с
наблюдаемыми
положениями
планет на
небесном своде,
он после
долгих
испытаний
различных форм
орбиты
пришел к
заключению,
что такой формой
должен быть
эллипс.
Однако в
ряде случаев
никакие
поправки, вносимые
в гипотезу,
не приводят к
удовлетворительному
согласию
между старой
гипотезой и
новыми
фактами, опровергающими
ее основное
допущение. Во
всех таких
случаях
науке
приходится
уже не просто
«подправлять»
устаревшую
гипотезу, но
отвергать ее
и заменять
новой.
Классическим
примером
-такой
проверки
гипотезы, которая
привела к
отказу от ее
основного
допущения и к
замене
старой
гипотезы
новой, может
быть
проверка
гипотезы
Птолемея о
центральном
положении
неподвижной
Земли в
мироздании и
о движении
всех
небесных
светил вокруг
Земли по
круговым
орбитам.
На
первый
взгляд могло
бы
показаться
странным,
почему средневековые
астрономы,
вместо того,
чтобы отбросить
очевидно
устаревшую
гипотезу Птолемея,
продолжали
еще упорно
цепляться за нее,
внося ряд
искусственных
поправок в ее
основное
допущение.
Однако
явление это
вполне
понятно.
Здесь
действовала
не только сила
научной
рутины, но в
еще большей
степени тот факт,
что
геоцентрическая
система была
освящена
авторитетом
церковного
мировоззрения.
Гипотеза
Птолемея
составляла
одну из основ
мировоззрения
господствующих
классов
средневековья.
Поэтому
борьба гениального
новатора
науки
Коперника
против
птолемеевских
представлений
была не
только
борьбой одной
из
теоретически
возможных
гипотез против
другой, но
вместе с тем
и борьбой
прогрессивного
научного
философского
мировоззрения
против
мировоззрения
реакционного.
§ 3.
ПРОВЕРКА
ГИПОТЕЗЫ
Всякая
гипотеза
необходимо
требует проверки.
Проверка
гипотезы
обычно идет в
двух направлениях.
Первое
состоит в
том, что,
сформулировав
основное
допущение
гипотезы,
стремятся
сделать как
можно больше
следствий, вытекающих
из этого
допущения. Если
все эти
следствия
окажутся
согласными с
данными
наблюдения и
опыта и ни
одно из них
не будет
противоречить
этим данным,
то гипотеза
должна
считаться
вероятной.
Степень ее
вероятности
будет
313
тем
большей, чем
разнообразнее
и многочисленнее
следствия,
выведенные
из гипотезы и
оказавшиеся
в согласии с
опытом.
Одним из
веских
доказательств
в пользу гипотезы
бывает
открытие
путем
специального
опыта
такого
явления,
которое до
разработки
гипотезы
прямо нигде
не
наблюдалось, не
было
известно и
существование
которого
было впервые
выведено
теоретически
как
следствие
данной
гипотезы. Таким,
например,
было одно из
следствий,
выведенное
из основного
допущения
волновой гипотезы
света.
Математический
анализ показал,
что в случае,
если
волновая
гипотеза истинна,
то внутри
полной тени,
отброшенной
на светлый
экран темным
сплошным
кружком,
помещенным
между
источником
света и
экраном, непременно
должно
наблюдаться
при известных,
точно
определенных
условиях
светлое пятно,
как если бы
кто-то
проколол
темный кружок
посередине.
Последующая
проверка
опытом показала,
что факт
этот,
кажущийся
парадоксальным,
действительно
имеет место.
Разработка
гипотезы в
случае, если
гипотеза
истинна,
постоянно
приводит к
открытию подобных
фактов. Если
же гипотеза
ложна, то,
наоборот, вновь
открываемые
факты
окажутся
невыводимыми
из основного
ее допущения.
Особенно
важным
доводом в
пользу
истинной
гипотезы
является ее
способность
приводить к
открытию
численных
соотношений,
связывающих
весьма
несходные
между собой,
отдаленные
друг от друга
явления.
Если
гипотеза
задумана с
таким
расчетом, чтобы
из ее
основного
допущения
могли быть получены
как его
необходимые
следствия факты
и численные
данные, уже
известные из
наблюдений,
то в этом
случае даже
полное согласие
между
теоретически
выведенными
из гипотезы
следствиями
и
наблюдаемыми
фактами или
явлениями
еще не
доказывает само
по себе, что
гипотеза
истинна. Так,
английский
физик и
астроном
Эддингтон
предложил
гипотезу
относительно
внутреннего
строения
звезд. В этой
гипотезе
большую роль
играло предположение
о том, что
световое
давление,
противодействуя
силе тяжести,
не дает звезде
сжаться, и,
таким
образом,
между светимостью
звезды и ее
массой
должно
существовать
определенное
соотношение:
для уравновешения
силы
светового
давления и
силы тяжести звезда
должна
обладать
определенной
массой.
Подсчеты,
сделанные на
основе этого
допущения,
привели к
выводу, что
большинство устойчивых
звезд должно
иметь массу,
близкую к
массе Солнца.
В этом случае
из основного
допущения
гипотезы
получался
вывод, прекрасно
согласующийся
с данными
наблюдения.
Однако
вскоре было
выяснено, что
в вопросе о внутреннем
строении
звезды сила
светового
давления
имеет
ничтожно
малое
значение. Тем
самым была
доказана
ложность
гипотезы
Эддингтона.
Напротив,
если
исследование
гипотезы
показывает,
что из ее
основного
допущения необходимо
следует
некоторый
факт, совершенно
неизвестный
науке до
того, как
возникла
данная
гипотеза, и
если
проверка
покажет, что
факт этот
существует в
действительности,
то согласие
между
гипотезой и
данными наблюдения
в этом случае
повышает
степень вероятности
гипотезы.
§4.
РЕШАЮЩИЙ
ОПЫТ (EXPERIMENTUM CRUCIS)
Английский
философ и
логик-материалист
Фрэнсис
Бэкон
выдвинул
весьма
плодотворное
положение о
таком
эксперименте,
который мог
бы служить
решающей
инстанцией
при выборе
одной из двух
соперничающих
между собой
гипотез. В XIX
веке это
положение Бэкона
вновь
314
привлекло
к себе
внимание
логиков в
связи с
особенностями
развития
естественнонаучных
гипотез
этого
времени.
По
серьезным
вопросам
науки
гипотезы редко
возникают в
единственном
числе. Обычно
на вопрос о
закономерном
порядке,
объясняющем
известную
область
явлений,
отвечает не
одна
единственная,
а две или
даже несколько
гипотез,
часто
существенно
отличающихся
одна от
другой. Но
так как
истина одна,
то совершенно
очевидно, что
несколько
различных
гипотез,
объясняющих
по-разному
одну и ту же
совокупность
явлений, не
могут быть сразу
истинными.
Необходим
выбор между
двумя или
даже
несколькими
соперничающими
между собой
по данному
вопросу
гипотезами.
В XIX веке
понятие
Бэкона о
решающем
опыте приняло
следующую
форму. Для
решения
спора между двумя
соперничающими
гипотезами
необходимо
довести
анализ обеих
гипотез до
такой стадии,
на которой
выяснится,
что из них вытекают
несовместимые,
противоречащие
одно другому
следствия.
Сделав это,
необходимо
обратиться к
проверочному
опыту. Если
опыт этот покажет,
что имеет
место
явление,
несовместимое
со
следствием,
выведенным
из первой гипотезы,
и в то же
время
согласующееся
со следствием,
выведенным
из второй
гипотезы, то
первая
гипотеза
должна быть
отвергнута, как
ошибочная, а
вторая
должна
считаться подтвержденной
в пределах ее
опытной
проверки.
Проверочный
опыт,
определяющий
выбор одной
из двух
противоположных
гипотез,
называется
«решающим
опытом» (experimentum crucis).
Положение
о «решающем
опыте»
заключает в
себе
истинное
ядро, но
нуждается в
некотором уточнении.
Главный
недостаток
его в допущении
того, будто
возможно
найти такой
опыт, которым
раз навсегда
и полностью
можно доказать
или
опровергнуть
данную
гипотезу.
В
действительности
так не
бывает.
«Решающие
опыты»
возможны, и
ими
постоянно
пользуются в
науке для
опровержения
ложных
взглядов.
Однако таким
«решающим
опытом»
опровергается
не отдельно
взятая
гипотеза, как
это утверждают
буржуазные
логики-индуктивисты,
а вся та
теория, в
состав
которой
данная гипотеза
входит как
одно из ее
звеньев.
Так,
известный
опыт Фуко, на
который
обычно ссылаются
как на опыт,
будто бы раз
навсегда и
полностью
решивший
спор между
корпускулярной
и волновой
гипотезами о
природе света,
в
действительности
доказал
ошибки не в
корпускулярной
гипотезе,
отдельно
взятой, а во
всей той
системе
теоретических
взглядов, к
которой эта
гипотеза
принадлежала
как ее
составная
часть.
Опровергнутое
опытом Фуко
отношение
между
показателем
преломления
и скоростью
распространения
света в
различных
средах было
следствием
не из
корпускулярной
гипотезы
самой по
себе, а из
всей системы
допущений,
положенных в
основу
оптики Ньютона,
Лапласа и
Био.
Но если
«решающий
опыт» не
может
окончательно
опровергнуть
отдельную
гипотезу, то
он может быть
верным
средством
для
обнаружения
ошибки в
целой системе
положений
науки, в
которую
гипотеза
входит как
часть. Наука
сопоставляет
не отдельную
гипотезу с
отдельными
фактами, а
всю теоретическую
систему со
всей суммой
данных наблюдения
и опыта. При
таком
сопоставлении
«решающий
опыт» часто
играет
весьма
важную роль.
Отрицательный
результат
«решающего опыта»
доказывает,
что теория,
рассматриваемая
в це-л о м, не
верна и что в
одном из
звеньев
имеется
ошибка. В
таком случае
теория должна
быть или
отброшена
как целое
(вместе с
исследуемой
гипотезой),
или в ней
должно быть
исправлено
ошибочное
звено. И в
315
том и в
другом
случае
восстанавливается
нарушенное
логическое
единство
теории.
Как
пробный
камень
истинности
или ложности
теории
«решающий
опыт»
постоянно
осуществляется
в самых
различных
областях
экспериментальных
наук. Так, при
помощи
«решающего
опыта»
Галилей,
наблюдая в
телескоп
фазы Венеры,
решил спор
между
геоцентрической
теорией
Птолемея и
гелиоцентрической
теорией Коперника,
так как фазы
планет
необходимо
следовали из
гелиоцентрической
системы и не
могли
следовать из
геоцентрической.
При помощи
«решающего
опыта» Ньютон
ответил на
вопрос,
возникают ли
цвета
вследствие
преломления
световых
лучей или
существуют
до преломления,
так что
только
различие
показателей
преломления
делает их
видимыми.
Таким
образом,
«решающий
опыт» имеет
весьма большое
значение, но
не совсем то,
какое ему
часто
приписывается.
Поскольку
«решающий опыт»
есть
средство
опровержения,
им опровергается
не отдельная
гипотеза, а
целая теория.
Поскольку же
«решающий
опыт»
подтверждает
следствие,
выведенное
из другой
гипотезы,
подтверждение
это не есть
еще полное
доказательство
ее
истинности.
Правда,
согласие
«решающего
опыта», со
следствием
гипотезы
доказывает истинность
следствия.
Но, как
известно, от
истинности
следствия
нельзя
заключать к
необходимой
истинности
основания.
Согласное с
опытом
следствие
может
вытекать и из
другого
основания.
Поэтому даже
при условии,
если бы
«решающий
опыт» мог
окончательно
опровергнуть
одну из
соперничающих
гипотез, это
опровержение
отнюдь
нельзя
толковать как
доказательство
необходимой
истинности
другой
гипотезы.
История
наук
подтверждает
справедливость
сказанного.
Так, даже
после опыта
Фуко борьба
корпускулярной
и волновой
гипотез не
закончилась.
В
современной
физике происходит
частичное
возрождение
корпускулярной
гипотезы.
Это, конечно,
не было бы возможным,
если бы опыт
Фуко был
действительно
решающим в
отношении
корпускулярной
гипотезы. Он
оказался
решающим не
по отношению
к ней,
отдельно
взятой, но по
отношению ко
всему
теоретическому
целому, в
которое
входила эта
гипотеза и в
котором опыт
Фуко действительно
обнаружил
ошибку.
§ 5. ПРЕВРАЩЕНИЕ
ГИПОТЕЗЫ В
ДОСТОВЕРНОЕ
ЗНАНИЕ
При
известных
условиях
проверка
гипотезы
может
привести к
тому, что
гипотеза из
вероятного
предположения
становится
доказанным,
достоверным
знанием. Так
как гипотеза
есть предположение
либо о факте,
либо о
закономерном
порядке, то и
превращение
гипотезы в
достоверное
знание
происходит
по-разному, в
зависимости
от того,
проверяется
ли гипотеза о
факте или
гипотеза о
закономерном
порядке.
Гипотеза
о факте
превращается
в доказанную
истину, если
возможно
доказать, что
из предположенного
факта, и
только из
него одного,
вытекает
следствие,
наличие
которого устанавливается
опытом. Так,
гипотеза о
метеоритном происхождении
кратеров на
острове
Саарема
превратилась
в доказанную
истину, когда
в кратерах
этих были
обнаружены
остатки метеоритного
железа. Если
гипотеза
есть предположение
о факте,
существующем
в настоящее
время, то
разработка
ее может
привести к
доказательству
действительного
существования
предположенного
в гипотезе
факта посредством
прямого
наблюдения.
Это имеет
место, когда
объект, ранее
недоступный
прямому наблюдению,
но вызы-
316
вающий
те самые
явления, для
объяснения
которых и
предназначена
гипотеза,
становится
доступным
прямому наблюдению.
Примером
такого
превращения
гипотезы в достоверное
знание может
служить
история открытия
планет
Нептуна и
Плутона.
Вкратце
история
открытия
Нептуна
такова. В 1781 году
Вильям
Гершель
открыл
планету Уран.
Через
некоторое
время
оказалось,
что фактически
наблюдаемое
положение
этой планеты
на небесном
своде
отклоняется
от тех, которые
следовало
ожидать
согласно
ньютоновскому
закону
всемирного
тяготения.
Величина
этого отклонения
значительно
превышала
все возможные
ошибки
наблюдения
даже после
того, как
были учтены
все влияния,
какие на
движение
Урана
оказывали
все
известные до
того времени
тела
солнечной
системы. Для
объяснения
наблюдавшихся
аномалий в
движении Урана
можно было
выдвинуть
две гипотезы:
либо предположить,
что движение
Урана не
подчиняется
закону
всемирного
тяготения,
либо предположить,
что аномалии
в движении
Урана вызываются
существованием
за пределами
его орбиты
еще одной, до
того не
известной
планеты, которая
и производит
своим
притяжением
в полном
согласии с
законом
Ньютона
наблюдаемые
в движении
Урана
неправильности.
Первое
предположение,
как
противоречащее
всем данным
физики и всем
данным о
движении
прочих
планет, не
заслуживало
того, чтобы
на нем можно было
серьезно
остановиться.
Оставалось второе
предположение
о
существовании
за орбитой
Урана
какой-то
неизвестной
планеты,
вызывающей в
движении
Урана
непонятные без
этого
предположения
ускорения.
Решающим
средством
проверки
этого
предположения
должно было
стать,
разумеется,
открытие
предположенной
планеты
путем
прямого
наблюдения.
Но где, в
каком месте
небесного
свода искать
ее?
За
решение этой
труднейшей
задачи
взялись
почти
одновременно
английский
математик
Адаме и
французский
математик
Леверье. В
своем
исследовании
оба
опирались,
во-первых, на установленные
данные о
фактическом
расхождении
между
наблюдаемыми
движениями Урана
и
положениями,
вычисленными
на основе
закона
всемирного
тяготения.
Во-вторых, ученые
эти сделали
из своего
предположения
ряд вытекавших
из него
следствий.
Вывод этих
следствий
значительно
облегчил
проверку
самой
гипотезы.
Если истинно,
рассуждали
Адаме и
Леверье, что
отклонения в
движении
Урана производятся
действием
какой-то
неизвестной
планеты,
орбита
которой
лежит вне орбиты
Урана, то
пояс на
небесном
своде, в
пределах которого
следует
искать эту
планету,
вероятно,
будет
совпадать с
тем поясом по
обеим сторонам
эклиптики, в
границах
которого
движутся все
внешние
планеты. Для
более точного
определения
места
предполагаемой
планеты внутри
пояса
эклиптики
Леверье учел
все данные
относительно
массы Урана,
формы его орбиты,
положения
этой орбиты в
пространстве
и влияния
наблюдаемых
ускорений в
его движении.
Затем он
сделал ряд
дополнительных
допущений
относительно
массы
искомой неизвестной
планеты, ее
среднего
расстояния
от Солнца и т.
д. На основе
всех этих
данных и всех
этих
предположений
Леверье
произвел обширные
и
чрезвычайно
сложные
вычисления, в
результате
которых
определил
приблизительно
место, в
пределах
которого
следовало
искать
планету.
Планета
действительно
была обнаружена
в пределах
указанной
зоны и названа
Нептуном. Так
гипотеза о
существовании
новой
планеты
превратилась
из вероятного
предположения
в достоверно
установленную
истину.
Предположение,
или гипотеза,
превращается
в
достоверное
знание и в
том случае,
если удается
доказать, что
из всех
предполагаемых
причин,
вызывающих
данный факт,
надо исключить,
как
недоказанные,
317
все
причины,
кроме одной,
с
необходимостью
влекущей за
собой
появление
данного факта.
Этот
способ
превращения
гипотезы в
достоверное
знание часто
применяется,
например, в
судебной практике.
Предположим,
что в лесу
найден труп
человека с
огнестрельной
раной. Перед
следственными
органами
возникает
вопрос о
причине
обнаруженного
факта. По
этому вопросу
возможно
теоретически
несколько
гипотез, или
предположений.
1) Это могло
быть намеренное
самоубийство.
2) Это мог быть
несчастный
случай,
например,
вследствие
неосторожности
при чистке
огнестрельного
оружия. 3) Это
могло быть
ненамеренное
убийство (как
это иногда
бывает,
например, на
охоте). 4) Это
могло быть
намеренное
убийство.
Решение
вопроса в
данном
случае,
очевидно,
может быть
найдено, если
удастся,
расследовав
все данные, установить,
что из всех
четырех
теоретически
возможных
предположений,
три должны
быть
отброшены,
как ложные.
Тогда,
очевидно,
четвертое
предположение
единственное,
оставшееся
не
опровергнутым,
будет
достоверным,
истинным.
Разумеется,
достоверность
этого
заключения
обусловлена
точностью
анализа,
устанавливающего,
что причиной исследуемого
случая могли
быть только
указанные
четыре
причины. Если
бы более
тщательное
исследование
показало, что
теоретически
возможных
причин может
быть больше,
то исключение
трех из них,
разумеется,
не было бы
достаточным
доказательством
истинности
четвертой. В
этом случае
четвертое
предположение
могло бы
оказаться
ложным, так
же как и первые
три, а
истинным
могло бы
оказаться
предположение
причины, не
учтенной в
первоначальном
анализе.
Гипотеза
об
определенном
закономерном
порядке, если
она истинна,
со временем
также
превращается
в доказанное
знание.
Примером
такого
превращения
гипотезы в доказанное
знание может
быть
доказательство
с помощью
спектрального
анализа истинности
выше уже
приводившегося
предположения
о том, что
переменные
звезды типа
звезды бета из
созвездия
Лиры
двойные
звезды.
Наблюдения
показали, что
изменения
силы блеска
этих звезд
весьма
правильные.
Возникла
гипотеза о
том, что
наблюдаемая
звезда не
одиночная, а
двойная. По
этой
гипотезе наблюдаемые
правильные
изменения в
силе блеска
звезды
вызываются
затмениями,
т. е.
исчезновениями
одной звезды
за другой в
то время, когда
обе звезды в
своем
вращении
вокруг общего
центра
тяжести
оказываются
на линии, совпадающей
с лучом
зрения
наблюдателя.
Объяснение
это было
выдвинуто в
качестве гипотезы
вскоре после
того, как
Гудрайк
открыл и описал
переменность
звезды бета
Лиры. В конце XIX
века
крупнейший
русский
ученый
академик А. А.
Белопольский,
изучая
фотографические
снимки
спектра
звезды бета
Лиры, обнаружил,
что перед ним
не
один-единственный
спектр, как
это должно
было бы быть,
если бы бета
Лиры была
одиночной
звездой, но
два спектра
ст двух
различных
звезд. При
этом линий
поглощения в
обоих
спектрах
обеих звезд в
каждый
данный
момент
времени были
смешены в
противоположные
стороны:
линии спектра
одной из
звезд к
красному
концу
спектра, линии
спектра
другой к
фиолетовому.
По известному
закону
Доплера
Физо, в
спектре тела,
движущегося
по
направлению
к наблюдателю,
линии
поглощения
должны
смещаться к
фиолетовому
концу, а в
спектре тела,
удаляющегося
от
наблюдателя
линии эти
смещаются к
красному
концу.
Именно
это и
наблюдается
в двойном
спектре бета
Лиры. Это
значит, что в
то время, как
одна из
составляющих
эту пару
звезд
приближается
к нам, другая
удаляется от
нас, и наоборот.
318
Таким
образом,
Белопольский
доказал, что
бета Лиры действительно
двойная
звезда и что
каждая из
составляющих
этой пары
вращается по
своей орбите,
то удаляясь
от земного
наблюдателя,
то
приближаясь
к нему. Из
этого доказанного
Белопольским
положения
вытекает как
его
необходимое
следствие то
самое
объяснение
наблюдаемых
перемен в
силе блеска
звезды бета
Лиры, которое
до открытия
Белопольского
было лишь
гипотезой.
§ 6.
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ
ГИПОТЕЗЫ
Гипотеза
первая
ступень в
исследовании,
ведущем от
знания
непосредственно
наблюдаемого
в явлениях к
знанию
внутренних
законов их
развития.
Предпосылкой
научной
гипотезы
является материалистическое
убеждение в
том, что задача
науки не
ограничиваться
только поверхностным
описанием
наблюдаемых
явлений, но
стремиться к
познанию их
внутренней
сущности,
объективных
закономерностей
их развития.
Наука не простая
регистрация
наблюдаемых
явлений. Она
описывает и
систематизирует
для того, чтобы
раскрыть,
познать
законы
движения, законы
развития
явлений.
В
развитии
научного
познания
явлений
окружающего
мира
гипотезе принадлежит
важная роль.
Гипотеза не
застывшее и
не
неизменное
предположение.
Она возникает
не как
изолированная
догадка, но
всегда в
связи с
теорией.
Возникая в
связи с теорией,
гипотеза
сама
стремится
стать теорией
или
составной
частью
теории.
Истинная гипотеза
при
известных
условиях
переходит в достоверное
знание и
действительно
становится
теорией.
Учение об
атомном
строении
вещества,
остававшееся
гипотезой в
течение двух
с половиной
тысяч лет, в
настоящее время
уже не
гипотеза, а
теория
доподлинного
знания о
внутреннем
строении
вещества.
Материалистическому
взгляду на
познавательное
значение
гипотезы
противостоит
реакционное,
идеалистическое
понимание ее.
Идеалистическая,
агностическая
трактовка
гипотезы
характерна для
буржуазной
философии
эпохи
империализма
философии,
отрицающей
познаваемость
материального
мира.
В
современной
буржуазной
логике и
теории познания
одним из
характернейших
проявлений
идеализма и
агностицизма
является сведение
научного
познания к
одному лишь
описанию
фактов
идеалистически
понимаемого
опыта.
Таково,
например,
учение
махистов. По
Маху, вещи
только
комплексы
ощущений, т. е.
только
явления в
нашем
сознании,
поэтому
всякая попытка
искать в этих
явлениях
какую-то независимую
от ощущений и
несводимую к
ощущениям
объективную
сущность, с
этой точки
зрения,
лишена
смысла. Цель научного
познания не
научное
истолкование
независимой
от сознания
основы
изучаемых
явлений, а
чисто
формальное
их описание.
Понятие о
причине и
причинной
связи Мах и
махисты
объявили
«пережитком».
Современная
наука,
утверждают
махисты и их
современные
продолжатели,
изучает не
связи
причины и действия,
а только
«функциональные
связи» или «отношения».
Математическое
выражение
функциональных
связей
единственная
задача науки
о природе.
Этот
отказ от
объяснения,
ограничение
науки
описанием
одних только
функциональных
связей прямо
вытекает из
отрицания
материальной
основы
явлений. Если
вещи только явления,
только
сочетания
ощущений в
нашем
сознании, то
тогда,
действительно,
в них не-
319
чего
искать, кроме
самих
явлений.
Всякое истолкование
основы
явлений
становится в
таком случае
излишним,
«неэкономным».
Поход
против
объяснения
прямо ведет
или к отрицанию
познавательного
значения гипотезы,
или по
меньшей мере
к умалению, к недооценке
ее значения.
Это мы и
видим в логике
махистов у
самого Маха,
у
французских махистов
Пуанкаре и
Дюгема. По их
взгляду, физическая
теория может
иметь только
одну цель
описание и
классификацию
экспериментально
установленных
законов. И в
полном соответствии
с этим
взглядом на
задачи физической
теории
логики-махисты
и и их современные
продолжатели
утверждают,
будто гипотезы
вовсе не
суждения о
природе
вещей, а лишь
предположения,
из которых
могли бы быть
сделаны
выводы,
согласные с
законами, экспериментально
установленными.
Эти
рассуждения
о гипотезе
совершенно
несостоятельны.
Они падают
вместе с той
философией и
теорией
познания, на
которой они основываются.
Так как
явление
всегда есть явление
некоторой
сущности, то
всякое истинное
предположение
о
закономерном
порядке,
объединяющем
и определяющем
явления, не
может быть
только описанием.
Гипотеза,
обоснованная
теоретически
и
подтвержденная
на практике,
всегда есть
не только
описание, но
и объяснение,
истолкование
сущности
данного
явления. Она
отражает в
мысли
закономерный
порядок,
непосредственно
не
наблюдаемый,
но лежащий в
основе
наблюдаемых
явлений той
области, для
объяснения
которой
возникла
гипотеза.
Поэтому
принимаемое
многими
буржуазными
учеными и
логиками
учение о
«рабочих гипотезах»
несостоятельно.
Так называют
гипотезы,
выдвигаемые
в условиях,
когда для
полного
объяснения
всей
совокупности
явлений
исследуемой
области еще
нет
достаточных
данных и когда
приходится
довольствоваться
объяснением
заведомо
неполным.
Согласно
идеалистическому
взгляду,
«рабочая
гипотеза» не
претендует
быть объяснением
или
отражением
реальности.
Это более
или менее
искусственное,
всегда лишь
условно
принимаемое
предположение,
судьба
которого
уступить
место рано
или поздно
такому
объяснению,
которое
будет действительным
отражением
объективной
закономерности
во всей ее
полноте и
сложности.
Необоснованность
этого
взгляда
легко может
быть
доказана.
Если «рабочая
гипотеза» отражает
известные
стороны или
черты изучаемых
наукой
закономерностей,
то в той мере,
в какой она
их отражает,
она не
отличается
существенно
от всякой
другой
гипотезы. Так
же как и всякая
другая
гипотеза, она
развивается,
подлежит
проверке,
уточнению
или в случае
обнаружившейся
ее ложности
отклонению.
Если же
«рабочая
гипотеза»
чисто
условное
допущение, т.
е.
построение,
разработанное
с
единственной
целью
представить
наблюдаемые
факты как
действия
некоторой
закономерности,
мысль о
которой не
почерпнута из
науки и
опыта, но
является
произвольной
конструкцией
или выдумкой,
то она не
заслуживает названия
гипотезы.
В первом
случае
гипотеза,
называемая
неточно
«рабочей
гипотезой»,
органически
порождается
развитием
науки. Она
имеет шансы
на будущее,
каковы бы ни
были
поправки,
которые
внесет в нее
последующая
проверка.
Во
втором
случае
гипотеза,
называемая
«рабочей
гипотезой»,
уже в момент
своего
возникновения
оказывается
неудовлетворительной
в силу своего
искусственного
происхождения.
Придуманная
для объяснения
ограниченной
части
явлений или
фактов, она
окажется тем
более
неудовлетворительной
по мере
познания
новых фактов
и явлений.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
§ 1.
НАУЧНОЕ
МЫШЛЕНИЕ И
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Необходимая
для каждой
науки связь
ее истин есть
отражение
связи
реальной,
существующей
независимо
от науки и от
всякого мышления.
Взаимоотношения
научных
положений
являются
отражением
взаимоотношений
вещей, их
свойств, их
отношений и
их законов.
Но связь
научных
истин в
подавляющем
большинстве
случаев не
видна сразу,
прямо и непосредственно.
Обоснованность
научной истины
обусловливающими
ее связями
вещей устанавливается
в итоге
обстоятельного
и многостороннего
рассмотрения.
Только
очень
небольшая
часть
положений науки
принимается
в качестве
истин без всякого
доказательства.
Это так
называемые аксиомы
вроде
положения о
том, что если
к равным
величинам
прибавить
равные, то
получатся
также равные.
Да и аксиомы
не
безусловно
самоочевидные
истины, а
положения,
принятие
которых в
систему
науки оправдывается
всеми
результатами,
следующими
из этого
принятия и
удостоверяемыми
практикой.
Аксиомы
получили
значение
недоказываемых
истин только
потому, что
лежащие в их
основании
простейшие
отношения
вещей проверены
всем
многотысячелетним
развитием человеческой
практики.
Аксиомы
составляют в
каждой науке
небольшую
часть ее
положений.
Все
остальные
положения
выясняются в
качестве истин
не
непосредственно
и не этдельно
от всех
других истин,
а путем
доказательства,
т. е. из
установления
необходимых
связей, в каких
они
находятся с
другими
истинами.
Поэтому
доказательство
не
второстепенный
элемент, а
жизненный
нерв
научного
мышления, первейшее
и
необходимейшее
условие научности
всякого
утверждения.
В
стремлении
науки к
доказательности
обнаруживается
одна из
коренных и
существеннейших
черт научной
мысли. Наука
и научная мысль
не терпят
голословности.
Научным любое
утверждение
становится
только тогда,
когда оно
обосновано.
При этом
обоснование
всегда
требуется не только
в математике,
где
изложение
результатов
исследования
принимает
форму длинной
цепи
доказательств.
Таким же
непременным
условием
обоснованности
положений доказательство
является во
всех науках
естественных
и общественных.
Неотразимую
силу
убеждения
придает мысли
не
субъективная
уверенность,
но убеждение
обоснованное,
доказанное.
321
По
мнению
многих
современных
реакционных
буржуазных
философов,
доказательность
будто бы не
обязательное
качество
мышления.
Современные
идеалисты
требуют
пересмотра
вопроса о
значении
доказательности
в логике, философии,
в науке.
Это
стремление
философов и
логиков
империалистической
буржуазии
очень ясно
выражает их
классовый
интерес:
реакционные,
антинаучные
взгляды
доказаны
быть не могут,
ибо
находятся в
вопиющем
противоречии
с
действительностью.
На заре
своего
развития
прогрессивная
в то время
буржуазная
мысль устами
одного из великих
ученых, Б.
Паскаля,
провозглашала,
что научное
мышление требует
«никогда не
утверждать
никакого положения,
которое не
было бы
доказано
истинами, уже
известными».
Теперь
же
прагматисты,
интуитивисты
и т. п. выступают
против тех
философов и
логиков, которые
считаются с
принципом
доказательности,
обоснованности
мышления. Уже
Шопенгауэр
утверждал,
будто «не доказанные
суждения, не
их
доказательства,
а суждения,
непосредственно
почерпнутые
из интуиции и
на ней вместо
всякого
доказательства
основанные,
вот что в
науке является
тем, чем
солнце в
мироздании...»
(5,67).
Один из
столпов
прагматизма
Уильям Джеймс
также
заявлял о
«нерациональности»
всей действительности,
отказывался
от логики как
орудия
мышления.
«Что касается
меня, заявил
Джемс, то я
счел себя в
конце концов
вынужденным
отказаться
от логики,
отказаться
от нее
открыто,
честно и раз
навсегда... Я
открыто
предпочитаю
называть
действительность,
если и не
иррациональной,
то, по крайней
мере,
не-рациональной
в своей
структуре...» (3, 117).
Однако
фактом,
убийственным
для отрицателей
доказательства,
является то,
что
ненужность
доказательства
они пытаются
(разумеется,
безуспешно)
доказывать. Все
же
доказывать!
Так на деле
вынуждены они
признать над
собой
безусловную
власть одного
из
непреложных
логических
принципов.
Логичность
мышления
проявляется,
в частности,
в
доказательности,
обоснованности.
Напротив,
первое
проявление
нелогичности
мышления
голословность,
необоснованность,
пренебрежение
к строгим
условиям и
правилам
доказательности.
§ 2.
СТРОЕНИЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Во
всяком
доказательстве
безотносительно
к тому, что
именно в кем
доказывается,
всегда
имеются: 1)
тезис, 2)
основания
доказательства
(аргументы) и 3)
способ
доказательства
(демонстрация).
1.
ТЕЗИС
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Тезисом
называется
суждение,
истинность или
ложность
которого
выясняется
посредством
данного
доказательства.
Истинность
доказываемого
тезиса
обычно не
очевидна. Так,
доказываемое
в геометрии
положение о
том, что
площадь
круга
равняется
произведению
числа,
выражающего
отношение
длины окружности
круга к длине
его диаметра,
на квадрат
радиуса
круга, не
есть
положение
самоочевидное.
Истинность
его
обнаруживается
доказательством.
Даже в
случаях,
когда
доказываемый
тезис представляется
очевидным, он
все же часто
доказывается.
Так обстоит
дело,
например, с по-
322
ложением,
что
диаметром
круг делится
на две равные
части. То, что
мыслится в
этом
положении,
представляется
очевидным.
Однако в
геометрии
суждение это
доказывается.
Этот
пример из
математики
не
исключение, а
иллюстрация
общего
правила.
Наука стремится
доказывать
по
возможности
все, что
только может
быть
доказано,
безотносительно
к тому,
очевидно или
не очевидно
доказываемое.
Это
стремление
не оставлять,
насколько возможно,
ни одного
положения
недоказанным
вытекает,
во-первых, из
логического
значения
доказательности
мышления и,
во-вторых,
обусловлено
тем, что
очевидность
часто
обманчива.
Так, если мы
станем между
рельсами на
полотне
железной
дороги и
поглядим
вдаль, нам
покажется,
будто рельсы,
параллельные
на недалеком
от нас
расстоянии,
вдали
начинают
сходиться в
одну точку.
Однако в
действительности
рельсы и
вдали от нас
остаются
параллельными.
Наука
как можно
меньше
полагается
на одну лишь
очевидность.
Выяснение
истинности
или ложности
тезиса есть
цель всякого
доказательства.
Доказательство,
посредством
которого
выясняется
истинность
тезиса,
называется
просто
доказательством.
Доказательство,
посредством
которого
выясняется
ложность
тезиса,
называется
опровержением.
Опровергнуть
некоторый тезис
значит
доказать его
ложность.
Независимо
от степени
субъективной
уверенности
доказывающего
в истинности
того, что
доказывается,
конечный
успех
доказательства
возможен лишь
в том случае,
если
доказываемый
тезис истинен
по существу
своего
содержания.
Можно успешно
доказать
истинность
лишь того, что
действительно
истинно,
равно как
можно успешно
доказать
ложность
только того,
что действительно
ложно.
Разумеется,
истинность
тезиса до
того, как он
доказан, не
видна, но
само
соответствие
тезиса
действительности
непременно
должно
существовать,
для того
чтобы тезис
вообще мог
быть доказан.
Если тезис сам
по себе
истинен,
всегда
существует
возможность
доказать его
истинность.
Надо только
найти верный
способ
такого
доказательства.
История наук
знает немало
случаев, когда
положения,
впоследствии
оказавшиеся
истинными,
первоначально
доказывались
неточно или
даже
ошибочным
способом, и
лишь с новыми
успехами
науки
устранялись
ошибки в
способе
доказательства.
Например,
многие
доказательства
положений,
разработанные
античными
геометрами, оказались
впоследствии
недостаточно
строгими.
Особенно
интересно то,
что больше
всего
неточностей
оказалось в
доказательствах
самых первых,
элементарнейших
положений.
Объясняется
это тем, что
античные
геометры в
ряде случаев
полагались на
наглядное
представление.
Не
удивительно
поэтому, что
в новое время
для теорем,
которые доказывались
в античной
геометрии
ссылками на
очевидность
или
наглядность,
пришлось разработать
более
строгие и
точные
способы
доказательства.
Но, какой
бы ни была
степень
точности и
строгости
доказательства,
первым
условием возможной
его
безупречности
является
истинность
доказываемого
тезиса, т. е.
адекватное
отражение в
нем
действительности.
И точно
так же для
безупречности
опровержения
первым
необходимым
условием
является
действительная
ложность
опровергаемого
положения,
его
действительное
несоответствие
фактам. Если
опровергаемое
положение
ложно, то
раньше или
позже способ
его
опровержения
может быть
найден и
будет найден.
323
2.
ОСНОВАНИЯ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
(АРГУМЕНТЫ)
Доказательство
будет
осуществлено
там, где
показывается,
что
истинность
или ложность
некоторого
тезиса
необходимо
следует из
истинности
или ложности
некоторых
положений, уже
ранее
доказанных,
признанных
истинными, а
также из
выясненного
содержания
основных для
данной науки
понятий. Все
положения, на
которые
опирается
доказательство
и из которых необходимо
следует
истинность
доказываемого
тезиса,
называются
основаниями,
или аргументами,
доказательства.
Так, при
доказательстве
теоремы о
сумме внутрених
углов
плоского
треугольника
основанием
доказательства
будет,
во-первых, ранее
установленное
содержание
таких
понятий
геометрии,
как «плоский
треугольник»,
«внутренний
угол»,
«смежные углы»,
«параллельность
линий»,
«внутренние
накрест
лежащие
углы»,
«соответственные
углы».
Во-вторых,
основаниями
доказательства
данной
теоремы
будут
некоторые
ранее принятые
в качестве
истинных или
ранее
доказанные
положения
геометрии
Евклида.
Такова принимаемая
в геометрии
Евклида
аксиома, что
через точку
вне данной
прямой в
одной с нею
плоскости
может быть
проведена
одна, и только
одна, прямая,
не
пересекающаяся
с данной
прямой.
Таково
доказываемое
в геометрии Евклида
положение о
том, что
образованные
пересечением
прямой двух
параллельных
линий
внутренние
накрест
лежащие и
соответственные
углы равны
между собой.
Таково же доказываемое
в геометрии
Евклида
положение о
равенстве
суммы двух
смежных
углов двум
прямым.
Основаниями
доказательства
теоремы о сумме
внутренних
углов
треугольника
эти положения
являются
потому, что
принятие и доказательство
их в качестве
истинных с
необходимостью
приводят к
признанию
истинным
также и положения
о равенстве
суммы
внутренних
углов
треугольника
двум прямым.
Основания
доказательств
заключают в
своем
составе
положения
различного
типа. В число
оснований
входят: а)
положения об
удостоверенных
фактах, б)
определения,
в) аксиомы, г)
доказанные
ранее данной
наукой
положения,
или теоремы.
а)
Положения об
удостоверенных
фактах как основания
доказательства
Положения
об удостоверенных
фактах
чрезвычайно
важный вид
оснований. За
исключением
математических
наук,
опирающихся
на факты не
непосредственно,
а
посредством
обобщенных
понятий об
отношениях
между
объектами, во
всех науках
доказательство
основывается
на
положениях об
удостоверенных
(прямо или
косвенно) фактах.
В огромном
числе
случаев
доказать истинность
положения
значит
показать, что
истинность
эта прямое
следствие из
положений об
известных,
хорошо
удостоверенных
фактах. И, напротив,
доказать
ложность
положения во
множестве
случаев
значит
удостовериться
в фактах,
противоречащих
этому
положению.
На
значение
фактов для
доказательства
не раз указывали
корифеи
мировой
науки.
В. И. Ленин
говорил, что
«точные
факты, бесспорные
факты ... вот
что особенно
необходимо, если
хотеть
серьезно
разобраться
в сложном и трудном
вопросе...» (2, 30, 350).
«Факты,
писал
академик И. П.
Павлов, это
воздух ученого.
Без
324
них вы
никогда не
сможете
взлететь. Без
них ваши
«теории»
пустые
потуги» (4, 51).
Поэтому
безупречность
доказательства
определяется
(в числе
прочих
условий)
умением
находить
факты, либо
обосновывающие
доказываемое
положение,
либо
несовместимые
с ним и тем
самым его
опровергающие.
Особую
доказательную
силу имеют
факты опровергающие.
Указание
фактов,
подтверждающих
доказываемое
положение,
часто бывает еще
далеко не
достаточно
для строгого
доказательства,
его
истинности.
Такое указание
часто обосновывает
истинность
положения
только в
пределах тех
фактов,
которые были
найдены для
его
подтверждения.
Зато
достаточно
обнаружить
хотя бы один
факт,
противоречащий
доказываемому
положению,
чтобы обнаружить
тем самым
полную или по
крайней мере
частичную
ложность
этого
положения.
Если бы
факты,
подтверждающие
доказываемое
положение,
были сами по
себе вполне
достаточны
для строгого
и полного его
доказательства,
то в таком
случае
индукция
через простое
перечисление
была бы самым
надежным
способом
доказательства.
Известно,
однако,
насколько
ненадежно,
недостоверно
обобщение,
основывающееся
только на
том, что в
пределах
наблюдения пока
что не
обнаружены
факты, ему
противоречащие.
Любой такой
факт,
найденный
впоследствии,
сразу
опрокидывает
или по
крайней мере
ограничивает
обобщение.
Окружающая
нас
действительность
настолько
сложна и
многообразна,
что в
подтверждение
любого
положения,
даже явно
вздорного,
можно
подобрать
большее или
меньшее число
отдельных
фактов.
Однако то
обстоятельство,
что
существуют
одновременно
и такие
факты,
которые это
же положение
опровергают,
говорит о
том, что
единичные
факты, взятые
сами по себе,
в отрыве друг
от друга и от
окружающих
условий, еще
мало что
доказывают.
Поэтому
факты только
тогда
получают
значение
оснований
доказательства,
когда они
берутся не
изолированно,
не поодиночке,
а
рассматриваются
в их взаимосвязи
как
совокупности,
представляющие
выражение
общих ими
управляющих
законов.
б)
Определения
как
основания
доказательства
В состав
оснований
доказательства
входят также
и
определения
основных
понятий
данной науки.
Доказательство
есть переход
от положений,
ранее
принятых, к
некоторому
новому положению,
истинность
которого
необходимо следует
из
истинности
принятых
положений.
Однако не все
из числа этих
заранее
принимаемых
положений
доказываются.
Некоторые из
них представляют
собой просто
определения
основных
понятий
науки. Так,
доказательство
теоремы
евклидовой
геометрии о
сумме внутренних
углов
плоского
треугольника
опирается не
только на
ранее
доказанные
теоремы о
свойствах
внутренних
накрест
лежащих
углов, соответственных
углов и о
свойствах
смежных углов
и не только
на
принимаемое
без доказательства
положение о
параллельных,
но также и на
определение
понятий
«плоский
треугольник»,
«внутренние
углы
плоского
треугольника»,
«параллельные
линии»,
«внутренние
накрест лежащие
углы»,
«соответственные
углы», «смежные
углы», «прямые
углы».
Но из
того, что
определения
в качестве
определений
не
доказываются,
а просто
формулируются,
отнюдь не
следует,
будто они
принимаются
произвольно или
представляют
условные
«соглашения».
И в математических
науках, и в
естествознании,
и в науках
общественных
определения,
если они
научны,
всегда
отражают
объективно существующие
явления,
законы
действительности.
325
Определения,
необходимые
для данного
доказательства,
вовсе не
обязательно
должны
формулироваться
в самом
данном доказательстве.
Чаще всего
они
сформулированы
раньше этого
доказательства
и в нем принимаются
как данные.
Кроме того,
определяются
далеко не все
понятия,
входящие в
состав данного
доказательства.
Есть
предметы
настолько простые
и настолько
всем
известные,
что определение
их не имеет
смысла.
Обычно попытки
такого
определения
приводят или
к тому, что в
определяющем
повторяется
определяемое
(круг в
определении),
или к тому,
что до определения
понятное и
ясное после
определения
становится
непонятным и
неясным.
Таким
образом,
задача науки
в отношении
определения
понятий,
входящих в
основания доказательства,
состоит в
том, чтобы
избежать
двух
противоположных
ошибок: 1) не
оставить
неопределенными
те понятия,
которые
должны быть определены,
и 2) не
пытаться
определять
те понятия,
которые по
своей
крайней
простоте не
нуждаются в
определении.
в)
Аксиомы как
части
оснований
доказательства
Положения
об
удостоверенных
фактах и определения
входят в
число
оснований
самых
различных
наук: естественных
и
общественных.
В
математике,
механике,
теоретической
физике и в
некоторых
других
науках кроме
определений
и
удостоверенных
фактов в
число оснований
доказательства
входят еще
аксиомы. Так
называются
положения,
которые
предполагаются
истинными, но
в пределах
данной науки
не
доказываются.
Известно,
например, что
доказательство
теоремы
евклидовой
геометрии о
равенстве суммы
внутренних
углов
плоского
треугольника
двум прямым
опирается не
только на ранее
доказанную
теорему о
равенстве
суммы двух
смежных
углов двум
прямым, но и
на теоремы о
свойствах
внутренних
накрест
лежащих и соответственных
углов, а эти
теоремы, в
свою очередь,
опираются на
положение,
согласно которому
через данную
точку вне
данной прямой
в одной с ней
плоскости
можно
провести
одну, и
притом
только одну,
прямую,
которая ни
при каком
продолжении
ее в обе
стороны от
данной точки
не
пересечется
с данной
прямой. Положение
это уже не
теорема, а
аксиома.
Аксиомой
это
положение
является
потому, что
оно
принимается
без
доказательства.
Положение
это
утверждает,
что возможно
неограниченно
продолжить
прямую так,
чтобы последняя
нигде не
пересекалась
с данной прямой.
Но
совершенно
очевидно, что
утверждение
это н е может
быть
проверено
или доказано:
как бы далеко
мы ни
продолжали
прямую,
продолжение
ее будет для
нашего
наглядного
представления
ограниченным.
В лучшем
случае можно
сказать, что
в тех
пределах, в
каких прямая
продолжена
нами, она
остается
параллельной
данной
прямой. Но
будет ли она
параллельной
и при
дальней-шем
(еще нами не
воспринятом)
неограниченном
ее
продолжении
это остается
недоказанным.
Так как
аксиомы не
обладают
безусловной
очевидностью,
то для
решения
вопроса о
том, какие из
небезусловно
очевидных
положений
будут в
данной науке
доказываться,
а какие будут
приняты в ней
без доказательства,
т. е. в
качестве
аксиом,
необходимо
некоторое
основание.
Таким
основанием
не может быть
ни произвол,
ни условное соглашение,
ни
субъективная
точка зрения.
Основанием
для выбора
системы, или
группы,
аксиом,
входящих в
начальные
основания науки,
являются
следующие
требования:
326
1)
Выбранная
группа
аксиом
должна
содержать в
себе
допущения,
между
которыми нет
противоречий.
Другими
словами,
группа
аксиом должна
быть такова,
чтобы,
опираясь на
нее, нельзя
было
доказать
какое-либо
суждение и
отрицание
этого
суждения.
2)
Выбранная
группа
аксиом
должна быть
такова, чтобы
из нее (а
также из
принятых
наукой
определений)
могла быть
последовательно
выведена вся
совокупность
теорем данной
науки. При
этом число
аксиом не
должно
превышать
того, какое
необходимо и
достаточно,
чтобы с
помощью данной
группы
аксиом могли
быть
доказаны все
теоремы
данной науки.
3) Ни
одна из
принятых в
данной науке
аксиом не
может быть
получена как
вывод ни из
какой другой
аксиомы или
других
аксиом той же
науки, т. е.
каждая
аксиома
должна быть
предположением,
вполне
независимым
от
предположений,
выражаемых
всеми
другими
аксиомами
данной науки.
Последнее
свойство
аксиом
нуждается в
объяснении.
Свойство это
нельзя
понимать так,
будто
аксиома
вообще не
может быть
выводима ни
из каких
других
положений.
Аксиома не может
быть
выводима из
других
аксиом
только в
рамках
данной
системы
науки. Так 11-я
аксиома
Евклида
(постулат
параллельных)
не может быть
выведена из
других
аксиом
геометрии
Евклида.
Именно
поэтому все
попытки
доказать эту
аксиому в
рамках
геометрии
Евклида с ее
аксиомами и
постулатами
потерпели неудачу.
Но можно
взять другую
группу
аксиом геометрии,
в которой
постулат
параллельных,
являющийся в
системе
геометрии
Евклида независимой
аксиомой,
будет в этой
другой системе
т е о р е м о й, т.
е. положением
выводимым.
Таким
образом,
аксиоматическое
значение некоторых
положений
науки неесть
безусловное
свойство
этих
положений.
Разница между
аксиомой и
теоремой не
безусловная.
Положение,
которое в
одной
системе
науки является
аксиомой,
оказывается
теоремой в
другой
системе
науки с
другой
совокупностью
аксиом. И
наоборот:
положение,
доказываемое
в данной
системе
науки как ее
теорема, не доказывается,
а
принимается
в качестве аксиомы
в другой
системе
науки с
другой
совокупностью
аксиом.
В
конечном
счете выбор
той или
другой группы
аксиом в
качестве
принятой в
науке системы
оснований ее
доказательств
обусловливается
и
оправдывается
не
самоочевидностью
этих
оснований, а
всей суммой
результатов,
к которым
приводят
доказательства
науки,
опирающиеся
на принятые
аксиомы. Только
плодотворность
результатов,
полученных с
помощью
принятых в
данной науке
аксиом,
составляет
основание
для их
выбора. Тем
самым выбор
аксиом Для
всей системы
доказательств
науки
связывается
с их
проверкой
показаниями
практики,
опыта людей.
Аксиомы
как части
оснований
доказательства
отнюдь не
«возвышаются»
над опытом,
отнюдь не
предшествуют
опыту, а
составляют
результат
человеческой
практики.
Все
указанные
выше
требования,
предъявляемые
при выборе
аксиом, имеют
силу,
разумеется,
только в
отношении
тех наук,
которые
имеют в числе
своих
оснований аксиомы,
или, как
говорят,
допускают
аксиоматическое
построение.
Таковы
математика,
теоретическая
физика. Но
существует
обширный класс
наук, в
которых
аксиоматическое
построение
неприменимо.
В этих науках
аксиомы не
входят в
число
оснований
науки.
Такова,
например,
история.
327
г)
Доказанные
ранее
положения
науки как основания
доказательств.
Непосредственные
и
предшествующие
основания
доказательства.
Начальные
основания.
Рассматривая
примеры
многих
доказательств,
нетрудно
убедиться,
что ранее
доказанные
положения, на
которые
опирается
доказываемый
тезис,
используются
в ходе доказательств
либо
опосредствованным,
либо непосредственным,
образом.
Непосредственно
используются
те положения,
на которые
прямо
ссылаются в
ходе доказательства
как на
положения, из
истинности
которых
следует
истинность
доказываемого
тезиса. Так,
для теоремы
Пифагора
одним из
непосредственно
используемых
для ее доказательства
положений
будет 41-я
теорема
первой книги
Евклида.
Теорема эта
утверждает,
что если
параллелограмм
имеет с треугольником
одно и то же
основание и
находится
между теми же
параллельными,
то параллелограмм
будет вдвое
больше
треугольника.
Теорема эта
принадлежит
к
непосредственным
основаниям
теоремы
Пифагора, так
как при доказательстве
последней
Евклид
дважды ссылается
в самом ходе
доказательства
на 41-ю теорему.
Иными
словами, 41-я
теорема
прямо входит
в число
оснований,
истинность
которых приводит
к признанию
истинности
теоремы Пифагора.
Опосредствованным
образом
используются
для
доказательства
те положения,
на которые в
самом ходе
данного
доказательства
прямо не
ссылаются, но
при помощи
которых были
ранее
доказаны
непосредственные
основания
данного
доказательства.
Положения
эти могут
быть названы
предшествующими
основаниями
доказательства.
Так, для
той же
теоремы
Пифагора
одним из таких
ранее
доказанных,
или
предшествующих,
оснований ее
доказательства
будет 38-я теорема
первой книги
Евклида.
Теорема эта
утверждает,
что
треугольники,
находящиеся
на равных
основаниях и
между теми же
параллельными,
равны между
собой. Эта
теорема не
входит в
число
непосредственных
оснований
доказательства
теоремы Пифагора,
так как в
ходе этого
доказательства
Евклид на 38-ю
теорему не
ссылается. Но
она входит в
число
оснований
доказательства
опосредствованным
образом,
будучи одним
из оснований,
при помощи
которых была
доказана 41-я
теорема. А
эта
последняя
есть, как мы
уже знаем,
одно из
непосредственных
оснований
доказательства
теоремы
Пифагора.
Чем
дальше
развивает
наука
доказательства
своих
положений,
тем больше
становится число
предшествующих
оснований
доказательства
каждого
нового
положения.
Если, рассматривая
данный тезис
науки, мы
задались бы
целью
выяснить все
основания, на
которые
опирается
его доказательство,
то оказалось
бы, что
непосредственные
основания
его
доказательства
опираются на
некоторые
предшествующие
им основания,
эти
последние в
свою очередь
на другие
предшествующие
основания и
т. д.
Однако каким
бы большим ни
было число
предшествующих
оснований
данного
доказательства,
оно не может
быть
бесконечным.
Рано или поздно
мы дойдем до
таких
предшествующих
оснований,
которые ни из
каких
предшествующих
им оснований
уже не могут
быть
выведены.
Основания
доказательства,
которые не
могут быть выведены
ни из каких
предшествующих
им оснований,
называются
начальными
основаниями
данной науки.
Начальными
основаниями
для данной
науки являются
положения об
удостоверенных
единичных
фактах,
определения
и аксиомы. Теоремы
не
328
могут
быть
начальными
основаниями,
так как
начальные
основания
ниоткуда не
выводятся:
напротив,
всякая
теоремадоказываемое
положение, а
все
доказываемые
положения выводятся
из оснований
непосредственных
или
предшествующих.
Все
определения
и аксиомы,
которые
могут
встретиться
в отдельных
доказательствах
в качестве
непосредственных
оснований
или к которым
доказательство
может быть
возведено
как к своим
предшествующим
основаниям,
входят в число
начальных
оснований
науки. При
этом, однако,
в
доказательства
эти
основания
входят в каждом
отдельном
случае лишь
частично.
Так, доказательство,
например,
теоремы
Пифагора
опирается
непосредственно
не на все, а лишь
на некоторые
аксиомы, не
на все, а лишь
на некоторые
определения,
входящие в
круг начальных
аксиом и
определений
геометрии.
Напротив, в
числе
начальных
оснований
науки находится
не часть
аксиом, а все
аксиомы данной
науки, не
часть
определений,
а все ее определения.
Чем
дальше от
начальных
оснований
данной науки
отстоит
доказываемое
положение,
тем большим
становится
число не
непосредственных,
а
предшествующих
оснований доказательства.
Каждое
доказанное
ранее положение,
на которое в
данном
доказательстве
наука
ссылается
как на одно
из непосредственных
оснований
доказываемого
тезиса,
обусловлено,
в свою
очередь,
длинным
рядом
предшествующих
ему
положений. Ни
на одно из
них в пределах
данного
доказательства
не ссылаются,
иначе
доказательство
каждой
теоремы было
бы
повторением
всего
предшествующего
этой теореме
содержания
науки со
всеми ее
доказательствами.
В то же время
все они могут
быть найдены
в
соответствующем
месте
системы науки,
где они
полностью
излагаются.
Наличие
в далеко
продвинувшейся
науке длинной
цепи
предшествующих
оснований,
предполагаемых
каждым
непосредственным
основанием
любого доказательства,
делает
особенно
важным условием
состоятельности
доказательства
истинность
всех
оснований
доказываемого
тезиса.
В самом
деле,
непосредственное
для данного
доказательства
основание
есть только звено
предшествующей
ему цепи
обусловливающих
его
оснований.
Если эта цепь
длинна и если
какое-нибудь
из ее звеньев
окажется
ложным, то и
заключительное
звено
Данное
непосредственное
основание
доказательства
тоже может
оказаться
ложным. А в
таком случае
и доказываемый
тезис, как
опирающийся
на ложное
основание,
может
оказаться
ложным.
Поэтому
в качестве
оснований
доказательства
должны быть
принимаемы
только истинные,
строго
доказанные,
проверенные
и удостоверенные
в своей
истинности
положения. Любой
вид
оснований,
вообще
говоря,
сказывается
на истинности
результата.
Поэтому ни
входящие в
число
оснований
доказательства
положения об удостоверенных
фактах, ни
определения
основных
понятий
науки, ни
аксиомы, ни
уже ранее
доказанные
положения
науки не
должны быть
ложными.
Основания
доказательства
не должны быть
даже
сомнительными.
Сомнительность
основания
есть по
крайней мере
возможность
его ложности,
а
возможность
ложности в основаниях
дока-казательства
делает возможным
ложность
самого
доказываемого
тезиса.
Поэтому
доказательство,
опирающееся
на
сомнительные
основания, не
есть, строго
говоря,
доказательство.
Только
вполне
удостоверенная
истинность
всех
оснований, на
которые
опирается
доказательство,
делает
доказательство
путем и
средством к
отысканию
новой истины.
329
3.
СПОСОБ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
(ДЕМОНСТРАЦИЯ)
Истинность
доказываемого
или ложность
опровергаемого
тезиса,
вообще
говоря, не могут
быть
обнаружены
непосредственно.
Чтобы
убедиться в
истинности
доказываемого
тезиса,
следует
указать
истинное
основание,
опираясь на
которое мы с
необходимостью
должны признать
истинным
также и
доказываемый
тезис.
Однако
только в
немногих
случаях
указание
истинных
оснований
сразу, в виде
непосредственного
вывода, дает
истинность
доказываемого
тезиса. Так,
если
требуется
доказать, что
некоторые из
равных между
собой углов прямые
углы, то для
доказательства
истинности
этого
утверждения
достаточно
сослаться
как на
основание на
истину о том,
что все
прямые углы
равны между
собой. Из
этого основания
сразу,
непосредственно,
по законам
одной лишь
логики
(именно
согласно
правилам
обращения)
получается
истинный
вывод, что
некоторые из
равных между
собой углов
прямые.
Но в
огромном
большинстве
случаев
одного лишь
знания
истинных
оснований,
ведущих к признанию
истинности
тезиса,
недостаточно.
Необходимо,
кроме того,
показать,
какова связь,
необходимо
ведущая от
истинности
данных
оснований к
истинности
обусловленного
ими тезиса.
Связь эта во
многих случаях
непосредственно
не видна и
требует выяснения.
Так, если
ученик знает
все
определения,
все аксиомы и
все теоремы,
из
истинности которых
как из
оснований
выводится
истинность
теоремы
Пифагора, это
еще не
значит, что
он знает
доказательство
теоремы
Пифагора. Для
знания
доказательства
требуется знать,
какова связь
между всеми
основаниями
теоремы
Пифагора,
какова
последовательность
оснований и
выводов из
них, ведущая
к признанию истинности
доказываемого
в этой
теореме положения.
Последовательность,
или связь,
оснований и
следующих из
них выводов,
имеющая
результатом
необходимое
признание
истинности доказываемого
тезиса,
называется
способом
доказательства,
или
демонстрацией.
Демонстрация
имеет свою
логическую
специфику в
отличие от
составных
частей доказательства
тезиса и
основания. И
тезис и каждое
из оснований
представляет
собой отдельные
суждения.
Напротив,
демонстрация
никогда не
есть ни
отдельное
суждение, ни
простая
сумма суждений.
Демонстрация
всегда есть
логическая
связь
суждений,
приводящая к
определенному
логическому
результату.
Это более или
менее
длинная цепь
умозаключений,
посылками
которых
являются
основания
данного
доказательства,
а последним
заключением
доказываемый
тезис.
Так, при
доказательстве
теоремы
евклидовой
геометрии о
сумме
внутренних
углов треугольника
(см. рис) мы
сначала
продолжаем
сторону
треугольника
ABC, например
сторону АС, до
точки Е. Затем
проводим из
точки С прямую
CD, параллельную
АВ и по одну
с ней сторону
от прямой АС. Затем
мы
рассуждаем
следующим
образом. Прямая
ВС пересекает
параллельные
(по
построению) прямые
АВ и CD. Следовательно,
углы ABC и BCD будут
равны как
внутренние
накрест
лежащие.
Прямая АС пересекает
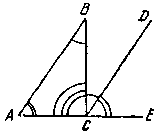
330
те же
параллельные
по
построению
прямые АВ и CD.
Следовательно,
углы ВАС и DCE равны
как
соответственные.
Угол ВСЕ, представляющий
сумму углов BCD и
DCE, равен
сумме двух
внутренних
углов треугольника
(ABQ и ВАС), так
как угол BCD равен
углу ABC, a угол DCE равен
углу ВАС. Прибавим
к углу ВСЕ угол
ВСА третий
внутренний
угол
треугольника
ABC. Тогда
сумма углов DCE,
BCD и ВСА будет
равна сумме
внутренних
углов данного
треугольника:
ВАС, ABC и ВСА. Но
так как сумма
углов ВСЕ (равного
сумме углов ВАС
и ABC) и ВСА равна
сумме двух
смежных
углов, а эта
сумма равна
двум прямым
углам, то
сумма
внутренних
углов ВАС, ABC и ВСА
в
треугольнике
ABC также
равна двум
прямым.
Все
рассуждение
в целом это
демонстрация.
Основания
доказательства
не
выделяются в
группу
положений,
отдельных от
демонстрации,
но
появляются
каждое на том
месте, какое
определяется
для него логической
связью
соответствующих
звеньев демонстрации.
Так как
демонстрация
порядок
связи между основанием
и тезисом
есть порядок,
не просто
усматриваемый
из основания,
но такой,
который еще
должен быть
найден, то доказательство
одного и того
же положения
науки может
быть более
или менее
сложным или
простым,
громоздким
или кратким и
т. д. Самый
порядок, план
доказательства
может быть
различным.
Связь
оснований,
ведущая к
усмотрению
истинности
доказываемого
тезиса, не
единственная.
А так как
связь эта не
дана вместе с
самими
основаниями,
но еще должна
быть открыта,
то
доказательство
есть
творческая
задача науки,
которая
творческими
же
средствами и
решается. В
ряде частных
случаев
задача
доказательства
оказывается
настолько
сложной, что
разрешение
ее требует ог
ученых
огромных
трудов на
протяжении
целых
десятилетий
или даже
столетий. До
сих пор не
найдено
доказательство
теоремы
Ферма о том,
что
уравнение хп
= уп + гп не
может иметь
решений для
всех целых
значений п, больших
двух. В
течение
почти двух с
половиной
тысячелетий
оставалось
недоказанным
существование
атома, пока
успехи
новейшей
экспериментальной
и
теоретической
физики не принесли,
наконец, это
доказательство.
Гениальная
догадка
Джордано
Бруно о
существовании
планет,
обращающихся
вокруг
других звезд,
получила
доказательное
подтверждение
только в
последние
десятилетия.
С другой
стороны, там,
где задача
доказательства
успешно разрешалась,
пути и
средства ее
разрешения у
разных
ученых были
не всегда
одинаковы. Уже
античная
математика
знала не одно
единственное,
а целый ряд
доказательств
теоремы
Пифагора. И
это типично.
Доказываемый
тезис один,
логические
законы
мышления
одни, но
способы,
ведущие к
признанию
истинности
тезиса, могут
быть разными.
Способы эти
определяются:
1)
основаниями,
из которых
выводится
тезис, 2)
связью между
основаниями
и тезисом.
Связь эта не
видна из
оснований,
отдельно
взятых. Но
так как от
доказываемого
тезиса к уже
доказанным
положениям
можно
перейти не
одним
единственным
способом,
доказательство
способно к
развитию и совершенствованию
От
примитивных
способов
доказательства,
опиравшихся
на неточные,
приблизительные
и потому
часто
ошибочные
наглядные представления,
до
современных
доказательств,
опирающихся
на точно
определенные
понятия, на
независимые
одна от
другой, свободные
от
противоречий,
достаточные
в своем числе
аксиомы, а
также на
строго
доказанные
теоремы,
практика
доказательства
прошла
большой путь
уточнения и
совершенствования.
Соответственным
образом
изменилась,
уточнилась и
логическая
теория
доказательства.
331
§ 3. ВИДЫ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Доказательства
делятся на
виды в
зависимости
от: 1) цели
доказательства,
2) способа доказательства
и 3) роли
опытных
данных как
оснований
доказательства.
1.
РАЗЛИЧИЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
ПО ЦЕЛИ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
В
отношении
цели
доказательство
может быть
или
доказательством
истинности,
или доказательством
ложности
некоторого
положения.
Доказательство,
имеющее
целью установление
истинности
тезиса,
называется просто
доказательством.
Доказательство,
имеющее
целью
установление
ложности тезиса,
называется
опровержением.
С
логической
точки зрения
опровержение
есть
доказательство
того, что
между опровергаемым
положением и
другими
положениями,
о которых
известно, что
они истинны,
существует
отношение
противности
или
противоречия.
Так как два
противных
или
противоречащих
суждения не
могут быть
согласно
закону
противоречия
оба в одно и
то же время
истинными, то
из
истинности суждений
противных
или
противоречащих
необходимо
следует
ложность
опровергаемого
положения. С
этой точки
зрения
опровергнуть
данное
положение
значит найти
такие положения,
которые были
бы
противными
или противоречащими
данному и о
которых было бы
известно, что
они истинны.
Так,
положение «Ни
одно
растение не
питается
животными»
опровергается
противопоставлением
ему
истинного
положения о
существовании
растений,
которые
питаются
насекомыми,
рачками,
личинками
комаров,
инфузориями
и т. д. Здесь
ложность
опровергаемого
общего
суждения
выводится из
истинности
противоречащего
ему частного суждения.
Положение
естествоиспытателей-метафизиков
«Ни один вид
не
изменяется и
не переходит
в другой»
оказалось
опровергнутым,
когда было
доказано, что
«Все виды
изменяются и способны
переходить в
другие виды».
Здесь ложность
опровергаемого
общего
суждения выводится
из
доказанной
истинности
противного
общего
суждения.
Опровержение
часто
применяемый
вид доказательства.
И в
практической
жизни и в
науке,
поставленной
на службу жизни,
поиски
истины
неотделимы
от опровержения
ложного.
Истина
пускает
корни только
в почву,
очищенную от
заблуждений.
История
науки в
бесчисленных
случаях
доказывает,
что условием
движения
науки вперед
является
непримиримая
борьба с тем,
что противоположно
истине.
Передовая
наука, не
отделяющая
себя от
народа,
работающая
на благо
народа, несовместима
ни с каким
заблуждением
ни в какой
области
знания.
Разумеется,
для полного
искоренения
заблуждения
одного лишь
противопоставления
истины
заблуждению
недостаточно.
Жизненным
корнем
заблуждения
в классовом
обществе
является
классовый
интерес.
Именно
классовый
интерес
побуждает
реакционных
деятелей
извращать
истину, насаждать
заблуждение.
В
противоположность
этому
рабочий
класс и его
марксистско-ленинская
партия всегда
заинтересованы
в
установлении
истины, в
искоренении
заблуждения.
Но как бы
ни была
велика роль
практического
интереса в
деле
устранения
заблуждения, без
теоретического
разоблачения
лжи борьба
истины
против
заблуждения
не может быть
успешной.
Необходимым
логическим
средством и
условием
этой борьбы
является
опровержение.
332
2.
РАЗЛИЧИЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
ПО СПОСОБУ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
По
способу
доказательства
доказательство
бывает или
прямым, или
косвенным.
Прямое
доказательство
ведет через
рассмотрение
оснований и
выводов,
опирающихся
на основания,
к усмотрению
истинности
доказываемого
тезиса. Схема
этого вида
доказательства:
из данных
оснований (а,
b...) необходимо
следуют
положения k, l; из
этих
последних
необходимо
следует доказываемый
тезис р. Так
как все
основания
доказательства
(а, b...) истинны
и так как
логическая
связь, ведущая
от а, b... через k, /...
к положению р,
правильная,
то
доказываемый
тезис р
истинный.
Прямое
доказательство
устанавливает
истинность
доказываемого
тезиса
посредством
исследования
самого
доказываемого
тезиса. Исследование
это выясняет;
что так как
доказываемый
тезис
необходимо
следует из
некоторых
положений и
так как
положения
эти истинны,
то
доказываемый
тезис также
будет истинным.
Косвенное
доказательство
устанавливает
истинность
доказываемого
тезиса,
исследуя не
самый тезис,
а некоторые
другие
положения.
Эти
положения
так связаны с
доказываемым
тезисом, что
из
установления
их ложности необходимо
вытекает
истинность
доказываемого
тезиса. В
косвенном
доказательстве
поэтому задача
состоит в
выяснении
ложности
положений,
обусловливающих
истинность
доказываемого
тезиса.
Косвенное
доказательство
бывает или
разделительным,
или
апагогическим
(от греческого
слова apagoge
вывод).
В
разделительном
косвенном
доказательстве
доказываемый
тезис
рассматривается
как одно из
некоторого
числа
предположений,
в своей сумме
исчерпывающих
все
возможные по
данному вопросу
предположения.
Доказательство
состоит в
том, что все
эти
предположения
опровергаются,
кроме одного,
которое и
есть доказываемый
тезис. Тем
самым
доказывается,
что этот тезис,
как
единственное
из всех
возможных предположений,
которое
осталось
неопровергнутым,
должен быть
истинным.
Если,
например,
установлено,
что имело
место
преступление,
которое
могли
совершить только
лица А, В, С и D, и
если, кроме
того,
установлено,
что ни В, ни С,
ни D не
совершили
его, то тем
самым
доказано, что
преступление
совершило
лицо А.
Разделительное
доказательство
часто применяется
в
математических
науках, так
как именно в
этих науках
особенно
легко достижимо
исчерпывающее
перечисление
всех видов
данного рода
или всех
предположений,
возможных в
исследуемом
случае.
Апагогическое
косвенное
доказательство
устанавливает
истинность
доказываемого
тезиса
посредством
опровержения
противоречащего
ему
положения. Из
ложности
последнего
следует на
основании
закона
исключенного
третьего
истинность
доказываемого
тезиса. В
математических
науках
апагогическое
доказательство
принимает
особую форму,
называемую
обычно
«доказательством
от
противного» *.
Косвенное
апагогическое
доказательство
имеет две
части. Сначала
при помощи
особого
приема
доказывается
ложность
тезиса не-р, противоречащего
доказываемому
тезису р. А
именно:
предполагают,
что тезис
не-р, противоречащий
доказываемому,
истинный.
Этот противоречащий
тезис (не-р)
вводится в
число
оснований
доказательства
(а, b, с, d), о
которых
известно, что
они истинны.
Затем из
получившихся
таким
образом
оснований (а, b,
с, d... не-p)
развивают
ряд
необходимо
333
следующих
из них
выводов.
Выводы эти
развивают до
тех пор, пока
не получится
какое-нибудь
заключение,
противоречащее
одному из
оснований,
например
основанию а. Так
как два
противоречащих
друг другу
положения не
могут быть
по закону
противоречия
оба сразу
истинными и
так как
известно, что
положение а истинно,
то
заключение
не-а
необходимо
должно быть ложно.
Итак,
развивая
выводы из
принятых оснований,
мы получили
ложное
заключение
не-а. Но
заключение
не-а может
быть ложно
или оттого,
что ложно
какое-нибудь
из оснований,
на которые
опирается
не-а, или
оттого, что
логическая
связь между
основаниями
(а, b, с, d... не-р) и
заключением
(не-а)неправильная.
Так как в нашем
случае
логическая
связь по
предположению
правильная
и так как
известно, что
все
основания,
кроме не-р,
заведомо
истинны, то
ложным
должно быть
положение не-p.
Такова
первая часть,
или первая
стадия, косвенного
апагогического
доказательства.
На этой
стадии
выявляется
ложность
сделанного
вначале
предположения
об истинности
тезиса,
противоречащего
доказываемому.
Поэтому
первая часть
косвенного
доказательства
называется
ге-ductio (deductio) ad absurdum, т. е.
«приведением
к нелепости».
Вторая
стадия
косвенного
апагогического
доказательства
очень
краткая.
Предположенный
истинным
тезис не-р
оказался
ложным. Но
тезис этот
противоречащий
по отношению к
доказываемому.
На основании
закона исключенного
третьего из
ложности
суждения необходимо
следует
истинность
противоречащего
ему суждения.
Поэтому из
установленной
ложности не-р
необходимо
следует
истинность р,
т. е.
истинность
того самого
положения,
которое
должно быть
доказано.
Такова
схема
косвенного
апагогического
доказательства.
Примером
этого
доказательства
может служить
доказательство
положения
«Два перпендикуляра
к одной и той
же прямой не
могут пересечься,
сколько бы их
ни
продолжали».
Для доказательства
этого тезиса
мы делаем
допущение, что
истинен
антитезис
«Два
перпендикуляра
к одной и той
же прямой при
продолжении
пересекаются».
Из
предполагаемой
истинности
антитезиса
следует, что
из точки,
лежащей вне
прямой, можно
опустить на
эту прямую два
перпендикуляра.
Этот вывод
является
ложным
суждением,
так как он
противоречит
доказанной
ранее
теореме о
том, что из
всякой точки,
лежащей вне
прямой, можно
опустить на
эту прямую
только один
перпендикуляр.
Ложность
вывода
свидетельствует
о ложности антитезиса,
а ложность
антитезиса
свидетельствует
об
истинности
тезиса.
Опровержения,
так же как и
простые
доказательства
истинности
тезиса, могут
быть как прямыми,
так и
косвенными.
Прямое
опровержение
совершается
посредством
уже
известного
нам приема
«приведения к
нелепости» (reductio ad
absurdum). Для того
чтобы
опровергнуть
какое-либо
положение,
надо
показать, что
из него в
сочетании с
другими
достоверно
истинными
суждениями
(аргументами)
вытекают
ложные
следствия.
Ложность
следствия в
правильном
умозаключении
всегда
указывает на
ложность по
крайней мере
одной из
посылок. Но
поскольку
все суждения,
взятые в
качестве
посылок,
кроме опровергаемого
положения,
достоверно .
истинны, то
можно
сделать
заключение о
ложности этого
положения.
Условием
косвенного
опровержения
является
доказательство
истинности
положения,
противного
или
противоречащего
опровергаемому
тезису. Из
истинности такого
положения на
основании
закона противоречия
следует
ложность
опровергаемого
тезиса.
Если
опровергаемое
положение
общее, то для
опровержения
его
достаточно
доказать
истинность
противоречащего
ему частного
поло-
334
жения.
Так, чтобы
убедиться в
ложности
общего
суждения о
том, что все
славянские
языки имеют
формы
склонения
имен,
достаточно
узнать об
отсутствии
форм
склонения,
например, в
именах
болгарского
языка. Но
если опровергаемое
косвенным
способом
положение частное,
то для
опровержения
его необходимо
доказать
истинность
противоречащего
ему обще г о
положения.
3.
РАЗЛИЧИЕ
МЕЖДУ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ
ПО РОЛИ В НИХ
ОПЫТНЫХ
ДАННЫХ
Во всех
науках и во
всех научных
доказательствах
понятия,
которые
входят в
состав доказательства,
ведут свое
происхождение
в конечном
счете из
практики, из
опыта. В этом
отношении не
составляют
исключения и
доказательства
математических
наук. Правда,
понятия,
которыми
пользуется
математик,
отвлекаются
от целого
ряда свойств,
которые
принадлежат
предметам
этих понятий.
Математические
круг, куб, шар
и т. д. не
существуют в
опыте в том
виде, в каком
их мыслит ум
геометра. И все
же даже самые
отвлеченные
понятия математики
возникли в
конечном
счете из опыта
и на основе
опыта. То же
справедливо
относительно
математических
определений
и аксиом,
принадлежащих
к начальным
основаниям
всего
математического
знания. Как
бы ни
казались
далекими от
опыта, а
иногда даже
противоречащими
опыту эти
определения
и аксиомы,
все они в
конце концов
являются
продуктами
отвлечения
от известных
сторон опыта
и не могли
сложиться в
мысли иначе,
как на основе
практики.
Идеалисты
отрицают
опытное
происхождение
математических
понятий. При
этом они
опираются на
то, что
математика
мыслит свои
предметы
линии,
поверхности,
тела и т. д.
такими,
какими они в
точности
никогда не
бывают в
действительности.
Математическая
линия,
например,
имеет лишь
длину, но не
имеет ни
ширины, ни
высоты.
Математическое
тело есть
лишь
замкнутая
математическими
поверхностями
часть
пространства,
мыслимая
независимо
от
наполняющего
пространство
вещества, и т.
д. Опираясь
на эту
отвлеченность
математических
понятий,
идеалисты
утверждают,
будто
понятия эти не
могут иметь
своим
источником
опыт и потому
являются
априорными,
т. е.
внеопытны-ми
и доопытными.
Мнение
идеализма о
внеопытном и
доопытном
характере
математических
понятий совершенно
несостоятельно.
Энгельс
говорит: «Как
понятие
числа, так и
понятие
фигуры заимствованы
исключительно
из внешнего
мира, а не возникли
в голове из
чистого
мышления.
Должны были
существовать
вещи, имеющие
определенную
форму, и эти
формы должны
были подвергаться
сравнению,
прежде чем
можно было прийти
к понятию
фигуры.
Чистая
математика имеет
своим
объектом
пространственные
формы и
количественные
отношения
действительного
мира, стало
быть весьма
реальный материал»
(1, 20, 37).
Так
обстоит дело
с понятиями,
определениями
и аксиомами
математики.
Сложнее
обстоит дело
с
доказательствами.
Во всех
науках, кроме
математических,
доказательство
всегда
непосредственно
связано с опытом.
Это значит,
что кроме
той_связи с
опытом, без
которой
вообще не
могли бы
существовать
никакое
понятие,
никакая
аксиома, в науках
этих в состав
доказательства
всегда входят
такие части и
такие данные,
которые прямо
предполагают
обращение к
опыту: к наблюдению,
к
эксперименту
и т. д.
Напротив,
в
математических
науках
доказательства,
если рассмат-
335
ривать
одну
логическую
их сторону, а
не происхождение
понятий,
входящих в
состав
доказательств,
всегда
ведутся таким
образом, что
математику
не приходится
прямо
обращаться к
опыту помимо
тех обобщений
опыта,
которые уже
содержатся в
его понятиях,
определениях
и аксиомах.
Иными словами,
опыт входит в
математические
доказательства
не
непосредственно,
как он входит
в доказательства
физика,
химика,
биолога, а лишь
посредством
понятий,
которые
образуются
на основе
опыта, но в
своем
содержании являются
отвлеченными
от опыта.
Это
различие
между
науками
математическими
и эмпирическими,
т. е.
доказывающими
свои
положения
при участии
прямого
обращения к
опыту, порождает
различие в
видах
доказательства.
Доказательства
математических
наук, не требующие
привлечения
прямых
данных опыта
в самом ходе
доказательства
и опирающиеся
на опыт лишь
через
посредство
тех
обобщений
опыта, которые
содержатся в
основных
понятиях, определениях
и аксиомах
этих наук, называются
математическими
доказательствами.
Доказательства
наук,
необходимо
требующие
привлечения
прямых
данных опыта
в самом ходе
доказательства
и, таким
образом, не
ограничивающиеся
теми
обобщениями
опыта,
которые
содержатся в
их основных
понятиях,
называются
эмпирическими
доказательствами.
Из этих
определений
и объяснений
ясно, что различие
между двумя
рассматриваемыми
видами
доказательства
состоит
вовсе не в
том, что
доказательства
математических
наук стоят
якобы вне
опыта, а
доказательства
эмпирических
наук основываются
на опыте. Все
доказательства
всех наук
предполагают
опыт в
качестве
необходимой
и последней
основы и в
качестве критерия
истинности
своих
положений.
Разница состоит
лишь в том,
что в одних
доказательствах
мы прямо
обращаемся к
опытным
данным, в других
опытные
данные
непосредственно
в процесс
доказательства
не
включаются.
Из
сказанного
видно, что
различие
между математическими
и
эмпирическими
доказательствами
не безусловно.
ФРЭНСИС
БЭКОН
I.
ИСТОРИЧЕСКАЯ
ОБСТАНОВКА В
АНГЛИИ В
КОНЦЕ XVIНАЧАЛЕ
XVII ВЕКА
И
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ВЗГЛЯДЫ
ФРЭНСИСА
БЭКОНА
Во
второй
половине XVI и в
начале XVII века
европейская
наука
переживала
период
такого
бурного и
такого
успешного
развития, с
которым не
может
сравниться ни
одна
предшествующая
эпоха. Это
был период
крутой ломки
традиционныхсредневековых,
схоластических
взглядов по
всем
основным
вопросам
науки и
период
освоения и
создания методов
исследования,
которых не
знала по
крайней мере
в таком
развитии
предшествующая
наука.
Материальную,
жизненную
основу этого
небывалого и
бурного по темпу
прогресса
составляло
изменение способа
производства
и изменение
отношений
между людьми
по производству,
характеризующие
возникновение
и развитие в
то время
прогрессивного
капиталистического
способа
производства
и
обусловленного
им
капиталистического
общества.
Социальная
сила крупных
феодалов
Англии
оказалась к
концу XVI века в
значительной
мере
подорванной.
Самые кадры
феодальной знати
поредели еще
того раньше
в феодальных
войнах.
Оставшаяся
часть
крупного
феодального
дворянства
была опорой
реакционной
феодальной
оппозиции
против
неограниченных
прерогатив
королевской
власти. В то
время как при
династии
Тюдоров
феодальная
знать враждебно
относилась к
абсолютной
монархии,
среднее и
мелкое
дворянство
составляло главную
опору
королевской
власти.
Экономические,
социальные и
политические
отношения в
Англии конца
XVI начала XVII
столетия,
политические
позиции
различных
классов и
слоев английского
общества,
отражение
экономической,
социальной и
политической
истории Англии
в научном
развитии
страны
тщательно
рассмотрены
в работе Ф. А.
Коган-Бернштейн
«Новая
Атлантида;
Опыты
Фрэнсиса
Бэкона» (6, 143203).
Историческая
особенность
развития
Англии в это
время
состоит в
том, что
довольно значительная
часть
феодального
дворянства,
уцелевшего в
войнах Алой и
Белой Роз, становится
участницей
процесса
превращения
Англии в
страну с
капиталистическим
способом производства,
В Англии
возникает и
быстро развивается
промышленность:
горная, металлургическая,
текстильная.
Развивается
промышленное
изготовление
и выработка
стекла, мыла,
квасцов,
соли. В эти
новые для Англии
виды
промышленности
вкладываются
средства, получившиеся
из самых
различных
источников:
из
присвоения и
раздачи
монастырских
земель и
339
поместий,
из
систематического
пиратского
ограбления
испанских
кораблей,
перевозивших
огромные
количества
серебра и
золота из
испанских
колоний
Нового света,
из громадных
доходов,
которые
приносила
торговля
черными
рабами, и т. д.
Так
создавались
предпосылки
возникшей
впоследствии
промышленной
революции.
В
создании
этих
предпосылок
принимает участие
не только
буржуазный
класс, но
также среднее
и мелкое
дворянство. Для
этой части
дворянства
притязания
крупной
феодальной
знати,
боровшейся
против абсолютизма,
были
значительным
препятствием.
Среднее
дворянство
видело в
крупной феодальной
знати класс
паразитический,
задерживавший
и
затруднявший
экономическое
развитие. Оно
охотно
поддерживало
трон в его
стремлении
ограничить
центробежные
силы
феодализма.
Королевская
власть при
Тюдорах
встречала
враждебное
отношение со
стороны
феодалов и в
своей борьбе
с ним
покровительствовала
среднему и
мелкопоместному
дворянству.
При первом
короле из
дома
Стюартов в
отношении
королевской
власти к
процессу
капиталистического
развития
наступает
перемена.
[Королевская
власть
постепенно
переходит на
сторону
феодальной
реакции.
Парламент,
сдерживавший
чрезмерные
притязания
трона на
власть и на деньги,
вступает в
конфликт с
центральной властью.
Конфликт
этот
особенно
разгорается
по таким
вопросам, как
вопрос о
налогах, о
раздаче и
разрешении
монополий, об
объеме и о
пределах
политической
власти
парламента.
Переход
королевской
власти на
сторону феодальной
реакции
превращал
самое монархию
в
препятствие
для
успешного
развития капитализма,
настраивал
против нее те
самые
социальные
силы и
классы,
которые
склонны были
поддерживать
монархию в ее
борьбе против
реакционного
феодализма.
В этой
сложной
обстановке
борьбы
классов,
политических
сил и политических
тенденций
протекали
развитие,
жизнь и
деятельность
одного из
величайших
мыслителей
Англии,
родоначальника
материализма
и опытных
наук нового
времени Фрэнсиса
Бэкона (1561 1626).
Жизнь
Бэкона, его
характер,
поведение и
мировоззрение
полны разительных
противоречий.
Только
отчасти противоречия
эти могут
быть
возведены к
личности
философа.
Большая их
часть
коренится в
противоречиях
современной
Бэкону английской
общественной
жизни. Это
противоречия
классов
английского
общества,
противоречия
политических
групп,
противоречия
тенденций научного
и
философского
развития:
противоречие
науки и
религии,
схоластики и
эмпирического
естествознания,
метафизики и
диалектики.
Бэкон
отнюдь не
монолитная
фигура. B то же время
противоречия
его
мировоззрения
так же
плодотворны
для развития
философии, как
плодотворны
были
породившие
их и отразившиеся
в них
противоречия
общественной
действительности
Англии.
Действие
этих
противоречий
было усилено особенностями
и
обстоятельствами
жизненного
пути Бэкона.
Сын
небогатого,
но видного
сановника
Англии
хранителя королевской
печати
Николая
Бэкона,
Фрэнсис
Бэкон после
ранней
потери отца
вынужден был
прокладывать
себе дорогу,
опираясь на собственные
способности,
на познания,
вынесенные
из
Кембриджского
университета,
на собственную
гибкость,
изворотливость,
на знание
людей, их
страстей и
нравов, на
знание учреждений
Англии.
Честолюбивый,
получивший блестящее
юридическое
образование,
на редкость
одаренный
как оратор и
как писатель,
Бэкон
устремился
по пути,
который
должен был
привести его
к вершинам на
лестнице
государственной
деятельности
и
придворного
положения.
Благоприятный
случай помог
ему найти
расположенного
к нему и
щедрого
покро-
340
вителя
фаворита
королевы
Елизаветы
графа Эссекса.
Но дружба с
Эссексом
оказалась
для Бэкона и
первым
серьезным
испытанием
его собственного
нравственного
характера. Когда
Эссекс начал
политическую
борьбу с Елизаветой
и был брошен
в тюрьму,
королева потребовала,
чтобы Бэкон
выступил в
роли судебного
обвинителя
ее бывшего
любимца.
«Бэкон исполнил
все, чего от
него хотела
королева,
вплоть до
требования
смертной
казни
Эссекса. И
все же
быстрое
возвышение
Бэкона в
государственных
должностях и
званиях
началось не
при
Елизавете, а
при ее
преемнике
Якове I. При
нем Бэкон
достиг
должности
лорда-канцлера,
лорда-хранителя
королевской
печати и был
пожалован
высокими
титулами. Но
при нем же
произошло и
политическое
падение Бэкона,
завершившееся
его
политической
смертью.
Парламент
был
раздражен
бесцеремонностью
и неутомимой
жаждой денег,
с какими
королевская
власть
распоряжалась
выгодными для
нее статьями
дохода, в
первую
очередь раздачей
монополий.
Направить
удар непосредственно
против
самого
короля
парламент не
решался и не
хотел.
Необходимо
было нанести
этот удар
одному из
высших
сановников
государства,
и таким
образом
сдержать
необузданный
произвол
королевской
власти,
произнести
слово
осуждения,
которое
должно было
быть
услышанными
всеми и
всюду.
Выбор
парламентской
оппозиции
остановился
на Бэконе. В
поводе для
обвинений
недостатка
не было.
Честолюбивый
лорд-канцлер
стремился не
только к высокому
положению
при дворе и в
государстве,
но и к
богатству,
которого ему
не оставил
отец. Он жил
всегда не по
средствам
широко,
пышно,
расточительно,
всегда был в
долгах. В то
же время
непрерывное
и на редкость
быстрое при
Якове I
возвышение
Бэкона не позволяло,
чтобы в один
прекрасный
день он был объявлен,
как
объявлялись
многие менее
видные люди,
несостоятельным
должником и
попросту
разорился.
Деньги для
вельможного существования
и для
представительства
во что бы то
ни стало
должны были
быть найдены.
И они
нашлись.
Подобно
многим
современным ему
высшим
судебным
сановникам,
Бэкон поддался
коррупции: он
стал
принимать
взятки и
«торговать
правосудием»
согласно
его собственному
позднейшему
выражению.
Когда
конфликт
между
парламентом
и королевской
властью
вступил в
острую фазу,
парламентарии
нанесли
королю удар,
направив его
против его
любимого
сановника:
Бэкон был
изобличен в
подкупности,
во всем
признался, и
королю было предложено
окончательно
определить
меру наказания.
Что касается
парламента,
то, согласно
постановлению
разбиравших
дело Бэкона
лордов, Бэкон
был
отстранен
навсегда от
всех
занимавшихся
им высших
государственных
и судебных
должностей,
приговорен к
огромному денежному
штрафу и даже
к заточению в
государственной
тюрьме Тоуэр
на срок,
который должен
был быть
указан
королем.
Якову I
была крайне
неприятна
вражда, проявленная
парламентом
к его
любимому
сановнику. Он
освободил
Бэкона и от
тюрьмы и от
штрафа и
разрешил ему
удалиться в
собственное
поместье. Однако
благоволение
короля не
могло уже вернуть
Бэкона к
государственной
деятельности.
Последние
несколько
лет жизни
Бэкон провел
в научных и
литературных
трудах. Он и
умер,
простудившись
во время
одного из своих
экспериментов,
когда
набивал
снегом
внутренности
курицы.
Из
биографии
Бэкона видно,
что сама его
деятельность
и
общественное
положение
ставили его в
центре
сложной
борьбы
социальных
классов и
влиятельных
политических
сил его
времени.
Возможности
выбора ориентировки
предоставлялись
ему
исторически
сложившейся
в
341
Англии
ситуацией, а
его личный
характер и его
научное
мировоззрение
определили
самый выбор.
Бэкон не стал
представителем
метнувшейся
в сторону
феодальной
реакции королевской
власти: и в
своей деятельности
и в своем
мировоззрении
он проводит
тенденции,
отвечавшие
интересам
той части
дворянства,
которая
сближалась с
буржуазным
классом, и
той части
буржуазии,
которая
требовала
уступок со
стороны
дворянства.
Политические
взгляды и
тяготение
Бэкона раскрываются
в его «Опытах
и
наставлениях
нравственных
и
политических».
Первое
издание этой
книжки
тогда еще
весьма
небольшой по
объему и по
составу
вышло в 1597 году.
В нем главное
место
отводится
опытам на
этические темы.
В дальнейших
изданиях
первоначальный
состав
подвергся
значительному
расширению.
Уже в издании
1612 года в
«Опытах...»
преобладают
не этические,
а
политические
темы. В «Опыте
о смутах и
мятежах» (Of Seditions and Troubles)
Бэкон говорит
об
экономической
политике
государства, обеспечивающей
процветание,
гражданский
мир,
предотвращающей
голод и
нищету,
возникновение
в государстве
восстаний
против
высшей
власти. «Цель
эта
достигается,
утверждает
он, открытием
торговых
путей и
благоприятным
торговым
балансом;
поощрением
мануфактур;
искоренением
праздности;
обузданием
роскоши и расточительства
посредством
особых
законов;
усовершенствованием
земледелия;
регулированием
цен на все
предметы
торговли; уменьшением
налогов и
пошлин, и
тому подобным»
(2, 74).
Для
Англии, как и
для
Нидерландов,
одним из
важных
условий
первоначального
капиталистического
накопления
были захват,
и эксплуатация
колоний в
Новом и
Старом свете.
(В развитии
колониализма
видели
условие своего
процветания
и
развивавшийся
буржуазный
класс и
сближавшееся
с ним дворянство
нового типа.
В первом томе
«Капитала»
Маркс
отмечает, что
в ранний
мануфактурный
период
становления
капитализма
захват
колоний и
извлечение
из них дохода
имели очень
большое значение,
так как
колонии
обеспечивали
рынок сбыта
для вновь
возникающих
мануфактур.
Бэкон
хорошо
понимал роль
приумножения
колоний для
подъема
буржуазного
класса
Англии и для
успехов
нового,
обуржуазивавшегося
дворянства.
Он и
практически,
и
теоретически
занимался
вопросами
захвата
колоний и колониальной
политики
Англии. В
своих сочинениях
он сочувственно,
«е
увлечением»,
по выражению
Ф. А.
Коган-Бернштейн
(6, 193),
набрасывает
план захвата
колоний и
извлечения
из их
богатств больших
доходов,
которые
должны
сосредоточиться
в руках
«буржуазных
лендлордов» и
буржуазии.
В свою
очередь,
условием успешного
развития
захватнической
колониальной
политики
Бэкон считал
развитие и усиление
могущества
Англии как
морской державы,
рост ее
военного и
торгового
флота.
Экономической
программой
Бэкона,
которая в
общем
совершенно
соответствовала
интересам
усиливавшейся
буржуазии и
нового
дворянства,
определяются
основные
черты его
политических
воззрений.
В
дворянстве
Бэкон
находит
сословие
английского
общества,
умеряющее
абсолютную королевскую
власть,
препятствующее
ему выродиться
в полный
деспотизм и
произвол. Вместе
с тем
дворянство
призвано так
думал Бэкондержать
в
повиновении
массы
простого народа,
не допускать
народ до
восстания против
короны и
против
господствующих
классов.
Такой
роли не
способна
сыграть, по
Бэкону, старая
феодальная
знать.
Сословие это
сходит с
арены
истории и
только
«ложится
бременем» на
народ. В
политическом
поведении
феодальной
знати
господст-
342
вуют
центробежные
силы,
тенденции
феодального
сепаратизма
и стремление
к подрыву королевской
власти, к ее
экономическому
и политическому
ослаблению. В
косном и
паразитическом
классе
феодальной
знати,
преисполненном
надменности
и вредного
для
государства
своеволия,
Бэкон видел
сильнейшую
помеху для
успешного
развития
Англии. В
своих
советах
королю Якову
I Бэкон
указывал на
опасность,
какую для королевской
власти и для
благоденствия
всей страны
представляет
старая знать.
Не делает
Бэкон в этом
отношении
никакого
исключения и
для знати
церковной,
экономические
и социальные
позиции
которой к
концу XVI века
были
чувствительно
подорваны
политикой
секуляризации,
т. е.
«обмирщения»,
присвоения
духовных
поместий и
угодий.
Не
старая
феодальная
знать, а
дворянство «второго
ранга» (Second Nobles)
есть класс,
полезный, по
Бэкону, для
общества.
Бэкон хорошо
видит, что класс
этот
выступает в
политической
жизни как
союзник
буржуазного
класса. В
своей деятельности
государственного
человека и писателя
Бэкон
разделяет
интересы и
поддерживает
притязания
обоих этих
классов. B интересах
этих классов
он считал
целесообразным
использование
всех средств
государственного
насилия. Он
признавал
необходимым
предоставить
крестьянству
только те
условия, которые
гарантировали
бы
возможность
его дальнейшей
эксплуатации.
Он признавал
за народом
право
изъявления
недовольства,
но не право
на восстание
против
обременительной
для народа
власти.
Революцию,
утверждал он,
необходимо
предупреждать
и
предотвращать
всеми возможными
способами. Не
дожив до
разразившейся
в Англии
революции
всего
полтора десятка
лет, Бэкон
пристально
присматривался
к грозным
явлениям и
движениям
общественной
жизни,
предвещавшим
близкую
революцию.
Такими явлениями
он считал,
во-первых,
насильственно
проводившиеся
огораживания
земель, удобных
для
разведения
скота,
который давал
шерсть,
необходимую
для
мануфактуры;
во-вторых,
последствия
насильственного
отторжения
королевской
властью
земель,
принадлежавших
монастырям и
духовенству;
в-третьих,
чрезмерную
расточительность
двора,
ложившуюся
тяжелым
бременем на
народ.
Для
предотвращения
народного
возмущения
Бэкон
советовал
королю не
натягивать
слишком
сильно узду
абсолютизма.
Он отвергал
крайние
притязания
королевского
самодержавия
и
рекомендовал
королю
политику
тактичного
союза с
парламентом.
Он утверждал,
что мудрый
монарх
должен регулярно
созывать
парламент,
править страной
совместно с
парламентом
и взимать налоги
только с
согласия
«народа», т. е.
буржуазного
класса и
трудящихся.
Ссылаясь на
пример
Нидерландов,
он находил,
что один и
тот же по
сумме налог
взимается
легче и
безболезненнее,
если народ
изъявил свое
согласие на
него. «Подать,
писал он,
взимаемая с
согласия
народа или
без такового,
может быть
одинакова
для
кошельков, но
неодинаково
ее действие
на дух
народа» (2, 99). Так
в лице Бэкона
нашли
представителя
и защитника
своих интересов
класс нового
дворянства,
смыкавшегося
экономически
и
политически
с буржуазией,
и буржуазный
класс,
готовый в уже
недалеком
будущем
предъявить
свои
притязания на
участие во
власти.
Все эти
взгляды
нашли яркое
выражение в
«Опытах»
Бэкона,
особенно
начиная с
издания 1612 года.
В них Бэкон
не скрывает
ни своего
отрицательного
отношения к
крупным
феодалам, ни
своего
сочувствия
среднему
дворянству.
«Что касается
высшего
дворянства,пишет
он, то
государю
следует
держать его
на
почтительном
от себя расстоянии»
(2, 82). Таким же
должно быть и
отношение короля
к высшей
церковной
знати: «Надменные
и
могущественные
прелаты
также представляют
опасность;
так было с
Ансельмом и
Томасом
Бекетом,
архиепископами
343
кентерберийскими,
которые
дерзнули
померяться
своими
епископскими
посохами с королевским
мечом...» (2, 82).
Со всей
возможной
четкостью
Бэкон указал
на двойную
функцию
среднего
дворянства:
«Они
составляют
как бы противовес
высшему
дворянству,
не давая ему
слишком
усилиться; и,
...будучи
поставлены
непосредственно
над простым
народом, они
всего лучше
умеряют
народные
волнения» (2, 83). Правда,
иногда они
ведут в
парламенте
дерзкие речи,
но в этом, по
Бэкону, «еще
нет большой
беды» (2, 83). К тому
же они
«вследствие
своей разрозненности
не
представляют
особой опасности»
(2,83).
В тех же
рассуждениях
Бэкон
подчеркивает
полезную для
государства
роль
буржуазных
классов,
прежде всего
класса
торговцев:
согласно его
сравнению,
купечество
есть
«воротная
вена» (vena porta)
политического
тела; когда
оно не
процветает,
государство
может иметь
хорошо
сформированные
члены, но
крови в его
сосудах мало,
и питание
недостаточно»
(2,83).
В одном
из наиболее
известных
своих афоризмов
Бэкон назвал
истину
дочерью
времени. Характеристика
эта в первую
очередь приложи-ма
к нему
самому. Его
социальные и
политические
идеи
чрезвычайно
выпукло
отразили
состояние
современного
ему
английского
общества, его
противоречия,
развивавшиеся
в нем
процессы, отношения
его классов и
происходившую
между ними
борьбу. В них
отразился
также ум и характер
Бэкона:
знание
общественной
жизни,
наблюдательность
и
проницательность,
восприимчивость
к веяниям
эпохи,
гибкость,
граничащая
порой с
беспринципностью,
искусство лавировать
между
противоборствующими
силами,
громадное
ненасытное
честолюбие.
II.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
И НОВОЕ
ОБОСНОВАНИЕ
МАТЕРИАЛИЗМА
В ФИЛОСОФИИ
БЭКОНА
Значение
Фр. Бэкона в истории
философии
прежде всего
в том, что он
родоначальник
материализма,
связанного с
естествознанием
нового
времени. Но
этим его
значение не
исчерпывается.
Бэкон не только
развивал
учение,
материалистическое
по существу
своего
содержания.
Он, кроме того,
понимал, что
это
развивавшееся
им учение было
материалистическим.
У Бэкона
материализм
не
безотчетное,
бессознательное
воззрение, а
учение,
которое он
сознательно
и убежденно
противопоставил
идеализму.
Больше
того. Бэкон
предпринял и
успешно осуществил
попытку
восстановления
или
реабилитации
материализма
в сознании и
в оценке
современников.
Многое из
того, что он
писал, было прямой
и нарочитой
апологией
материализма,
восстановлением
его
философской
репутации.
В эпоху
феодализма в
западной и
восточной схоластике
репутация
материализма
была крайне
низкая. Не
только были
утрачены
литературные
памятники
материалистической
мысли
сочинения
самих
материалистов.
В значительной
мере была
утрачена
память о них.
Поскольку же
память эта
все же
частично сохранялась,
она
оставалась
памятью
недоброй.
Облики великих
материалистов
древности
подверглись
искажению, а
их учения
были
обесславлены,
поносились,
оказались
оклеветанными.
Правда,
когда
авторитет
Аристотеля
поколебался
и возникла
сильная
антиаристотелевская
оппозиция
среди
гуманистов, а
затем и
других философов
Возрождения,
эта
оппозиция
стремилась
в своей
борьбе
против
Аристотеля
вновь
опереться на
великих
мыслителей
древности. Но
в большей
части
случаев
мыслителями
этими были не
материалисты
древнего мира,
а его
крупнейшие
идеалисты:
Платон и
Плотин.
Пантеистические
тенденции
неоплатонизма,
клонившиеся
к
натурализму,
были противопоставлены
потустороннему
«неподвижному
перводвигателю»,
«мыслящему
собственное
мышление»
богу
Аристотеля.
B XVI веке
наряду с этим
натурализмом,
сильно
окрашенным в
тона неоплатоновской
теософии,
возникают
учения
материалистические
в
собственном
смысле слова.
Таким был
материализм
руководителя
Академии в
Кобленце, на
юге Италии, Бернардино
Телезио. Для
построения
своей материалистической
системы
природы
Телезио
использовал
345
физику Ларменида
с его
учением о
выделении
всех
образующихся
вещей из
первичной
противоположности
светлого и
темного,
теплого и
холодного.
Развивая
собственное
материалистическое
учение, Бэкон
сопоставляет,
сравнивает
его с
учениями, ему
предшествующими
и
современными.
Его познания
в истории
материализма
довольно
обширны и
точны для его
времени. Он
владеет
искусством
указывать в
каждом
рассматриваемом
учении его
крупные и
существенные
черты.
В
развитии
античного
материализма
он различает
школы, выводившие
все вещи из
одного
единственного
вещественного
начала, и
школы,
признававшие
множество
таких начал.
Он отвергает,
как
несостоятельные,
теории,
допускавшие
множество
или даже
бесчисленное
число начал,
и высказывается
в пользу
гипотез,
допускавших
только одно
единственное
начало (см. 3, II, 591).
В свою
очередь, он
разбирает,
каждую в
отдельности,
школы,
признававшие
происхождение
вещей из
одного
единственного
начала, и останавливается,
как на
наиболее
приемлемой,
на той из них,
которая
предполагает,
что
многообразие
предметов
«зависит от
различных
размеров,
вида и
положений
этого материального
и
единственного
начала (от
различных
пропорций,
сочетаний и
относительных
расположений
этих
элементов
естественного
вида)» (3, II, 591). По
Бэкону,
первородная
материя, о
которой
говорят
древние и
которую они
считают за
начало всех
вещей, есть
«материя,
обладающая
формой и
одаренная
многими
определенными
свойствами» (3, II,
587). Напротив,
материя «отвлеченная,
лишенная всякого
определенного
качества и
чисто страдательная
... есть не
более как
фантастический
продукт
человеческого
ума...» (3, II, 587). Кто
отбросит эти
фантастические
и
вымышленные
абстракции,
тот видит,
что
«первобытная
материя,
первобытная
форма и даже
первое
начало
движения...
связаны
неразрывно» (3, II,
587). Какова бы ни
была
первоначальная
материя, она
необходимо
должна быть
«облечена в
известную
форму,
одарена
известными
определенными
свойствами и
устроена так,
чтобы всякий
вид силы,
качества,
содержания,
действия и
естественного
движения мог быть
ее
последствием
и ее
произведением»
(3, II, 590).
Именно
эти
примечательные
черты
бэконовского
понятия о
материи имел
в виду Маркс
в известном
месте
«Святого
семейства»,
где он развивает
свою
проницательную
характеристику
материализма
Бэкона.
«Первичные
формы
материи,
отмечает
Маркс, суть живые,
индивидуализирующие,
внутренне
присущие ей,
создающие
специфические
различия, существенные
силы. У Бэкона,
как первого
своего
творца,
материализм
таит еще в
себе в наивной
форме
зародыши
всестороннего
развития.
Материя
улыбается
своим
поэтически-чувственным
блеском
всему
человеку» (1, 11, 142143).
Этот
наивный
ранний очерк
материализма,
развитый
Бэконом, не
лишен,
однако, духа
критики.
Рассматривая
учения
античного материализма,
Бэкон ,не
только
классифицирует
их, но и
оценивает в
согласии с
собственными
понятиями.
Философские
учения, производившие
все вещи из
одного
начала, подвергаются
строгому
рассмотрению
и отбору. Таковы
учения
Фалеса,
Анаксимена,
Гераклита.
Одобряя их
общую материалистическую
и
монистическую
тенденцию,
Бэкон ясно
видит их
слабые,
уязвимые
черты.
Философы эти
удовольствовались
тем, что
нашли каждый
среди
видимых и
осязаемых
тел такое,
которое казалось
им
превосходящим
все
остальные тела
своими
свойствами.
Это тело они
и приняли
к<за начало
всего сущего»
(3, II, 698): Фалес
воду,
Анаксимен
воздух,
Гераклит
огонь. Свой
выбор они осуществили
«не на
346
основании
наблюдения и
зрелого
обсуждения
действительности»
(там же). Они
позволили
обольстить
себя теми
представлениями
о совершенстве,
которые они
связали с
некоторыми
телами
«вследствие
того, что
сильнейшее впечатление
окрасило
своим цветом
все остальное»
(3, II, 599). Однако
философ,
«желающий
знать природу
такой, какой
она
существует в действительности»,
должен
принимать за
истинное
начало вещей
только «то,
что согласуется
не только с
самыми
деятельными
телами, ,но и с
самыми
малыми,
самыми
редкими и самыми
косными» (3, 11, 599).
Но этого
мало.
Недостаток
ранних
греческих
материалистических
учений
гипотез
Фалеса,
Анаксимена,
Гераклита
не только в
том что за
первовещество
они
принимают
физический
элемент,
показавшийся
им без
достаточного
исследования
преобладающим
в природе.
Недостаток
их еще и в том,
что ни одна
из этих
гипотез не
оказалась
способной
объяснить
способ возникновения
противоположных
свойств природы.
А между тем
философия
должна
представить
такое
объяснение.
Во вселенной,
по Бэкону,
«встречается
бесчисленное
множестзо
вещей
противоположных
и
противоборствующих»
(3, II, 600). Тела
бывают,
например,
плотные или
редкие, теплые
или холодные,
светлые или
темные, одушевленные
или
неодушевленные
и т. д. И все они,
борясь одно с
другим,
взаимно
ослабляют
или
разрушают
друг друга.
По Бэкону,
выводить все
эти
противоположности
из одного и
того же
материального
начала как из
одного
источника и
не дать при
этом ни малейшего
понятия о
способе,
посредством
которого эта
единственная
причина
может производить
все свои
противоположные
действия, есть
путь,
подобающий
только тем
философам,
«которые,
испугавшись
трудности
исследования,
покидают его»
(3, II, 600).
Поэтому
Бэкон
отвергает
даже
гипотезу Гераклитахотя,
по его
мнению,
Гераклитфилософ
«более
проницательный
и более
глубокий», чем
милетские
материалисты
Фалес и Анаксимен
(3, II, 595).
Несравненно
выше
оценивает
Бэкон материалистическое
учение
Левкиппа и
Демокрита.
Особенно
Демокрит
постоянный
предмет его
анализов,
суждений и
восхвалений.
Уже по отношению
к
материалистам
до Сократа
Бэкон
проявил
величайшее
внимание и
уважение. Он
сам отмечает,
что им были
собраны с
величайшей
тщательностью
даже самые
незначительные
тексты,
относящиеся
к Пифагору,
Эмпедоклу,
Гераклиту,
Анаксагору,
Пармениду, Ксенофаяу.
В четвертой
главе
третьей
книги трактата
«De Dignitate et Augmentis Scientiarum» он
даже
указывает на
новые
источники их
изучения,
какие
имеются в
книгах
Лактанция, Филона
Александрийского,
Филосграга и
др.
Еще
значительнее
его интерес и
внимание к Демокриту.
Учений
Демокрита он
касается во
многих своих
сочинениях.
Таковы «Cogitationes de natura reium»
(«Размышления
о природе
вещей, гл. I и II);
«Temporis partus masculus et Redargutio Philosophiarum»; «De principiis atque
on-ginibus»; «Descriptio Globi Intellectualis» (гл. VI); «De
Dignitate et Augmentis Scientiarum» (кн. III, гл. IV);
«Novum organum» (кн. I, аф. 51, 57 и
т. д.). Энергия и
убежденность,
с какими Бэкон
восхваляет
Демокрита,
столь велики,
что Шарль
Адан, автор
посвященной
Бэкону монографии,
приписывает
Бэкону
значительную
роль в
восстановлении
репутации
Демокрита, состоявшемся
в первой
половине XVII
века (см. 8, 152).
В учении
Демокрита
Бэкон
признал
философию,
которая в
том, что
относится к
физическому
объяснению,
нахождению
физических
причин,
«представляется...
несравненно
более прочной
и прони-
347
кающей
гораздо
глубже в
природу, чем
философия
Платона и
Аристотеля...» (3,
I, 275). Бэкон
восхваляет
Демокрита за
то, что он
отстранил
бога из
системы мира,
отделил
физику от
теологии,
приписал образование
вселенной
бесконечному
числу
попыток и
опытов
природы (см. 3, I, 275).
Особенно
ценит Бэкон у
Демокрита
новое понятие
необходимости:
Демокрит
признал причиной
отдельных
предметов
одну только
необходимость
без
вмешательства
целевых, или
«конечных»,
причин (см. 3, 1, 275).
Как
ученый
Демокрит
собрал
богатое
сокровище
физических
знаний и
заслужил у
греков прозвище
«мага». Он ввел
в обиход
«естественную
магию»,
основывающееся
на
физическом знании
умение
воздействовать
на природу в интересах
человека и
человеческой
практики.
По
Бэкону,
учение
Демокрита
всегда
чествовалось
«мудрецами,
любившими
поразмыслить
в тишине и
уединении» (3, II, 586).
В эпоху
процветания философии
в Риме
«философия
Демокрита
была
распространена
и нравилась...
Цицерон, например,
не говорит об
этом
философе
иначе, как с
великой
похвалой...
поэт Ювенал...
который, по
всей
вероятности,
говоря о
Демокрите,
согласовался
с мнением
своего века,
не находит
слов для его
восхваления»
(3, II, 586). Этот великий
человек
«возбуждал
удивление
даже самих
своих
современников,
называвших
его
испытанным
во всякого рода
битвах (pantathlus)» (3, II, 586).
Особенно
глубокомысленной
чертой философии
Демокрита
Бэкон считал
учение, согласно
которому
свойства
атомов не
похожи на такие
свойства,
которые мы
воспринимаем
в вещах
посредством
чувств. Бэкон
подчеркивает
глубокое
отличие
между
свойствами
сложных
вещей макромира,
доступных
нашим
внешним
чувствам, и
свойствами
атомов,
которые
всецело отличаются
от всего
чувственно
воспринимаемого.
«Демокрит,
говорит
Бэкон, ...имел
право
сказать, что
атомы или
семена всех
вещей и
свойственные
им силы ни на
что не
похожи, что
подлежит
чувствам, «о
что они
вполне невидимы,
неосязаемы и
проч.» (3, 11, 586).
Поэтическое
выражение
той же мысли
Бэкон находит
и одобряет у
Лукреция.
Римский поэт
изображает
атомы так:
«Они не
похожи ни на огонь,
ни на воздух,
ни на воду, ни
на землю, ни на
что-либо, что
могло бы
подлежать
чувствам» (3, 11, 584).
Говоря о
силе,
присущей
атомам,
Лукреций
продолжает:
«Природа
элементов, из
которых
вытекают все
зарождения,
тоже должна
быть скрыта и
ускользать от
чувства, дабы
никакая сила
не могла [ни]
одолеть их,
ни
воспрепятствовать
их деятельности»'^,
II, 584).
Именно
эти черты
понятия
Демокрита об
атомах
заставляют
Бэкона
признать, что
атомистическая
гипотеза
Демокрита
«стояла гораздо
выше
общепринятых
понятий» (3, II, 586).
Если уже
говорить о
недочетах
атомистического
материализма
Демокрита, то
недочет этот
состоит, по Бэкону,
разве лишь в
неполной
последовательности,
с какой
Демокрит
проводит
свой взгляд
на различие
между
свойствами
сложных
вещей
макромира и
чувственно
невоспринимаемыми
свойствами
атомов. «В
самом деле,
говорит
Бэкон, Демокриту
следовало бы
приписать
атомам движение,
отличное от
движения
сложных тел,
как он им
приписал
различные
сущности и
качества или
силы» (3, II, 585). Но
Демокрит не сделал
этого.
Падение
тяжелых тел и
восхождение
легких тел,
наблюдаемое
посредством
чувств в
вещах
макромира,
Демокрит
принимает «за
единственные,
первоначальные
и природные,
и на
основании
этого
предположения
приписывает
их атомам» (3, II, 585).
Но это отождествление
свойств
сложных тел и
атомов Бэкон
считает
ошибочным.
«Атомы и
сложные тела,
ут-
348
верждает
он,
отличаются
во всех
отношениях, а
именно в
сущности, в
силе и в
свойственных
им движениях»
(3, II, 585).
Чрезвычайно
интересно и
показательно
для
материализма
самого
Бэкона его отношение
к учению
Демокрита о
пустоте.
Учение
это было
наряду с
учением о
существовании
атомов, т. е.
абсолютно
неделимых
частиц или
элементов
вещества,
вторым
краеугольным
камнем
материализма
Демокрита. Существование
пустоты, или,
как иногда ее
называет Демокрит,
«небытия»,
необходимо,
по Демокриту,
для
объяснения
движения
атомов в
пространстве
и для
объяснения
таких
физических явлений,
как сжимание
и расширение
тел.
По-видимому,
в начале
своего
философского
развития
Бэкон
разделял
учение
Демокрита об
абсолютной
пустоте
пространства,
в котором
движутся
атомы. Так, в
наброске «О
принципах и
началах» (De principiis atque
originibus),
написанном
вскоре после
1611 года*,
атомистическую
гипотезу
вещества и
связанную с ней
концепцию
пустоты
Бэкон
принимает как
реалистическое
воззрение,
противостоящее
фантастическим
абстракциям
и идеалистическим
измышлениям
натурфилософов:
«...ум
человеческий,
читаем
здесь, если
только он
желает быть
последовательным,
вынужден
неодолимой
необходимостью
прибегнуть к
гипотезе
атомов...» (3, II, 629).
Атомы эти
представляются
ему «настоящими
вещественными
сущестзами,
обладающими
формой,
величиной,
местом и
проч., и, кроме
того,
одаренными
антитипией
(сопротивлением,
непроницаемостью)
сил,
стремлений,
движений.
Между тем,
как естественные
тела
погибают,
атом
незыблем и
вечен» (3, II, 629).
Возможно,
что мотивом
для
присоединения
в этом
вопросе к
Демокриту,
была, как
правильно
указывает
Шарль Адан,
«оппозиция
против Аристотеля,
защитника
заполненности
(пространства)»
(8, 156).
Впоследствии,
когда для
Бэкона
сделалась
ясной
необходимость
строго
отделить
научное
рассмотрение
проблем от
рассмотрения
«метафизического»,
Бэкон
вернулся к
воззрению
Аристотеля.
Однако
основанием
для этого
воззрения служат
теперь не
абстракции
разума, а
факты, удостоверяемые
опытом.
В «Новом
Органоне»
Бэкон уже
отрицает
демокритовскую
концепцию
пустоты: «Мы
поэтому не
будем, пишет
он в VIII
афоризме
второй части,
сводить
вещи к Атому,
который
предполагает
пустоту и не
текущую
материю (и то
и другое
ложно), а к истинным
частицам, как
они
открываются»
(9, 357). А в XXVIII
афоризме
второй части
Бэкон
считает уже
ясным, «что то
основание,
ради
которого пустота
была введена
Левкиппом и
Демокритом (а
именно то,
что без пустоты
одни и те же
тела не могут
изменять объем,
заполняя
большие или
меньшие
пространства),
ложно. Ибо
материя,
поясняет
Демокрит,
складывается
и
развертывается
в пространстве
между
определенными
пределами и без
посредничества
пустоты...» (9, 566). В доказательство
этого своего
утверждения
Бэкон
ссылается на
свидетельства
опытных наук:
«В воздухе,
говорит он,
нет пустоты в
две тысячи
раз большей
(ибо такой ей
следовало бы
быть), чем в
золоте. Это
вполне
явствует для
нас из
могущественнейших
сил воздушных
тел (которые
иначе
плавали бы в
пустоте, как
мельчайшие
пылинки) и из
многих других
явлений» (9, 566).
Еще
решительнее
высказывается
он в «Истории
плотного и
разреженного»
(«Historia densi et ran»). «В
природе,
читаем здесь,
не
существует
пустоты: ни
сосредоточенной
(в
пространствах
между
мирами), ни
примешанной
(к телам)» (12, II, 303).
И хотя
Бэкон
полагал, что
при
средствах,
какими
располагала
современная
ему наука, было
невозможно
знать, пусты
ли огромные
про-
349
странства
между мирами,
он все же
думал, что в
мире нет и не
может быть места,
не занятого
веществом,
«по причине
собесконечности
материи и
пространства»:
propter coinfinitatem materiae cum spatio (12, 111, 744).
Из
«собесконечности»
материи и
пространства
Бэкон
выводил, как
следствие,
многочисленность
миров. По
этому вопросу
античная
наука
выдвинула
две противоположные
гипотезы.
Согласно
первой из них,
существует
лишь один
единственный
мир. Гипотеза
эта была
тесно
связана с
представлением
о Земле как о
неподвижном
центре мироздания.
Учение о
единственности
мира наметил
Парменид,
развил в
геоцентрическую
систему
Аристотель и
повторил на
закате
античной
философии
стоицизм.
Учение о
многочисленности
миров было
неотъемлемой
чертой атомистического
материализма.
Его развивали
в Греции Левкипп,
Демокрит и
позже Эпикур,
в Риме Лукреций.
На
уровне,
достигнутом
античной
наукой, вопрос
этот не мог
быть
доказательно
разрешен, и
обе точки
зрения
Аристотеля и
атомистов-материалистов
оставались
всего лишь гипотезами.
В
начальную
пору развития
науки
капиталистического
общества борьба
между обеими
гипотезами
возобновилась.
До
изобретения
телескопа и
до признания
гелиоцентрической
системы
Коперника, нашедшей
многочисленные
подтверждения
в открытиях,
сделанных с
помощью
телескопа, учение
о единственности
мира было
преобладающим.
Учение это не
только
опиралось на
авторитет
Аристотеля и
схоластической
науки. Оно
поддерживалось
и некоторыми
материалистами
XVI столетия.
Крупнейшим
из них был
итальянский философ
и ученый
Телезио.
Противоположная
гипотеза
была развита
с опорой на
учение
Коперника с
поразительной
смелостью,
силой и размахом
воображения
и с
поразительной
научной
дальновидностью
Джордано
Бруно.
Собственную
позицию в
этом споре
Бэкон изложил
в своем
разборе
материалистической
системы Телезио.
Разбор этот
дан в
сочинении «О
принципах и
началах» («De principiis atque
originibus»).
Непосредственно
Бэкона
интересовал
не столько
вопрос о
многочисленности
миров, сколько
вопрос об
истинности
гипотезы Телезио,
предполагавшего,
будто все
сущее порождено
двумя
началами
плотным и
компактным,
из которого
состоят
Земля и
однородные с
нею тела, и
началом,
крайне
редким и
тонким, из
которого
состоят
небесные
тела.
Бэкон
полагает, что
гипотеза
Телезио неизбежно
ведет ко
взгляду,
согласно
которому в
веществе
Земли
оказывается
сосредоточенным
«бесконечно
большее
количество
материи» (3, II, 631),
чем в
небесных
телах. Но с
этим
взглядом Бэкон
никак не
может
согласиться.
По его суждению,
гипотеза
Телезио
«встретит
постоянно
возрастающие
затруднения,
из которых
никогда не
сумеет
выпутаться» (3, II,
631). Бэкон соглашается
с Плутархом,
который в
диалоге о
лице
человека,
видимом на
диске Луны,
«заметил, что
нет никакого
вероятия,
чтобы при распределении
материи
природа
присудила одному
только
земному шару
все плотное
вещество...» (3, II, 631).
Допущение
это представляется
Бэкону
особенно
невероятным,
если принять
во внимание
«бесконечное
множество
вращающихся
в небе звезд» (3,
II, 631). Всегда почти
несправедливый
в своих
отзывах о замечательном
английском
физике
Гильберте,
Бэкон в этом
вопросе о
многочисленности
миров
отступает от
своего обыкновения
и, возражая
Телезио,
одобряет решимость
и
основательность,
с какими Гильберт
«не побоялся
утверждать,
что существует
бесчисленное
множество
темных и плотных
шаров,
подобных
Луне и Земле,
рассеянных
между
светящимися
звездами» (3, II, 631).
Бэкон
отрицает не
материалистический
принцип
философии
Теле-
350
зио, а
физический
дуализм
холодного и
теплого,
темного и
светлого, из
которого
Телезио
надеялся
объяснить и
вывести все
многообразие
явлений
природы и
даже
строение
вселенной. В
этой связи чрезвычайно
интересны
возражения
Бэкона, направленные
против формы,
в какой
Телезио изложил
принцип
сохранения
материи.
Бэкон со
всей
ясностью
разъясняет,
что он и не
думает отрицать
самый
принцип или
сомневаться
в его
истинности и
важности. В
одном месте
«Нового
Органона»
Бэкон
связывает
сохранение
материи со
свойством
материального
тела
занимать
известную
часть
пространства.
Материя не
только не
может
исчезнуть
или быть уничтоженной,
но не может
существовать
иначе, как
где-то, т. е.
иначе, как
протяженная.
«Никакой
пожар,
говорит
Бэкон,
никакая
тяжесть или
давление,
никакое
насилие,
никакая,
наконец,
продолжительность
времени не
может обратить
в ничто
какую-либо,
хотя бы мельчайшую
частицу
материи; она
всегда будет
чем-то и
будет
занимать
какое-то
место, и в
какое бы
безвыходное
положение
она ни была
поставлена,
она
освободится,
изменив либо
форму, либо
место, или же,
если это
невозможно,
будет
оставаться,
как она есть;
и никогда она
не будет
ничто или
нигде» (9, II, aph. XXVIII).
По
словам
Бэкона,
Телезио
отлично
понял, «что
масса
материи (все
количество
материи во вселенной)
постоянно
одинакова» (3, II, 636).
Бэкон принимает
сформулированный
Телезио принцип,
согласно
которому
«общее
количество
материи во
вселенной
вечно одно и
то же и не
подлежит ни
увеличению,
ни
уменьшению» (3, II,
635).
Ошибка
Телезио не в
установлении
самого принципа,
а в
неудовлетворительном
понимании
условия,
которым
материя
сохраняется. Условие
это Телезио
понимает как
«чисто
пассивное» (3, II, 635),
чисто
количественное:
«Оно
относится
скорее к
количеству,
нежели к
форме
(формальной причине)
и к действию» '(3,
II, 635).
Критика
эта
знаменательна.
Из нее видно,
что
философии
Бэкона было
присуще
динамическое
понимание
материи, а не
чисто механистическое.
B
материальной
основе всего
сущего Бэкон
видит
многообразие
действующих
в природе
сил. Природа
изначально
наделена у
него
богатством
живых сил,
форм, красок.
Именно
потому она,
согласно
известному выражению
(Маркса,
приведенному
выше,
«улыбается
человеку».
Природа
Бэкона еще не
есть огромный
бездушный
механизм,
каким она
явится вскоре
после Бэкона
Гоббсу.
Однако
«динамический»
взгляд на
материю только
тенденция
мысли Бэкона,
а не последовательно
разработанное
учение,
утвержденное
на прочном
основании. Не
будучи
механицистом
в позднейшем
смысле этого
понятия,
Бэкон сделал
ряд шагов в
подготовке
именно
механистических
методов
объяснения.
Само его
понятие о
силе или
могуществе
механистическое.
Динамизм
самой
природы,
признаваемый
им в
принципе, он
отделяет от
действования
человека. «В
действии,
говорит он,
человек не
может ничего
другого, как
только
соединять и
разъединять
тела природы»
(9, I, aph. IV).
«Остальное
природа совершает
внутри себя» (9, I,
aph. IV). Это если не
механистическое
понимание самой
природы, то,
во всяком
случае,
механистическое
понимание
человеческой
деятельности
и,
следовательно,
познания. К
познанию
скрытого
динамизма
природы
человек идет,
по Бэкону,
механистическими
средствами.
Но и в
понимании
внутреннего
строя природы
у Бэкона
наряду с
господствующей
динамической
пробивается
механистическая
тенденция.
Так, по
учению
Бэкона,
несомненно
восходящего
к Аристотелю
как бы
сильно Бэкон
ни
критиковал
его и
основывающуюся
на
351
нем
схоластику,
все свойства
(или, по его терминологии,
все «природы»)
тел
закономерно
обусловлены
некоторыми
сущностями.
Где налицо
эти сущности,
там
необходимо
налицо и соответствующие
им свойства.
И, наоборот, где
нет этих
сущностей,
нет, не может
быть и
соответствующих
им свойств.
Сущности эти
Бэкон
называет в
духе
«Метафизики» Аристотеля
«формами» *.
В
понятии
Бэкона о
«формах»
кое-что
остается
неясным и
недостаточно
разъясненным.
Но там, где
Бэкон
приближается
к ясности и
иллюстрирует
свою мысль
примерами, не
подлежит
сомнению, что
«формы»
толкуются у
него не
только
вполне материалистически,
как
физические
сущности,
объективно
независимые
от человека и
его сознания,
но, кроме
того,
толкуются
механически.
Доказательство
тому
исследование
«формы»
теплоты.
Сущностью,
закономерной
объективной
«формой»
теплоты у
Бэкона
оказывается
особый вид
движения
материальных
частиц:
«Самая
сущность
Тепла есть
Движение и ничто
другое...» (9, II, aph. XX).
Само
понятие
изменения
Бэкон
толкует механистически.
То, что для
непосредственного
созерцания или
наблюдения
представляется,
как изменение,
то, согласно
своей
действительной
природе,
скрытой от
непосредственного
зрения,
оказывается
механическим
движением невидимых
зрению
материальных
частиц. Так происходит
го, что
«остаются
скрытыми
более тонкие
перемещения
частиц в
твердых
телах то, что
принято
обычно
называть
изменением,
тогда как это
на самом деле
движение
мельчайших
частиц» (9, I, aph. I).
В
развитии
науки взгляд
этот
соответствует
эпохе, когда
наиболее
доступными
количественной
характеристике
явлений
природы были
механические
движения тел
и когда
механика
возглавляла
поступательное
движение
естественных
наук. В
обширной
области
явлений
природы, куда
не проникало
и, по
состоянию
экспериментальной
практики и
теории, еще
не могло
проникнуть
количественное
исследование,
господствовала
одна лишь
качественная
характеристика
явлений.
Отсюда
характерное
для Бэкона
противоречие
между
динамизмом
качественной
картины мира
и
механицизмом,
подготовляющим
и предвозвещающим
механицизм
Гоббса.
Там, где
научно не
обоснованный
динамизм качественной
картины мира
берет у
Бэкона верх,
понятия его
являют
удивительную
смесь
фантастических
натурфилософских
воззрений с
элементами
физических и
механических
представлений
**.
Напротив,
там, где
Бэкон видит
возможность
хотя бы в
принципе
свести самый
динамизм к
его количественной
характеристике,
воззрение
его
принимает
черты,
свойственные
механистическому
материализму.
Методом
этого
материализма
был анализ
как в прямом,
физическом
смысле, т. е.
как
техническое
рассечение исследуемого
сложного
тела,
анатомирование,
вивисекция в
биологии и в
медицине, так
и в
логическом
смысле как
абстракция,
как производимое
в уме
логическое
расчленение
изучаемого
объекта.
Перенесение
этого метода
мышления из
области
естественных
наук в
философию и
одностороннее
его применение
породили в
философии
метод
мышления, который
классики
марксизма
стали
называть «метафизическим».
Таким
метафизическим
по методу
оказался
материализм
Бэкона.
Для
эпохи Бэкона
односторонность
аналитического
метода была
исторической
неизбежностью.
Корни ее
уходят
глубоко не
только в
особенности
современных
Бэкону
естественных
наук, но и в
особенно-
352
сти
современной
Бэкону и
новой для
Европы капиталистической
экономики.
Это была
эпоха
развития
мануфактур. В
качестве
своего
условия
развитие
мануфактур предполагает
анализ, т. е.
расчленение
процесса
изготовления
продукта на
его составные
части, или
элементы. В
свою очередь,
анализ
технологического
процесса
есть операционное
материальное
воплощение
логического анализа
целого на
части. Ниже
(гл. VII) мы убедимся,
что
бэконовский
метод
индуктивного
исследования
был метод,
существенную
часть и
условие
которого
составляли
методы анализа.
Метафизика
же явилась
результатом
не аналитического
метода как
такового, а
лишь исторически
обусловленной
односторонности
его
применения.
,
Материализм
Бэкона
характеризуется
еще одним
важным
противоречием.
Это
противоречие
между
стремлением
освободить
естествознание
и философию
от всякого
давления на
них со
стороны
религии и
-стремлением
к
компромиссу
с
религиозным
мировоззрением.
Взгляд
Бэкона на
религию
непоследовательный.
Маркс
подчеркнул в
«Святом семействе»
раздвоение
мысли Бэкона,
его «теологическую
непоследовательность».
С одной
стороны,
Бэкон резко
ставит на вид
помехи,
которые
суеверие и
слепое
религиозное
рвение воздвигали
на пути
развития
естествознания.
С горечью
отмечает он,
что уже у
греков люди, «которые
впервые
предложили
непривычному
еще
человеческому
слуху
естественные
причины
молнии и
бурь, были на
этом
основании
обвинены в
неуважении к
богам» (9, I, aph. LXXXIX). Но
и с торжеством
христианства
положение не
стало лучше:
«Немногим
лучше
отнеслись
некоторые древние
отцы
христианской
религии к
тем, кто при
помощи
вернейших
доказательств...
установили,
что Земля
кругла и, как
следствие
этого,
утверждали
существование
антиподов» (9, I, aph.
LXXXIX).
Больше
того. Бэкон
находит, что
в схоластике
вред влияния,
оказанного
религией на
развитие
науки, стал
еще большим:
«По теперешнему
положению
дел условия
для
разговора о
природе
стали более
жестокими и
опасными по
причине
учений и
методов
схоластов» (9, I, aph.
LXXXIX). Ибо схоластики
«не только в
меру своих
сил привели
теологию в
порядок,
придали ей
форму науки,
но вдобавок
еще добились
того, что
строптивая и
колючая философия
Аристотеля
смешалась
более чем следовало
с религией» (9, I, aph.
LXXXIX).
Так же
решительно
отвергает
Бэкон всякие попытки
привлечь
философию и
сделать ее средством
обоснования
догматов
христианской
религии.
Бэкон желчно
говорит о
рассуждениях
«тех, кто не
постеснялся
выводить и
подкреплять истинность
христианской
религии из
авторитетов
философов» (9, I, aph.
LXXXIX). Он находит,
что люди эти
недостойным
образом
«смешивают
божеское и
человеческое».
Особенно
резко
обрушивается
Бэкон на
богословов и
на их
невежество в
вопросах
науки. Одни
из них
боятся, как
бы более
глубокое
исследование
природы «не
перешло за
дозволенные
пределы
благомыс-лия»
(9, Г, aph. LXXXIX). iB то
время как все
скрытое в
природе
вовсе не ограждено
никаким
запретом и
дозволено человеческому
познанию,
богословы
превратно
применяют к
нему то, что
«было сказано
в священных
писаниях»
«против тех,
кто пытается
проникнуть в
тайны
божества» (9, I, aph. LXXXIX).
Другие
богословы
еще более
хитры. Если
«средние
причины»
явлений
неизвестны,
рассуждают
они, то этим
можно
воспользоваться,
чтобы тем
легче
отнести все
«к божественной
руке и жезлу» (9,
I, aph. LXXXIX). Но, по
Бэкону, все это
«есть не что
иное, как
желание
угождать богу
ложью» (9, I, aph. LXXXIX).
353
Для
Бэкона
характерно
стремление
начисто
отделить
научное
исследование
природы от
теологии и
сделать его
совершенно
самостоятельным.
Но в то же
время, с
другой
стороны,
Бэкон вовсе
не хочет
порвать с
религией. Он
отделяет и
даже
освобождает
научное
исследование
от всякого
вмешательства
религии, но
сохраняет
религию, как
область веры.
Его учение о
религии и ее
отношении к
науке
напоминает
запоздалый
вариант средневекового
учения
аверроистов
о двоякой
форме истины
научной и
религиозной.
Наряду со
всеми
приведенными
суждениями, в
которых он
твердой
рукой
ограждает
науку от внесения
в нее
религии, он d
ряде мест
защищает религию,
признает
необходимость
ее «сохранения.
Из того, что
естествознание
есть вернейшее
лекарство
против
суеверия, он
софистически
выводит,
будто то же
естествознание
«достойнейшая
пища для
веры» (9, I, aph. LXXXIX). Он
разъясняет,
что только
поверхностное
знакомство с природой
и с
естественными
науками
отвращает от
религии, но
более
глубокое и
проникновенное
возвращает
к ней. Он
утверждает,
наконец, что
начало «надо
почерпнуть
от бога, ибо
все
совершающееся
вследствие
обнаруживающейся
природы самого
добра явно
происходит
от бога,
который есть
создатель
добра и отец
света» (9, I, aph. XCIII).
Трудно
судить о
степени
искренности
подобных
заявлений. Во
всяком
случае ясно,
что
действительный
интерес
Бэкона сосредоточен
вовсе не на
откровениях
веры, а на
исследованиях
и на методах
исследования
положительной
науки.
Признание
религии у
Бэкона
напоминает
его
признание
«метафизики»,
или учения о
целевых
причинах*.
Оно совершенно
формально. Не
в религии, а в
естествознании
и в
материалистической
философии
центр
тяжести
мировоззрения
Бэкона.
III.
ПОЛОЖЕНИЕ
НАУКИ В
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОМ
ОБЩЕСТВЕ
И В
АНГЛИИ В
КОНЦЕ XVI
НАЧАЛЕ XVII ВЕКА
Научное
развитие
западноевропейского
общества и, в
частности,
Англии в
конце XVI и в начале
XVII века
характеризуется
выросшим
значением
техники. Ни
рабовладельческий,
ни крепостнический
строй не
стимулировали
и не могли
стимулировать
быстрое
развитие техники.
За
исключением
таких
отраслей народного
хозяйства,
какими были
всегда нуждающиеся
в
технической
основе
военное дело,
строительство
дорог,
потребности
орошения
засушливых
земель,
кораблестроение,
в других
областях
производства
техника получила
незначительное
применение и
отличалась
медленным
темпом
развития.
Рабский труд
и труд
крепостного
крестьянина
были слишком дешевы
для того,
чтобы искать
технических средств
увеличения
производительности
подневольного
порабощенного
труда.
В
капиталистическом
обществе
техника
получила
новое
значение
значение
необходимого
и важного
условия
существования
и тем более
развития
всех основных
видов
производства.
Выросла роль
применения
искусственных
орудий труда и
в
особенности
машин.
Открытие
стран Нового
света,
освоение
новых
морских
путей
сообщения сопровождались
развитием
хищнической
колониальной
политики,
захватом
огромных пространств
вновь
открытых
материков. Размах
и масштабы
этой
политики,
сулившей быстрое
и
баснословное
обогащение
господствующих
классов всех
стран,
вовлеченных
в эту
политику, требовали
в невиданных
масштабах
новой техникидля
морских
путей
сообщения,
кораблестроения,
кораблевождения,
для развития
артиллерийского
дела и т. д. B
связи с этим
изменилось
значение
науки в жизни
европейского
общества.
Античная
наука и наука
средневекового
общества
была в основе
своей наукой умозрительной
и
созерцательной.
Древние греки,
например,
были
прекрасными
наблюдателями
явлений
природы, а в
медицине
прекрасными
наблюдателями
доступных
внешнему
наблюдению
явлений
физиологии и
патофизиологии
человека. Нас
до сих пор
поражает
точность медицинских
наблюдений
Гиппократа,
многие из
которых
сохранились
в
современной
медицинской
терминологии
(например,
«фациес гиппократика»).
Не менее
удивительны
результаты
наблюдений
древнегреческой
науки также в
астрономии.
Уже Гиппарх
открыл
явление предварения
равноденствий
научный
подвиг, тре-
355
бующий
изощренной
точности в
очень трудных
для того
времени,
когда не было
точных измерительных
приборов,
наблюдениях.
Второй
областью
крупнейших
достижений
древнегреческой
науки были
гипотезы, т. е.
научные
догадки о
причинах или
о
закономерных
порядках
наблюдаемых
явлений
природы.
Однако в
условиях
развития
науки
античного
общества
гипотезы эти
могли быть
только умозрительными.
Неразвитость
техники и
даже
презрение к технике,
примитивные
орудия
которой находили
применение
почти
исключительно
в наемном
физическом
груде, имели
следствием то,
что античная
наука мало
пользовалась
экспериментом.
Эксперимент
предполагает
достаточно высокий
уровень
развития
техники. В
обществе с
неразвитой
техникой
наука не
может быть
наукой
экспериментальной.
Именно такой
была
древнегреческая
наука. Это
была наука
общества, в
котором
техника не
отделялась
от
физического
труда, а
физический
наемный труд
презирался
как
недостойный
свободного
человека.
Поэтому
античные
физики и физиологи
не
располагали
средствами
для проверки
возникавших
у них догадок
о причинах наблюдаемых
явлений.
Догадки эти
основывались
у них на
наблюдениях
и на
умозрении.
Такими умозрительными
были все
гипотезы о
строении
вещества,
возникшие
почти
одновременно
в различных
полисах
(городах-государствах)
древней
Греции в V
веке до нашей
эры: гипотезы
Эмпедокла,
Анаксагора,
Левкиппа и
Демокрита.
Разнообразие
этих гипотез
и их обилие
объясняется
отсутствием
средств для
их экспериментальной
проверки.
Гипотеза возникала,
но не было
возможности
на опыте удостовериться
в истинности
или ложности
ее основного
допущения.
В
древнеримской
науке было
больше связи
с практическими
потребностями
жизни. Однако
и здесь
развитие
этих потребностей
не привело к
сколько-нибудь
значительному
развитию
научной
техники, т. е.
эксперимента.
Утилитаризм,
свойственный
мышлению
древних
римлян,
привел к
возобладанию
эмпиризма, к
отделению
техники от
науки.
Невиданное
дотоле
развитие
получила
техника военная,
техника
дорожного
строительства,
техника
городского
хозяйства
(главным образом
в Риме,
мировом
городе того
времени), техника
ирригации.
Однако этот
прогресс отделился
в развитии
римской
культуры от
прогресса теоретической
науки. Наука
эта была в
основе
наукой
эмпиристической,
не знавшей
широких
обобщений и
глубоких
теоретических
догадок.
Успехам
агротехники
не соответствовали
равные по
значению
успехи
естествознания.
'Физические
науки в
лучшем
случае повторяли
на римской
почве идеи
греческого
умозрения.
Гениальный
практицизм
римлян не
сопровождался
гениальным
полетом
теоретической
мысли.
Варрон,
Ко-лумела,
оба Плиния не
могут идти ни
в какое
сравнение с
Анаксагором,
Демокритом,
Аристотелем,
Эпикуром,
Аристархом Самоским,
Эвклидом,
Гиппархом и
Гиппократом.
В
средневековой
науке до XIII и XIV
столетий
условия для
развития
эксперимента
и для влияния
этого
развития на
результаты
теоретического
исследования
продолжали
оставаться
мало
благоприятными.
Только
развитие
городов в XIII
столетии,
рост и
экономическое
развитие
городских
классов
населения будущей
буржуазии
рост
торговых
сношений, связывавших
не только
соседние, но
и отдаленные
страны,
привели к
некоторому
относительному
увеличению
удельного
веса эксперимента
в практике
научного
исследования.
Ha факт
относительного
подъема
средневековой
техники и
опиравшейся
на нее науки
указал в
«Заметках и
фрагментах»,
вошедших в состав
«Диалектики
природы»,
Энгельс:
«Несравненно
более
высокое
развитие
промышленного
производст-
356
ва и
торговли,
созданных
средневековым
бюргерством;
с одной
стороны,
производство
стало более
усовершенствованным,
более многообразным
и более
массовым, а с
другой торговые
сношения
стали
значительно
более
развитыми;
судоходство
со времени саксов,
фризов и
норманнов
стало
несравненно
более смелым,
а с другой
стороны
масса изобретений
(и импорт
изобретений
с Востока),
которые не
только
сделали
возможным импорт
и
распространение
греческой
литературы,
морские
открытия, а
также
буржуазную религиозную
революцию, но
и придали им
несравненно
больший
размах и
ускоренный
темп; сверх
того, они
доставили,
хотя еще в
неупорядоченном
виде, массу
научных
фактов, о
которых
никогда даже
не
подозревала
древность: магнитная
стрелка,
книгопечатание,
литеры, льняная
бумага
(употреблялась
арабами и испанскими
евреями с XII
века; с X века
постепенно
входит в
употребление,
а в XIII и в XIV веках
становится
уже более
распространенной
бумага из
хлопка, в то
время как
папирус
после завоевания
Египта
арабами
совершенно
вышел из
употребления),
порох, очки,
механические
часы, явившиеся
крупным
шагом вперед
как во времяисчислении,
так и в механике»
(1, 20, 506).
Отмеченные
Энгельсом
технические
и научные
изобретения
составляли
часть предпосылок
для более
успешного
развития
науки и даже
подготовляли
почву для
проникновения
в науку новых
методов
наблюдения и
эксперимента.
Однако менее
всего эти новшества
могли
охватить
науку
официальную,
разрабатывавшуюся
и
преподававшуюся
в стенах
средневековых
университетов.
Здесь не только
по-прежнему
царила
теология, но
именно XIII век
был
ознаменован
особо пышным
развитием
схоластического
богословия и
схоластической
философии. В
это время
возникают крупнейшие
энциклопедические
системы схоластики:
система
Альберта,
система Фомы
Аквинского,
система
Дунса Скота.
Правда, и в
эти системы
вторгается
дух времени.
В
особенности знаменательно
влияние,
испытанное
Альбертом, а
также Фомой
Ливийским со
стороны великого
таджикского
ученого и
мыслителя Абу
Али Ибн Синны
(Авиценны).
Однако
влияние это
распространялось
главным
образом на
богословские
элементы
системы, и
только в занимавшей
европейских
схоластиков
проблеме
отношения
общего к
особенному и
единичному
влияние
Авиценны
привело к
переносу на
европейскую
почву идеи о
трояком
существовании
универсалий:
до вещей, в
самих вещах и
после вещей
в уме
человека. В
общем
официальная
философия
продолжала
оставаться и
после подъема,
пережитого в
хозяйстве.т-ной
и технической
жизни
европейского
общества,
схоластической.
Успехи
технического
изобретения,
успехи
математики,
механики,
астрономии,
эмпирической
медицины не
нашли
значительного
отражения в
философии.
Основополагающее
для средних
веков
великое
медицинское
произведение
Авиценны
(«Канон»)
подчинило своему
влиянию всю
европейскую
медицину, но
дух эмпирического
исследования
не проникал в
философию.
Очагами
научного
прогресса
были не
университеты.
Новая наука
возникала трудами
людей,
стоявших вне
официально
признанной
-философии,
больше
связанных с
жизнью,
знакомых с
достижениями
науки,
пользовавшейся
не
общеевропейской
латынью,
языком
схоластики, а
арабским
языком, на
котором
писали не
только
ученые арабы,
как Ибн Рожд
(Аверроэс), но
и таджики,
иранцы,
сирийцы и т. д.
Это
внеофициальное
рождение
новой науки особенно
рельефно
выступает в
эпоху 'Возрождения.
Новая наука
возникала не
в стенах
монастырей и
средневековых
университетов.
Она возникала
в мастерских
художников,
которые были
в это время
не только
живописцами,
скульпторами,
ювелирами, но
также
инженерами,
математиками,
техниками.
357
Эти
художники,
прославившие
Возрождение
как эпоху невиданного
дотоле
подъема
изобразительных
искусств,
были тесно
связаны с
ремеслом, с
городскими
классами,
нуждавшимися
не в решении
утонченных
вопросов
схоластического
умозрения, а
в решении
вопросов
техники,
механики,
судостроительства,
строительства
каналов и
оросительных
систем, в
усовершенствовании
календаря, в
исправлении
астрономических
таблиц, с
помощью
которых
отважные моряки
могли
определять
местонахождение
корабля в
открытом
море. Эти
люди, как, например,
Леонардо да
Винчи, не
были
«учеными» в
официальном
смысле этого
понятия, не
владели
виртуозно
латынью, не
были
эрудитами
вроде Эразма
Роттердамского
или Рейхлина.
Но именно они
и были
создателями
новой науки,
той науки,
которая была
нужна
возникавшему
капиталистическому
способу
производства,
новым
способам и
задачам
торговых
сношений, новой
технике
военного
дела:
фортификации,
баллистике.
Характернейшими
представителями
этой новой
науки были
такие
художники,
как Леонардо
в Италии и
Альбрехт
Дюрер в
Германии. Не
связанные
традициями
схоластической
учености,
разносторонне
одаренные,
живо отвечавшие
на
практические
и
теоретические
запросы
новой жизни и
новых
социальных сил,
они смелее и
скорее, чем
кто бы то ни
было, могли
порвать со
схоластической
рутиной и направить
научное
исследование
на новые пути.
Но это их
преимущество
было вместе с
тем и одним
из условий
розни,
которая
существовала
между
официальной
наукой,
развивавшейся
в строгих
рамках
схоластической
традиции, и
реальной
новой наукой,
опиравшейся
больше на
непосредственное
наблюдение,
технику и
эксперимент,
чем на мнение
прославленных
авторитетов
богословия и
схоластической
учености.
Схоластика
не терпела
новшеств не
только в
своей
собственной
области, но и
в той области,
которая, как
новая наука,
тесно связанная
с техникой,
механикой и
хозяйством,
развивалась
относительно
свободно, не
чувствуя
себя
связанной
буквой
официального
учения.
Поэтому
схоластика
боролась не
только с
людьми,
которые
пытались
быть проводниками
новых идей
внутри самой
схоластики (как,
например,
Сигер
Брабантский).
Схоластика
боролась
также со
всеми
чуждыми ей
идеями,
возникавшими
вне
официального
русла развития
схоластической
мысли. Она
убила Сигера
Брабантского
за попытку
распространять
в Парижском
университете
вольнодумные
идеи Аверроэса.
Она казнила
Джордано
Бруно, который,
сбросив с
себя рясу
францисканского
монаха,
критиковал
догматы
церковного
вероучения и
развивал
космологию,
овеянную не только
духом
пифагорейского
и неоплатонавского
натурализма,
но также
пропагандировавшую
революционные
идеи
гениального
польского преобразователя
астрономии.
Она заставила
замолкнуть
Галилея,
который не
был схоластиком,
а был
светским
ученым, как
только осознала
революционизирующее
и неотразимое
в научном
отношении
действие его
новой физики
и его
продолжавшей
открытие
Коперника
астрономии.
Настороженно
бдительное и
непримиримое
отношение
церковной
учености к
возникшей в
недрах
феодального
общества
новой науке,
отвечавшей
потребностям
и интересам новых,
буржуазных
классов
общества,
усилилось
еще больше
после
потрясения,
какое
заставила пережить
католическую
церковь
Реформация.
Отбив первый
удар,
нанесенный
ей Лютером,
Меланхтоном
и Кальвином,
католическая
церковь
переходит в
контрнаступление.
Она руками
светских
носителей ее
идей, руками испанской
монархии,
захватившей
юг Италии, на
долгие годы
заточает в
тюрьму
инквизиции
Кампанеллу.
Она вырывает
из гордых уст
дряхлеющего
Галилея
вынужденное
отречение от его
основного на-
358
учного
убеждения
убеждения в
истинности коперниканской
космологии.
Она готовит
многочисленные
кадры уже не
богословов
только, но и
ученых в
рясах, готовых
истолковать
все открытия
новой науки в
смысле,
безопасном
для
официального
воззрения, и
даже в
смысле,
укрепляющем
его основы.
Она
натравливает
на Галилея не
только
кардинала
Беллармина,
но и ученого
иезуита
патера
Шейнера,
который
оспаривает
сделанное
Галилеем
открытие
солнечных
пятен, толкуя
это открытие
в духе
аристотелевской,
враждебной
Копернику,
космологии.
Но
ничуть не
лучшим было
положение и в
странах, где
распространилось
протестантство:
в Германии, в
Англии, в
протестантских
Нидерландах. Удар,
нанесенный
католической
церкви Реформацией,
вовсе не был
схваткой
между свободой
и
нетерпимостью,
между
вероучением,
поощрявшим
научные и
философские
новшества, и
(вероучением,
отрицавшим
эти
новшества.
Это была
схватка
между двумя
религиозными
вероучениями,
одинаково
нетерпимо
относившимися
к свободному
научному
исследованию.
Если римская
курия внесла
книгу
Коперника в
список
запрещенных
книг, то и
Лютер назвал
Коперника
дураком,
желающим
сдвинуть с
места Землю.
Джордано
Бруно
вынужден был
бежать не только
от
преследований
итальянской
инквизиции
из Италии. Он
должен был
бежать и из города
Кальвина
Женевы, и из
Англии, где
его травили
схоластики
Оксфордского
и Кембриджского
университетов,
и из
Франкфурта. В
Нидерландах
Спиноза,
отлученный
от еврейской
церкви и
изгнанный из
еврейской
общины за
свободомыслие,
вынужден был
вести полулегальное
существование
в приютившей
его общине
сектантов. Во
Франции
философ и логик
Пьер Раме,
восставший
против
авторитета
Аристотеля,
незыблемого
в глазах
схоластики и
католического
богословия,
был убит во
время
Варфоломеевской
ночи.
В то же
время
неудержимо
развивающаяся
жизнь брала
свое.
Развитие
наблюдения и
эксперимента,
развитие
математики и
механики
диктовалось
не только
личными
склонностями
и интересами
тех или иных
ученых. Оно
диктовалось
властно и
неудержимо
той ролью,
какую
техника и
наука играли
в жизни
возникающего
капиталистического
общества.
Роль эта все
увеличивалась.
iB стенах
схоластических
университетов
могли еще
отгораживаться
от новых
задач и новых
методов
исследования.
Но экономика,
хозяйство,
политика не
могли не
считаться с
новой наукой.
Можно было
отрицать
астрономические
и физические
теории
Коперника и
Галилея, но нельзя
было просто
отказаться
от практически
необходимых
и полезных
результатов их
научной
работы. Так
возникало
противоречие
между
отрицанием
принципиальных
основ нового
мировоззрения,
новой науки и
вынужденным
признанием
их
практических
результатов.
Галилей-философ,
Галилей-астроном
был на сильнейшем
подозрении,
но
Галилей-физик,
Галилей-инженер,
Галилей-изобретатель
был не только
необходим, но
достоин
почета и
признания. Со
временем
неизбежно
возникает
стремление,
отвергая
принципы
нового
мировоззрения
и новой
науки, так
переработать
официальные
философские
доктрины,
чтобы они
могли вместить
в себя
практически
неоспоримые
результаты
развития
новой науки.
Католическая
контрреформация
сопровождалась
приспособлением
церковной
педагогики и
церковной
пропаганды к
новым
веяниям
эпохи.
Чрезвычайную
гибкость в
этом
отношении
проявил
орден иезуитов
верный
слуга и
блюститель
интересов римской
курии.
Руководители
ордена
считали
нецелесообразной
политику
сплошного и слепого
отрицания
всех
достижений
быстро
развивавшихся
математических
и физических
наук. Они
пытались
посредством
деятельности
своего
ордена
оказать
максимальное
влияние на их
развитие. Они
воспитывали
людей, которые
мог-
359
ли бы
овладеть
всем
аппаратом
новой науки, но
которые во
всех
вопросах
идеологии и
теории были
бы верными
проводниками
официального
богословского
учения и которые
могли бы
бороться с
научным
.свободомыслием,
разговаривая
с ним на
языке самой
науки. Они
покрыли
страны
Западной и
Центральной
Европы,
оставшиеся
верными
католицизму, сетью
своих школ,
коллегий. В
этих школах
хорошо
подготовленные,
опытные в
деле преподавания
и еще более в
деле
воспитания
учителя
внушали
своим
воспитанникам
и питомцам
идеи, которые
должны были
вынуть
опасное жало
атеизма,
материализма,
натурализма из
учений новой
науки. Они
стремились
противопоставить
новым
теориям не
просто
систему догматов
религиозного
вероучения, а
противопоставить
им теории же,
однако
теории, выхолощенные,
фальсифицированные,
приспособленные
к
официальному
воззрению. Не
было отрасли
научного
исследования,
в которой
нельзя было
бы найти
признанных
здесь в
качестве «ученых»
и даже
авторитетных
ученых
двух-трех
членов
ордена
иезуитов, или
по крайней мере
«ученых»
патеров
католической
церкви. Эти люди
уже не
просто
отказывались,
как известный
кардинал, взглянуть
в трубу
Галилея с
тем, чтобы
убедиться в
действительном
существовании
открытых
Галилеем
спутников
Юпитера. Они
сами
исследовали
небо с
помощью
телескопов и
даже
открывали
кое-что в
этой области.
Однако,
открыв вслед
за Галилеем
солнечные
пятна,
какой-нибудь
Шейнер немедленно
вступал в
борьбу с
Галилеем там,
где речь шла
уже не о
самом факте,
а об его
истолковании
и объяснении.
Таким
было
положение
науки в
странах Южной
и Западной
Европы в XVI в
начале XVII века.
На
исходе 30-х
годов XVII века
важные
перемены в
положении науки
произошли в
Англии.
Страна
стояла накануне
своей
буржуазной
революции. В
недрах
общества и в
обветшалых
формах
феодального
политического
строя здесь
уже давно созревали
предпосылки
будущего
капиталистического
общества. Как
было уже
сказано (см.
гл. I), часть
земельной
английской
аристократии
сама шла
навстречу
этому
движению,
превращалась,
по меткому
выражению
Энгельса, в
«буржуазных;
лендлордов».
Практицизм
английской
буржуазии
проявлялся в
самых
различных
областях
народного
хозяйства.
Этот практицизм
стремился
использовать
для нужд техники,
мореходства,
торговли, для
оснащения
военного
флота,
составлявшего
одно из важнейших
условий
колониальных
захватов и колониального
притеснения,
все важнейшие
технические
достижения
науки. Наука
эта в
значительной
мере была
наукой,
основанной
на эмпирических
методах
исследования:
на наблюдении
и на
эксперименте.
Этой своей
важнейшей чертой
она резко
отличалась
от
рационализма
и мистицизма
схоластики,
процветавшей
в старинных
средневековых
университетах
Англии в
Оксфорде и в
Кембридже.
Замечательные
исследования
явлений
магнетизма,
проведенные
Гильбертом, и
еще того
более
замечательные
работы по
механизму
кровообращения,
выполненные
Гарвеем,
протекали
вне русла развития
официальной
схоластической
науки. Наука
эта,
напротив,
ополчалась
против
новаторов философии
и научной
мысли. Она
проявила зловещее
единодушие в
борьбе с
появившимся здесь
на короткое
время
пламенным
пропагандистом
нового
научного
мировоззрения
Джордано Бруно.
Новаторские
тенденции и
явления
новой науки
нашли свое
отражение и в
философии. Во
второй
половине XVI в
начале XVII века
не только развивается
новая наука:
возникает
новый философский
взгляд на
науку, на ее
задачи и методы,
на ее место и
значение в жизни
общества. В
возникновении
этого взгляда
видная роль
принадлежит
крупнейшему
английскому
материалисту
Фрэнсису Бэкону.
IV.
МЫСЛИ БЭКОНА
О НОВОМ ТИПЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
НАУКИ
В
ОБЩЕСТВЕ
БУДУЩЕГО.
«НОВАЯ
АТЛАНТИДА» И
ПРОЕКТ-УТОПИЯ
СОЛОМОНОВА
ДОМА. ВОПРОС
О
СООТНОШЕНИИ
ПРАКТИКИ
И
ТЕОРИИ В
ФИЛОСОФИИ
БЭКОНА
К
преобразованию
взгляда на
науку Бэкон был
подготовлен
и опытом
своей
государственной
деятельности
и своим
огромным
философским
дарованием. К
редко
встречающимся
чертам
личности
Бэкона
относится
его способность
одновременно
и к занятиям
государственными
вопросами и к
плодотворным
занятиям
наукой и
философией.
Годы
наивысшего успеха
Бэкона в
сфере
политической
и государственной
совпадают со
временем
наивысшего
подъема и
наибольшей
глубины и
оригинальности
его
философской
продуктивности.
Менее всего
Бэкон был
похож на
министра-дилетанта,
который,
удалившись
от
поглощавших
все его время
дел,
предается на
досуге
недоступным ему
дотоле
научным
занятиям.
Развитый Бэконом
взгляд на
науку мог
быть развит
только человеком,
который
способен был
окинуть
проницательным
взглядом все
главнейшие
сферы производства
и торговли,
механики и
техники,
науки и
философии и
который
понимал, как
в их развитии
отражаются
запросы и
требования
практической
жизни.
Именно
это
преимущество
Бзкона
противопоставило
его взгляд на
науку, на ее
цели и
средства, да
ее связь с
жизнью
общества
взглядам
схоластики.
При этом Бэкон
стоял
настолько
выше своего
окружения,
видел
настолько
дальше
близоруких
схоластиков,
что его
понятия о
науке и
организации
научного
труда в
совершенном
обществе должны
были принять
форму утопии.
Такой утопией
и оказалось
знаменитое
произведение
Бэкона «Новая
Атлантида»
изображение
вымышленного
общества в
Бенсалеме, на
острове
Атлантического
океана.
Как
всякая
утопия, «Новая
Атлантида»
есть
одновременно
и провидение
будущего и
отражение
черт
реального настоящего.
Это те черты,
которые
соединяют
будущее с
настоящим и
которые
впервые делают
возможным
предугадывание
будущего в явлениях
и в формах
современной
жизни. Некоторыми
сторонами
своего
содержания
«Новая Атлантида»
представляет
скорее даже
констатирование
настоящего,
чем
предвосхищение
будущего *. В
ней
изображается
не
социальная система
будущего и
менее всего
социалистический
строй. В ней
изображаются
схваченные с
полной
трезвостью, с
полным
реализмом
черты нарождавшегося
в Англии
капиталистического
общества с
его противо-
361
положностью
между
трудящимся
классом и классом
господствующим,
между
богатством и
бедностью,
господами и
слугами, с
его институтом
частной собственности,
с его
иерархией
правителей и
подданных,
вельмож и
чиновников.
Общественный
строй,
изображенный
в утопии
Бэкона, есть
лишь
идеализация
английской
абсолютной
монархии
времен
Бэкона. Мы
узнаем в нем
и
королевскую
власть, и
парламент, и
церковь,
занимающую
важное место в
жизни
государства,
и
чиновничество
различных
степеней и
рангов.
Если
свести в
цельную
картину
отдельные черты
устройства
бенса-лемского
общества, то
нетрудно
обнаружить в
нем
фантастическое
изображение
и воплощение
политических
форм и
отношений,
которые сам
Бэкон считал
наилучшими и
которые он
рекомендовал,
как наилучшие,
для
современной
ему Англии.
Основная
черта этого
политического
строя совместное
с
парламентом
управление
королевской
власти.
Ничего
принципиально
нового в этом
отношении
«Новая
Атлантида» не
дает. Менее всего
она взывает к
революционному
переустройству
общества.
Утопией
«Новую
Атлантиду»
делает не
воплощенная
в ней
программа
политического
преобразования
общества.
Утопией, т. е.
изображением
приближающегося,
маячащего в
будущем, но
еще не
существующего
в настоящем,
положения
вещей, ее
делает проект
государственной
политики по
отношению к
науке,
проект,
основанный
на понимании
роли науки в
развитии
техники и
жизни общества.
Первая
черта утопии
Бэкона,
представляющая
особый
интерес для
современности,
связь науки,
процветающей
в обществе
Бенсалема, с
производством.
Целью
бенсалемовского
общества
провозглашено
не просто
познание
природы, но
такое
познание,
которое расширяет
власть
человека над
природой.
«Целью нашего
общества,
говорит отец
Соломонова
Дома,
является
познание
причин и
скрытых сил
всех вещей; и
расширение
власти
человека над природой
(and the enlarging of the bounds of human empire),
покуда все не
станет для него
возможным» (2,33).
Однако
условием достижения
этой цели не
может быть
теория, понятая
схоластически.
Познанием
причин и
скрытых сил
природы
предполагается,
по Бэкону,
овладение
производительными
силами
страны, всеми
ее
природными
ресурсами, распоряжение
главными
отраслями
производства
и промышленности.
В утопии
подробно
перечислены
некоторые виды
производства,
процветающие
в Бенсалеме,
расцвет
которых
необходим
для расцвета
науки. С
большой
проницательностью
угадана
Бэконом
связь между
успехами
науки в овладении
силами
природы и
развитием военной
промышленности.
В полном
соответствии
со значением,
какое имели
для развития техники
и науки в
Англии
развитие ее
военного и
торгового
флота, успехи
судоходства и
искусства
кораблевождения,
Бэкон подчеркивает
роль этих
отраслей
производства,
техники и
науки для
государства
Бенсалем.
При этом
требовательность
и
воображение Бэкона
не
удовлетворяются
достижениями
современной
ему и
освоенной в
Англии техники
и науки.
Своим
мысленным
взором он
предвидит
будущие
подводные
корабли,
будущие суда,
способные выдержать
любую бурю на
море, не
повредившись
и не затонув:
«Есть у нас,
рассказывает
член
Соломонова
Дома, и лодки
для плаванья
под водой, и
такие,
которые
выдерживают
бурю; есть
плавательные
пояса и
другие
приспособления,
помогающие
держаться на
воде» (2, 4041).
С
удивительным
даром
предвидения
изображена в
утопии связь
362
между
техникой и
наукой, роль
точных приборов
в познании
природы и в
покорении ее
сил власти
человека,
роль
эксперимента
в- открытии
законов и
явлений
природы.
Особое внимание
Бэкон
обращает на
значение для
науки
разделов
механики и
оптики, а
также
оптической
техники,
оптических
приборов.
Бэкон хорошо
понимает как
роль оптики
телескопической,
так и оптики
микроскопической.
«Есть у нас, говорит
член
Соломонова
Дома,
зрительные приборы,
значительно
превосходящие
ваши очки и
подзорные
трубы. Есть
стекла и
приборы,
позволяющие
отчетливо
рассмотреть
мельчайшие
предметы
как,
например,
форму и окраску
мошек,
червей,
зерен, или
изъяны в драгоценных
камнях,
которые
иначе не
удалось бы обнаружить
и найти в
крови и моче
вещества,
также
невидимые
иными
способами» (2, 39).
Высокий
уровень
эксперимента,
техники и интенсивное
развитие
изобретений
подчиняются
в
государстве
'Бенсалема
служению практической
жизни:
сельскому
хозяйству, промышленности,
медицине,
усовершенствованию
природы
человека. В
предвидениях
Бэкона и мир, окружающий
человека, и
сам человек
непрерывно
преобразуются,
изменяются,
поднимаются
на высшие
ступени
развития.
Во всех
своих
исследованиях
наука, процветающая
в Бенсалеме и
сосредоточенная
в
Соломоновом
Доме, строго
руководится
принципом
искания
одной лишь
истины
неприкрашенной,
чуждой преувеличений,
предельно
реалистической,
адекватной
действительности:
«...нам
настолько ненавистны
всякий обман
и
надувательство,
что всем
членам
нашего
Общества, под
угрозой штрафа
и бесчестья,
запрещено
показывать
какое-либо
природное
явление
приукрашенным
или
преувеличенным;
а только в
чистом виде,
без всякой
таинственности»,
(2, 41).
Но эта
правдивая до
суровости
наука имеет
целью не
только
познавать,
но, познавая,
изменять познаваемую
действительность,
обращать ее
на пользу
человеку,
усиливать ее
полезные
действия и
устранять
или
ослаблять
действия
вредные. Это
преобразующее
мир действие
науки
охватывает у
Бэкона всю
реальность,
начиная от
природы и от
свойств
небесных светил
и кончая
мельчайшими
составными
частицами
тел. «Мы
воспроизводим,
говорит член
Соломонова
Дома, жар
солнца и
других небесных
светил,
который
подвергаем
различным
изменениям,
проводя
через циклы,
усиливая или
уменьшая и
тем достигая
удивительных
результатов»
(2, 38).
Та же
способность
науки
усиливать,
изменять,
перенаправлять
с помощью
техники и с
помощью
опытов
познанные
свойства
природных
тел
проявляется
в физике и в
химии бенсалемцев,
в их
агрикультуре,
в ботанике и
в зоотехнике,
в их медицине.
Так в «домах
света»
бенсалемцев
не только производятся
опыты со
всякого рода
светом и
излучением и
со
всевозможными
цветами: «Мы
умеем также
усиливать
свет, который
передаем на
большие
расстояния и
можем делать
столь ярким,
что при нем
различимы
мельчайшие
точки и
линии» (2, 39).
Ботаника
и зоология
бенсалемцев
вся подчинена
задаче не
только
познавать
свойства
изучаемых
видов, но и
изменять эти
свойства,
устранять
нежелательные
и выводить новые
полезные и
желанные
человеку.
«Там
заставляем
мы деревья цвести
раньше или
позже
положенного
времени,
вырастать и
плодоносить
скорее, нежели
это
наблюдается
в природных
условиях. С помощью
науки мы
достигаем
того, что они
становятся
много пышней,
чем были от
природы, а плоды
их крупнее и
слаще, иного
вкуса, аромата,
цвета и
формы, нежели
природные. А
многим из них
придаем
целебные
свойства» (2, 36).
Тех же
изменений
достигает у
бенсалемцев и
наука о
животных и
человеке. В
особых парках
и
заповедниках
планомерно
ведутся
много-
363
численные
и
разнообразные
опыты над
животными. «С
помощью
науки делаем
мы некоторые виды
животных
крупней, чем
положено их
природе, или,
напротив,
превращаем в
карликов, задерживая
их рост;
делаем их
плодовитее, чем
свойственно
им от
природы, или,
напротив,
бесплодными,
а также
всячески
разнообразим
их природный
цвет, нрав и
строение
тела» (2, 36).
Активное
вмешательство
науки в ход и
порядок
природных
процессов
Бэкон
расширяет до
способности
науки
получать
новые виды животных
с новыми
свойствами:
«Нам известны
способы
случать
различные
виды, отчего
получилось
много новых
пород, и
притом не
бесплодных,
как принято
думать» (2, 36).
Бэкон
сам
подчеркивает
как важную
черту новой
науки
отсутствие
случайности,
беспорядочности
ее
исследований,
экспериментов
и
изобретений:
«И это
получается у
нас, говорит
член
Соломонова
Дома, не случайно,
ибо мы знаем
заранее, из
каких веществ
и соединений
какое
создание
зародится» (2, 36).
Целенаправленность
научного
исследования
неотделима в
представлении
Бэкона от
особых
принципов
организации
их ученого
труда.
Организацией
этой
предполагается
тщательно
разработанное
разделение
научного
исследования.
Под этим
разделением
имеется в
виду не
специализация
труда в
зависимости
от предмета
исследования.
Такая специализация
принимается
как нечто
очевидное и
бесспорное.
Разделение
научного труда,
которое
изображает
Бэкон,
осуществляется
в каждой
предметной
области
независимо
от того, что
исследуется.
Ряд отраслей
специализации
посвящены
собиранию и
сводке
информации
об
исследуемых
предметах, в
том числе их собиранию
в зарубежных
странах.
Особенное
внимание
уделяется
при этом
обогащению науки
неизвестным
ей опытом
механических
наук и
практических
искусств,
другими словами
устранению
разобщенности
теории с практикой.
Другая
отрасль
специализации
производство
оригинальных
опытов,
прокладывающих
новые пути в
науке. Третья
отрасль
специализации
сведение
всего
добытого с
помощью
информации и
с помощью
оригинальных
опытов в
таблицы и
обзоры,
составляющие
основу будущих
обобщений и
законов.
Особая
отрасль специализации
изучает
достижения
науки, на которых
могут быть
основаны
изобретения,
полезные -в
практической
жизни. И,
наконец, в итоге
всех
результатов,
добытых
всеми перечисленными
отраслями
исследования,
возникает наивысшая
из них
разработка
на их основе
наиболее
важных
опытов и
самых
глубоких обобщений
(см. 2, 4142).
Из всего
сказанного
следует, что
верховным
назначением
науки Бэкон
считает
назначение
практическое
и что знание
он отождествляет
с
практическим
могуществом.
В
буржуазной
историкофилософской
литературе
не только
давно
обратили
внимание на
этот взгляд
(Бэкона, но
связали с
ним, вернее
пытались
связать,
некоторые
тенденции, характерные
для
буржуазного
эмпиризма и утилитаризма
XIXXX веков.
Бэкона
считает
одним из
своих
духовных
отцов
новейший
прагматизм, а
также его
современное
ответвление
операционализм.
В книге
«Философия
науки» («Philosophy of Science»)
Филипп Франк,
например,
пишет: «Бэкон
направил
свою книгу
«Новый
Органон» против
работ
Аристотеля
«Органон»,
«Метафизика»
и «Физика», в
которых философ
древней
науки
подчеркивал
роль логических
систем, не
уделяя
достаточного
внимания
роли
«операциональных
определений...»
(7,160).
Сама по
себе идея о
подчинении
знания практической
задаче вовсе
не была
оригинальной
идеей и не
была новой
идеей, введенной
в созна-
364
ние
человечества
Бэконом. Идея
эта воодушевляла
многих
мыслителей XVI
столетия и
даже именно в
этом
столетии
пережила
своеобразный
подъем. Она
выступала в
форме
увлечения
алхимией и
особенно
увлечения
магией.
Бэкон
знал об этом
увлечении;
как ученый,
он
развивался в
его
атмосфере, но
он резко противопоставляет
свой взгляд
на практическую
роль науки
взгляду
сторонников
магии и
алхимии. 'В
сочинении «De dig-nitate
et augmentis soientiarum» («О
достоинстве
и умножении
наук») Бэкон
признает
безусловную
правомерность
практических
целей,
которые
ставят перед
собой эти
науки:
«...натуральная
магия,
поясняет он, имеет
в виду
обратить
философию от
разнообразия
созерцаний к
величию
деяний; а алхимия
берется за
отделение и
извлечение
разнородных
частей
материи,
скрытых и соединенных
между собой в
телах, за
очищение этих
самых тел от
того, что
затруднено в
них и з а
довершение
того, что не
достигло еще
зрелости» (3, I,
кн. I, 129). Бэкон
подчеркивает,
что цель
магии и
алхимии «не
заслуживает
презрения» (3, I,
кн. I, H29). Однако
«пути и
методы, по-видимому,
ведущие к
этой цели,
как в теории,
так и в
практике
этих наук, не
более как масса
заблуждений
и
нелепостей...» (3,
I, кн. I, 129).
Предпосылка
бэконовского
понимания
задач науки
решительное
отрицание
взгляда,
согласно которому
цель науки
будто в одном
лишь созерцании
природы.
«...Если
встретится
человек, говорит
Бэкон,
который из
одного
созерца.ния
природы
чувственных
и
материальных
предметов (ex rerum
sensibilium et materiatarum intuitu) (12, I, 436)
понадеется
извлечь
достаточно
свега для
раскрытия
природы или
божественной
воли, то
человек этот
позволит обольстить
себя суетной
философией» (3, I,
100).
«Мы имеем
намерение,
пояснял
Бэкон,
положить
основы не
какой-либо
секты или системы,
а пользы и
величия
человеческого»
(sed utilitatis et amplitudinis humanae fundamenta moliri) (5, 71; 12, I, 132).
«Мы желаем...
предупредить
всех людей,
чтобы они не
успукали из
виду настоящей
цели .науки, и
убедились бы,
что .не
следует ею
заниматься
ради пустого
времяпровождения
или ради
предмета,
пригодного
для споров,
или ради того,
чтобы
прославить
свое имя, или
ради увеличения
своего
(личного)
могущества,
,или ради
какого бы то
ни было
подобного
повода, но
чтобы
принести
пользу и
приложить ее к
потребностям
жизни» (sed ad meritum et usus vitae) (3, I,
7071; 12, I, 132).
Бэкон
понял, что
свою
практическую
задачу наука
осуществляет
посредством
открытий и
механических
изобретений.
Подлинная и надлежащая
цель наук,
писал Бэко.н
в «Новом
Органоне», не
может быть
иной, чем
наделение
человеческой
жизни новыми
открытиями и
благами. Но
подавляющее
большинство
людей науки,
утверждает
Бэкон,
ничего в этом
не смыслит.
Это большинство
только
профессионалы
и доктринеры,
и лишь иногда
случится, что
мастер с
более острым
умом и желая
славы устремится
к какому-либо
новому
открытию. Это
он совершает
почти с
убытком для
своего достояния.
Таких
«мастеров»,
возвысившихся
до понимания
связи между
успехами
науки и успехами
техники и
изобретательства,
в XVII веке в
странах
Западной
Европы легко
было перечесть
по пальцам.
Они все же
были. Возможно
даже, что их
идеи оказали
некоторое
влияние .на
формирование
взглядов
Бэкона. Таков
был Георгий
Агрикола (1494 1556),
автор
замечательной
работы о
металлах и о
металлургии
(«De Re Metallica», 1556), которая
была,
согласно
оценке Жана
Бодэна (Jean Bodin),
одной из
самых
значительных
книг века (one of the impor-
365
tant books of the age) (14,
11). Таков был также Ваноччьо Бирингуччьо (Vanoccio
Biringuccio), автор
TpaKTaTa«Pirotechnia» (1540). Еще
значительнее
был
трудившийся
во Франции
Бернар
Палисси (Bernard Palis-sy)
(1510-1589), быстро
развившийся
из
ремесленника-гончара
в ученого,
разрабатывавшего
практические
и технические
проблемы
химии,
геологии,
агрикультуры
и
лесоводства.
В литературе*
высказаны обоснованные
догадки о
том, что
Бэкон мог познакомиться
с идеями
Палисси в
молодости во
время
пребывания в
Париже, где в
то время Палисси
читал курс
публичных
лекций.
По-видимому,
уже в это
время у
Бэкона начал
складываться
новый взгляд
на науку,
обессмертивший
его имя и
сообщивший
его идеям
плодотворность
и
проницательность.
Необходимо
со всей
ясностью
понимать, в
чем именно
состояло их
значение.
Бэкон не был
основоположником
ни в каких
специальных
вопросах или
отраслях
науки. Он не
открыл ни
одного из
законов
природы, как
это сделали
Кеплер,
Галилей, Ньютон.
Он не
выдвинул
никакой
новой научной
гипотезы и
даже не
обосновал,
усовершенствовав
ее, никакой
старой, как
это сделали,
(Например,
Гассенди и
Роберт Бойль.
Но он зато
понял как
никто из его
предшественников
и
современников
место и роль
науки в жизни
общества.
Более того. С
этой точки
зрения он
стал
рассматривать
историю
самого общества.
0,н первый
оценил
эпохальное
значение
таких
открытий и
изобретений,
какими
оказались
изобретение
пороха,
печатного
станка и
компаса. В
изображении
Соломонова
Дома в «Новой
Атлантиде» он
развил с замечательной
ясностью и
полнотой
свой идеал
организации
научного
исследования,
основанного на
понимании
роли
механических
искусств и
изобретений,
а также на
понимании
роли коллективной
организации
научных
исследований.
Описание это
произвело
глубокое впечатление
на
современников.
Надежда увидеть
проект
Бэкона
осуществленным
внушила
Хартлибу другу
поэта
Мильтона и
инициатору
земледельческой
реформы
мысль о
приглашении
в Англию
великого
чешского
ученого и
педагога Яна
Амоса
Коменского.
Но только в 1662
году при Карле
IIпроект
Бэкона
получил
частичное признание,
когда особой
хартией была
узаконена
деятельность
королевского
Лондонского
общества для
развития
познания природы
и когда идея
Бэкона
начала
получать весьма
несовершенное
и неполное
осуществление.
В
вопросе о
соотношении
практики и
теории исходным
и
завершающим
понятием для
Бэкона неизменно
была
практика. В
суждениях о
науке практика
выступает у
Бэкона и как
цель и как условие
истины, ее
залог и ее
критерий.
Бэкон
предвидит
возражение
против своего
взгляда. Оно
может быть
сделано теми,
для кого
созерцание
истины
«достойнее и
выше всякой полезности
и величия
дел» (4, I, аф. 124).
Сторонники созерцательного
постижения
истины скажут,
что
длительное и
беспокойное
пребывание
среди опытов
и материи и в
потоках
частных
явлений «как
бы
приковывает
разум к земле
или скорее
низвергает
его в какую-то
преисподнюю
смятения и
замешательства
и отдаляет и
отвращает
его от
безмятежности
и покоя
отвлеченной
мудрости...» (4, I,
аф. 124). Бэкон
охотно
соглашается
с этим
соображением.
Он даже
признает, что
сам
стремится к
тому же. И для
него
созерцание
истины
необходимость,
«ибо мы,
говорит он,
обосновываем
в
человеческом
разуме
образец мира таким,
каков он
оказывается
(exemplar mundi in intellectu humano fundamus quale invenitur), а
не таким, как
подскажет
каждому его
мышление» (9,328).
Однако
условием созерцания
объективной
истины может
быть, по
366
Бэкону,
только
практическое,
активное отношение
ученого к
действительности,
на которую
направлено
его
исследование.
Созерцание
истины
«невозможно
осуществить
иначе, как
рассеканием
мира и
прилеж-нейшим
его анатомированием»
(nisi facta mundi dissectione atque ana-tomia diligentissdma (9, 328).
Само убеждение
в истинности
воззрения
может
возникнуть
лишь на
основе
практического
результата,
который
материализуется
в механическом
изобретении:
«Среди
признаков, говорит
Бэкон, нет
более
верного и
ясного, чем
принесенные
плоды. Ибо
плоды и
практические
изобретения
как бы
поручители и
свидетели
истинности
философии» (4, I,
аф. 73).
Кто
учтет это
значение
практики, для
того, утверждает
Бэкон, истина
совпадает с пользой:
«...истина «
полезность (в
этом случае) совершенно
одни и те же
вещи (itaque ipsissimae res sunt (in hoc genere)
Veritas et utilitas)» (9,329).
Особенно
важным
свойством
истины Бэкон
считает то,
что, будучи
глубоко
запрятана в тайниках
вещей, истина
открывается
не в простом
опыте, основанном
на
созерцательном
наблюдении, а
только в
опыте
активном,
предполагающем
прямое
воздействие
созданных
человеком
орудий и
искусств на
природу:
«...скрытое в
природе, говорит
Бэкон, более
открывается,
когда оно
подвергается
воздействию
механических
искусств, чем
тогда, когда
оно идет
своим чередом
(4, I, аф. 98; 9,304).
Это
обусловливающее
значение
практики, которая
служит
«залогом»
(критерием)
истинности
знания, не
было, однако,
до сих пор
так полагает
Бэкон
понято и
признано.
Созерцательный,
и только
созерцательный,
характер
доселешней
науки имел
следствием
недостоверность
и неточность
ее
исследований,
особенно в
естествознании:
«Ничего мы не
находим в
естественной
истории,
жалуется
Бэкон,
должным образом
разведанного,
проверенного,
сосчитанного,
взвешенного
и
измеренного
(nil debilis modis exquisitum, nil verificatum, nil numeratum, nil appersum,
nil dimensum in naturali historia reperitur)» (9, 303).
Ввиду
охарактеризованного
им положения вещей,
реформа
науки и
философии,
задуманная
Бэконом, своей
первой
задачей
ставит
устранить
разделенность
теории и
практики,
соединить созерцание
с действием,
теорию с
практикой. «Если
существует
средство,
говорит
Бэкон, окружить
почетом
науку и
поднять ее во
мнении людей,
то оно
бесспорно
состоит в
том, чтобы
соединить в
более тесный
союз, чем это
делалось до
сих пор,
созерцание с
деятельностью
союз,
который
совершенно
походил бы на
тот, который
существует
между двумя
верхними
планетами,
когда Сатурн,
управляющий
покоем и
созерцанием,
встречается
с Юпитером,
заправляющим
практикой и
деятельностью
(3, I, кн. I, 136137).
Но тезис
о
необходимости
более
тесного, чем
доныне, союза
между
теорией и
практикой требовал
дальнейших
разъяснений.
Бэкон развил
эти
разъяснения
в обоих своих
главных
трудах в
трактате «О достоинстве
и об
умножении
наук» («De dignitate et augmentis scientia-rum)»
и в «Новом
Органоне» («Novum Organum»).
Хотя
последней
задачей,
согласно его
мысли, надо
признать
соединение
теории с
практикой,
предварительным
необходимым
условием
этого соединения
Бэкон
считает
четкое
различение обеих.
«...Мы разделим
науку о
природе,
поясняет он,
на
исследование
причин и на
производство
результатов,
на
теоретическую
и практическую.
Одна роется в
недрах
природы, другая
кует ее, так
сказать, на
наковальне.
Мне небезызвестна,
продолжает
он, тесная
связь между
двумя этими
предметами,
причиной и
следствием; я
знаю, что
нередко
приходится
367
соединять
вместе
объяснение
той и другого.
Тем не менее...
всякая
натуральная
философия (то
есть
естествознание),
прочная и
плодотворная,
употребляет
двоякую лестницу,
а именно
восходящую и
нисходящую,
из коих одна
подымается
от
наблюдения к
истине, а
другая
нисходит от
истины к
новым открытиям...»
(3, I, кн. III, 246) *.
Поэтому, продолжает
он, «нам
кажется
весьма
уместным разделение
этих двух
частей,
теории и
практики...» (3, I,
кн. III, 246).
Необходимость
этого
разделения
Бэкон выводит
из
соотношения,
существующего
между
теорией и
практикой.
Соотношение
это таково,
что
последняя и
важнейшая
практическая
задача науки
увеличение
могущества
человека
может быть решена
только при
условии, если
действие, направленное
на
практическую
цель, будет
само
опираться на
истинную
теорию.
Поэтому для
механических
искусств с их
изображениями
основой
должно стать
естествознание.
«Пусть никто
не ждет от
наук,
восклицает
Бэкон, большого
движения
вперед,
особенно в их
действенной
части (praesertim in parte earum operativa),
если
естественная
философия не
будет
доведена до
отдельных наук,
или же если
отдельные
науки не
будут
возвращены к
естественной
философии» (9, 276).
Мысль эту
Бэкон
лапидарно
выразил в 4-м
афоризме 2-й
части «Нового
Органона»:
«...что в
действии
наиболее полезно,
то и в знании
наиболее
истинно (...et quod in operando utilissimum,
id in sciendo verissimum)» (9,276).
Афористическая
сжатость
этой
формулировки
была не раз
использована
зарубежными буржуазными
гносеологами
и историками
философии
для
истолкования
ее в духе
плоского
утилитаризма
и
прагматизма:
из нее выводили
тождество
истинности с
пользой. Но
стоит только
рассмотреть
эту формулу,
какой она
дана у Бэкона
во всем ее
контексте, и
тотчас ясным
становится,
что для
Бэкона,
напротив, не
непосредственной
пользой
определяется
истина, а истинностью
знания
определяется
возможная
польза
знания.
Уже
приступая к
изложению
своего
учения о причинности,
Бэкон
предлагает
точно различать
теоретическое
исследование
причин и
практическое
получение
следствий из
познанных
причин. «...Мы
разделили,
говорит он, натуральную
философию на
исследование
причин и на
производство
следствий» (3, I,
кн. III, 250).
Разделение
это
необходимо,
так как без
знания и до
знания
причин
невозможно
извлечение
практически
ценных
результатов.
Предел
практическому
действию кладут
свойства
природы и
природных
вещей,
несовместимые
с желанным
результатом. Поэтому
отношение
человека к
природе должно
быть
одновременно
и активным и
отношением
покорности,
повиновения
природе и ее законам.
Оно активно
поскольку из
познания
причин может
быть
выведено
практически полезное
действие,
значительно
усиливающее
обычное
могущество
человека. И
оно есть
отношение
повиновения
поскольку
выведено
может быть
только то
действие,
которое
согласуется
с законами
природы и
которое на
них опирается.
В
знаменитом
месте
«Предисловия»
к трактату «De dignitate
et augmentis scientiarum» мысль
эта выражена
не только со
всей
полнотой и
точностью, но
и в форме, которая
придает ей
лапидарный
характер: «...человек,
читаем мы
здесь, слуга
и толкователь
природы (naturae minister et
interpres) получает и
осуществляет
свои замыслы
насколько он
умеет делать
открытия в
порядке
природы как
посредством
наблюдения,
так и трудолюбием,
он не знает и
не может
ничего
больше, ибо
нет силы,
которая
могла бы
ослабить или разбить
цепь причин;
ибо природа
побеждается
только тем,
что ей
повинуются (neque
natura aliter quam parendo vicitur) (12, I, 144), поэтому
обе эти цели
наука
368
и
могущество
человека
вполне
совпадают в одних
и тех же
точках; а
если
ускользают
результаты,
то по
незнанию
причин» (et frustratio operum maxime fit ex
ignoratione) (12, I, 144).
Бэкон не
жалеет
усилий на
разъяснение
этого
отношения
между
практикой и
теорией, между
выведением
практических
следствий и необходимым
для этого
теоретическим
познанием
причин.
Понятие о
расширении
власти
человека над
природой
всегда
становится у
него в
зависимости
от
теоретического
познания
причин. Как
задуманная п
о-следняя цель
знания,
расширение
практической
власти
предшествует
у Бэкона
теоретическому
познанию. Но
как задача
осуществленная,
доведенная до
реализации,
оно есть
всегда
результат, всегда
следствие
этого
познания.
Именно в этом
смысле,
характеризуя
задачи
общества, изображенного
в «Новой
Атлантиде»,
Бэкон пояснял:
«Целью нашего
общества
является познание
причин и
скрытых сил
всех вещей (the knowledge
of causes and secret motions of things) и
расширение
власти
человека над природой
покуда все
не станет для
него возможным»
(13, 205).
Тезис о
соотношении
практики и
теории центральная
и
определяющая
мысль учения
Бэкона о
науке. Печать
этой мысли
лежит на ряде
других
основных
учений Бэкона:
на его
понимании
метода, на
понимании опыта,
на понимании
отношения
между эмпирическим
и
рациональным
в знании, на
учении о
«формах».
Во всех
этих учениях
Бэкон
предлагает
отличать
практические
действия,
практически
полезные
результаты
от теоретически
познаваемого
порядка
природы,
который
указывает
путь к этим
действиям и
впервые
делает их
вообще
возможными.
Так, в учении
о методе,
опираясь на
мысль о
зависимости практических
следствий от
теоретического
исследования,
Бэкон
преодолел
чисто
эмпирическое
понимание
метода как
одностороннего,
не
регулируемого
теорией
движения от
практики к
практике, от
опытов к
опытам. «Наш
путь и наш
метод,
пояснял он,
...состоит в
следующем: мы
извлекаем не
практику из
практики и не
опыты из
опытов (nоn opera ex eperibus sive
experimenta ex experimen-tis) подобно
эмпирикам, но
(извлекаем)
причины и
аксиомы из практики
и опытов, и из
причин и
аксиом снова
практику и
опыты...» (9, 320).
Правильно
понятое
соотношение
теории и практики
проливает
новый свет на
само понятие об
опытах.
Понятие об
этом
соотношении
резко
отделяет
Бэкона, с
одной
стороны, от
эмпириков
его эпохи, с
другой от
представителей
современной
ему
натуральной
магии и алхимии.
Против тех и
других Бэкон
выдвигает различие
между
опытами
плодоносными
(experimenta fructifera) и опытами
светоносными
(experimenta lucifera).
Господствующая,
по
наблюдению
Бэкона,
практика
механических
опытов есть
практика
опытов
плодоносных.
Так называет
Бэкон опыты,
задуманные и
проводимые в
целях
непосредственной
пользы,
непосредственного
практического
результата, к
которому они
могут
приводить.
«Всякое
усердие в
опытах,
писал Бэкон в
«Предисловии»
к «Новому
Органону,
всегда с самого
начала с
преждевременной
и неуместной торопливостью
устремлялось
на
какие-нибудь
заранее намеченные
практические
приложения;
оно искало,
хочу я
сказать,
плодоносных,
а не светоносных
опытов» (10,00). Так,
механик
обычно
«никоим образом
не заботится
об
исследовании,
а устремляет
усилия
разума и руки
только на то,
чему служит
его работа» (9, I, aph.
99). Он
прилагает свои
опыты «к тому,
чтобы
осуществить
какое-либо
дело» (9, I, aph. 99). В
самом
изобилии
механических
опытов
обнаруживается
«величайший
369
недостаток
таких опытов,
которые
более всего
содействуют
и помогают
осведомлению
разума» (9, I, aph. 99).
Это
упование на
всесильную
мощь опыта и
практики, не
освещенных
лучами
теоретического
исследования,
Бэкон
считает
ошибочным и
необоснованным.
Он возражает
вовсе не против
того, чтобы
подчинить
изобретение,
искусство и
практику
заранее
обдуманному
плану, лишить
их характера
случайности,
неожиданности
и
непредвиденности.
Он сам с большой
силой
воодушевления
заявил, что хочет
освободить
изобретение
от господства
случайности,
добиться
того, чтобы
впредь люди
не просто
находили, а
изобретали
согласно заранее
обдуманному
плану и
повинуясь
осознанной
потребности.
В «Cogilata et Visa»
первоначальном
очерке
«Нового
Органона»,
Бэкон сам
писал, что
случай,
который был
доселе
автором изобретений,
должен стать
намерением;
то, что до сих
пор было
«случаем» (casus),
должно
отныне
оказаться
«искусством» (ars).
«Ибо случай
действует
редко, поздно
и
спорадически;
напротив,
искусство
постоянно,
наикратчайшим
путем и в
массовых
масштабах» (11, 594).
Таким
образом,
возражения
Бэкона менее
всего
направлены
против подчинения
теоретического
исследования
практической
цели, а самой
практики,
опыта, изобретательства
целемерности,
наперед обдуманному
плану. Но
Бэкон
настаивает
на том, что
условием
возможности
опыта, целесообразно
направленного
и
подчиненного
верховным практическим
задачам
знания,
всегда является
предварительное
теоретическое
исследование.
Такое
исследование
руководится
интересом к
теоретическому
познанию, но никак
не
непосредственно
практическим
интересом.
«Надежду на
дальнейшее
движение
наук вперед,
поясняет
Бэкон,
только тогда
можно хорошо
обосновать,
когда
естественная
история
получит и
соберет
многочисленные
опыты,
которые сами
по себе не
приносят
пользы, но
содействуют
открытию
причин и
аксиом» (9, I, aph. 99).
Эти опыты
Бэкон
называет
светоносными
в отличие от
плодоносных.
И он
поясняет, что
светоносные
опыты
содержат в
себе
замечательную
силу и
способность,
именно
никогда не
обманывают и
не
разочаровывают:
«Ибо, приложенные
не к тому,
чтобы
осуществить
какое-либо
дело, но для
того, чтобы
открыть в
чем-либо
естественную
причину, они,
каков бы ни был
их исход,
равным
образом
удовлетворяют
стремление,
так как
полагают
конец вопросу»
(9, I, aph. 99). И
действительно,
по Бэкону,
хорошо проведенное
и
определенное
познание
первых
сущностей
есть «как бы
свет» (9, I, aph. 121). Оно
«открывает
доступ к
самым
глубинам практических
приложений,
могущественно
охватывает и
влечет за
собой все
колонны и войска
этих
приложений и
открывает
нам истоки
замечательных
аксиом, хотя само
по себе (т. е.
непосредственно.
В. А.) оно не
столь
полезно» (9, I, aph. 121).
Светоносные
опыты
подобны
семенам
вещей.
«Сильные
своими возможностями»,
они
«совершенно
не могут быть
использованы,
кроме как в
своем
развитии» (9, I, aph. 121).
Сказанным
определяется
отношение к
теоретическим
исследованиям,
которые
ведет
естествознание.
От этих
исследований
нельзя и
неразумно
требовать
непосредственной
пользы, немедленной
способности
указать
практически
полезное
применение.
Практическая
жатва наук
есть их цель,
но эта «жатва»
может быть и
должна быть
своевременной.
«Мы не
хватаем
по-детски (pueriliter) золотые
яблоки,
говорит
Бэкон, но всё
возлагаем на
победу науки
над природой,
и не спешим
снять посев в
зеленых
всходах, а
ждем своевременной
жатвы (sed messem tempestivam expectamus)» (9, I,
aph. 117).
Успешность
светоносных
опытов
обусловлена
той
«покорностью»
370
природе,
которая есть
условие
победы над природой.
Здесь
«покорность»
означает то
же, что
совершенная
объективность
исследования,
исключение
всех помех,
обусловленных
вторжением
субъективности.
«...Когда ум
человеческий,
говорит
Бэкон,
работает над
каким-нибудь
материалом...
то его работа
направляется
этим самым
материалом,
указывающим
ему и
пределы, и конец;
но когда он
обращается к
самому себе,
подобно
пауку,
плетущему
паутину из собственного
своего
существа,
тогда нет конца
его работе, и
он плетет
какую-нибудь
научную
ткань,
бесспорно
удивительную
по тонине
нити и по
тонкости
работы, но
совершенно
пустую и ни
на что не
пригодную» (3, I,
кн. I, 125).
В центре
наук,
осуществляющих
объективное
познание
природы с его
«светоносными»
опытами,
Бэкон ставит
естествознание,
«естественную
историю» (historia naturalis).
«Именно она,
утверждает
Бэкон,
должна
почитаться
великой
матерью наук.
Ибо все науки
и искусства,
оторванные
от ее ствола,
хотя и могут
быть
обработаны и
приспособлены
для практики,
но совсем не
растут» (9, I, aph. 79).
Естествознание
не только
стремится к
адекватному
объективному
познанию
природы, оно
его
действительно
добывает.
Такое
познание,
составляющее
условие всех
наших
успешных
практических
действий,
возможно.
«Бог, без
сомнения,
замечает
Бэкон, не допустил
бы, чтобы мы
выдавали за
верную копию
мира простую
мечту нашего
воображения
(ut phantasiae nostrae somnium pro exemplari mun-di edamus)» (12, I, 144).
Препятствие
к
объективному
познанию мира
отнюдь не
непознаваемость
самой природы,
но только
искаженные
образы («виды»,
idola) вещей,
коренящиеся
в пороках и
склонностях
нашей
субъективности.
Все
знаменитое
учение Бэкона
о так
называемых
«идолах» есть
не что иное,
как исследование
условий,
породивших
ложные образы
в нашей
субъективности
будет ли это
субъективность
в широком
смысле (idola tribus, idola fori, idola
theatri) или в более
узком смысле
(idola spe-cus).
Задача
объективного
познания
трудна, но в
принципе разрешима.
В трактате «О
достоинстве
и об умножении
наук»
Соломон, чье
учение здесь
интерпретируется,
ясно дает
понять, что
бог «дал человеку
душу,
подобную
зеркалу,
способную отражать
целый мир (innuit Deum
fabri-catum esse animum humanum insta speculi totius mundi Capacern),
так же
жаждущую
знания, как
глаз жаждет
света» (12, I, 00).
«Настоящая
философия,
разъясняется
в другом
месте, ...верно
передает слова
самого мира и
как бы
записана под
его диктовку
(veluti dictante mundo conscripta est); и она
есть не что
иное, как его
подобие и
отражение (et nihil aliud
est quam ejusdam simulacrum et reflexio); и она
не
прибавляет к нему
ничего от
себя самой,
но лишь
повторяет и
отражает тот
же звук (neque addit quicquam do proprio,
sed tantum iterat et resonat)» (12, I, 530).
Трудность
познания не
в том, что
истина недоступна
человеку, а в
том, что
овладение ею
затруднено
свойствами
нашей
восприимчивости
и нашего ума.
Предоставленные
собственным
показаниям и
не
исправленные
по
руководству
правильного
метода, органы
внешних
чувств не
дают нам
надежного
познания,
соответственно
предмету. «Не
подлежит
сомнению,
говорит
Бэкон, что
эти органы могут
заблуждаться...
Органы
чувств
делают двоякого
рода ошибки;
они
оказываются
или недостаточны,
или
обманчивы... в
первом
случае
бесчисленное
множество
предметов
ускользает
[даже] от
органов
чувств,
правильно устроенных
и не
встречавших
в своей
деятельности
никаких
препятствий,
и это
вследствие:
либо
огромного
расстояния,
либо крайней
медлецнос-
371
ти или
быстроты
движения,
либо слишком
частой
встречи
предмета,
либо
какой-нибудь
другой
причины» (12, I, 138).
Но это не
все.
Ненадежность
органов
чувств порождается
не только
неблагоприятностью
условий и
ситуаций, в
которых им
приходится
функционировать.
Существует
более
глубокая
причина этой
ненадежности.
Даже если орган
чувств
достигает
своего
предмета, «на
ощущения
его, говорит
Бэкон, менее
всего можно
положиться;
ибо
свидетельство
и указание
органа
чувств,
утверждает
Бэкон, дает только
отношение к
человеку, а
не отношение
к вселенной (nam
testimonium et informatio sensus semper est ex analogia hominis, non ex
analogia uni-versi)» (12, I, 138);
«воображать
же, что
чувство
может быть
критерием
вещей, есть
грубое
заблуждение
(atque magno prorsus errore asseritur, sensum esse mensuram rerum)» (12, I,
138).
Но и ум,
взятый сам по
себе и
лишенный
корректирующей
деятельности
чувств и
руководства
правильным
методом, не
есть, по
Бэкону,
точное
зеркало
вещей.
Эта
характеристика
ума резко и
определительно
высказана в
трактате «De dignitate et
augmentis scientiarum». «Ум человеческий,
читаем мы
здесь,
заслоненный
и
заволоченный
телом, вместо
того, чтобы походить
на гладкое и
отменно
выполированное
зеркало,
отражает
одни только
призраки» (3, I, 370).
С этой
характеристикой
ума стоит в
самой тесной
связи вся
бэко-новская
теория ложных
образов
вещей
(«призраков»).
Самым
недвусмысленным
образом
Бэкон дает
здесь понять,
что речь идет
не о каких-то
случайно
возникающих
иллюзиях, но
об ошибках,
обусловленных
свойствами
самого ума.
«Что
касается, поясняет
Бэкон, до
критического
исследования
образов или
призраков (idola),
то не подлежит
сомнению, что
эти призраки
представляют
самые
глубокие
самообольщения
человеческого
ума; действие
их состоит,
продолжает
Бэкон, не
только в
обмане,
подобно,
прочим иллюзиям,
на том или
другом
пункте, путем
затемнения
ума и
расставления
ему сетей;
они обманывают
еще в силу
самого
состояния ума
до суждения и
(в силу) его
порочного
устройства,
так сказать
стремящегося
исказить и
извратить
первый
взгляд на
предметы» (3, I, 370).
Человеческий
интеллект,
как его
понимает Бэкон,
«не холодный
свет, его
питают воля и
чувства (intellectus humanus...
recipit infusio-nem a voluntate et affectibus) (9, I, aph. 49), а в
науке это
внушает
каждому то,
что ему
желательно:
человек скорее
верит в
истинность
того, что
предпочитает
(quod enim mavult homo verum esse, id potius credit)» (9, I, aph. 49).
Устремленный
по самой своей
природе (propter naturam propriam)
к
отвлеченному
(ad abstracta) человеческий
интеллект
«текучее
воображает
как
постоянное (ed,
quae fluxa sunt, fungit esse constantia)» (9, I, aph, 51).
Только
на
поверхностный
взгляд могло
бы показаться,
будто все эти
утверждения
клонят мысль
Бэкона к
скептицизму.
Философия Бэкона
не есть
учение,
отрицающее
способность
человеческого
ума к
отражению, к
познанию
объективной
истины.
Напротив, чем
значительнее
препятствия,
стоящие на
пути к
объективному
познанию, чем
глубже они
укоренены в
характере
самих чувств
и самого ума,
тем повелительнее,
тем
непреложнее
возникает, по
Бэкону, перед
человеком
задача
преодолеть
эти препятствия
и указать
метод,
ведущий к
познанию
природы
такой, какова
она есть сама
по себе,
независимо
от нашей
субъективности,
от нашей
непосредственной
пользы, от
наших дезидерат.
Философия
Бэкона
направлена
на устранение
существовавшего
в науке разрыва
между
практической
целенаправленностью
и теоретиче-
372
с кой
«бескорыстностью»
познания,
между действием
и отражением
реальности в
уме действующего,
между
эмпирическим
и рациональным.
О
необходимости
синтеза между
эмпирическим
и
рациональным
Бэкон говорит
не только в
знаменитом
месте, где он
сравнивает
работу
эмпирика с
поведением муравья,
работу
рационалиста
с
поведением паука
и работу
истинного
философа и
ученого с поведением
пчелы. С
гораздо
большей
принципиальной
ясностью он
говорит о
необходимости
этого
синтеза в
Предисловии
к трактату «О
достоинстве
и умножении
наук». «Мы
надеемся,
говорит он,
примирить
навсегда, и
столь же
прочно, как и
законно,
эмпирическую
способность
с
рациональной
(inter empiricam et rationalem facultatem... conjugium verum et legiti-mum in
perpetuum nos firmasse existimamus)) (12, I, 131).
Бэкон
вовсе не был
эмпириком в
смысле буржуазного
эмпиризма XIX
века.
Несомненно
воззрения
Бэкона многократно
пытались
сблизить с
воззрениями последующего
эмпиризма, но
это
доказывает
вовсе не то,
кем был сам
Бэкон, а то,
кем его хотели
бы видеть
буржуазные
утилитаристы,
эмпирики и
прагматисты.
Научное
мышление Бэкон
понимал как
приложение
рациональных
операций и
методов
мышления к
чувственным
данным опыта.
Так толковал
его метод
Маркс. Бэкон
порицал
поспешность
и
небрежность
некоторых
древних
писателей,
которые,
рассуждая и
созерцая
слишком
односторонним
взглядом
память,
воображение
и разум,
«упускали из
виду
мыслящую
силу,
играющую,
согласно его
мысли,
главную роль»
(3, I, 221). «Ибо
вспоминать,
разъяснял
он, или даже
удерживать
что-либо в памяти
значит
мыслить,
воображать
тоже значит
мыслить,
рассуждать
опять-таки
значит мыслить»
(3, I, 221).
В союзе эмпирической
способности
с
рациональной
Бэкон видел
одно из
важнейших
условий найденного
им в его
время нового
и только для нашего
времени
совершенно
понятного
соотношения
между
практикой и
теорией в
науке.
Мыслью
об этом
соотношении
пронизано
также одно из
важнейших
учений
философии
Бэкона учение
о «форма х».
Подобно тому
как в учении
о причинности
Бэкон
отличал
практически
значимое
действие от
вызывающей
это действие и
теоретически
постигаемой
причины, так
и в учении о
«формах» он
предложил
отличать формы,
как
основание
знания, от
форм, как
оснований
практической
деятельности.
Как во
всей науке в
целом, так и в
исследовании
форм
последней
высшей
целью и
задачей
является
практическая
приложимость,
точнее
практическая
действенность
постигаемых
наукой форм.
По Бэкону,
формы
«составляют
настоящий предмет
науки» (3, I, 269).
«...Кому
известна
форма,говорит
он, тому
известна и
высшая
степень возможности
ввести
данное
свойство во
всякого рода
материю, и он
так же мало
стеснен в своих
действиях,
как относительно
такого-то
материального
основания,
так и
относительно
такого-то
условия действующей
причины» (3, I, 273).
Однако
осуществить
свое
значение
источника,
порождающего
практически
эффективное
действие,
формы могут
только
будучи формами
познанными,
формами
открытыми.
«По моему
мнению,-
пояснял Бэкон,
весьма
трудно
достигнуть
какого-либо
коренного
преобразования
природы,
создать что-либо
вполне
новое, как
при
содействии какой-либо
счастливой
случайности,
так и ощупью,
путем опыта,
или [даже]
руководствуясь
физическими
законами;
этой цели
можно достигнуть
только
открытием
форм» (3, I, 279).
Под
формой Бэкон
разумеет
закон,
сообразно с
которым
отдель-
373
ные тела,
из которых
только и
состоит
природа,
осуществляют
отдельные
чистые
действия (actus puros individuos)
(см. 9, II, aph. 2). Для
наук этот
закон с его
отысканием,
открытием и
объяснением
имеет то
значение, что
«служит
основанием
как знанию,
так и деятельности»
(9, II, aph. 2). По
разъяснению
Бэкона, именно
этот закон он
разумеет под
названием форм
(см. 9, II, aph. 2).
Познание
форм
наиболее
обобщенное познание,
из которого
может быть
выведено познание
действий.
Именно
возможность
этого
выведения,
этого
перехода к
действию делает
познание
форм более
глубоким
видом познания,
чем познание
действующего
начала и
материальной
причины. «Кто
знает,
говорит
Бэкон,
только
действующее
начало и
материальную
причину... тот
может
достигнуть
новых
открытий в
отношении
материи, до некоторой
степени
подобной и
подготовленной,
но [он] не
затронет
глубже
заложенные
пределы
вещей (sed rerum terminos altius fuxos non
movet)» (9, II, aph. 3).
Напротив,
тот, «кто знает
формы, тот
охватывает
единство
природы в
несходных
материях» (9, II, aph. 3).
Истинная
форма
«такова, что
она выводит
данную
природу (например,
теплоту) из
источника
какой-либо
сущности,
которая пребывает
во многом и,
как говорят,
более известна
природе, чем
сама форма» (9, II, aph
3).
Итак,
осуществление
эффективных
практических
действий
предполагает
теоретическое
познание
порождающих
эти действия
форм.
Рассматриваемые
в познании
раздельно, форма
и ее действие
неразрывны в
самой действительности.
И если для
успешности
действия их
необходимо
разделять, то
так бывает только
в отвлечении,
конкретно же
они слиты. «Когда
мы говорим о
формах,
поясняет
Бэкон, то мы
понимаем под
этим не что
иное, как те законы
и
определения
чистого
действия, которые
создают
какую-либо
простую
природу, например
теплоту,
свет, вес во
всевозможных
материях и
воспринимающих
их предметах.
Итак, одно и
то же есть
форма тепла
или форма
света и закон
тепла или
закон света.
Мы никогда не
отвлекаемся
и не отходим
от самих вещей
и от
практики» (9, II, aph. 17).
Утверждения
эти
знаменательны.
В них не только
выражена
мысль о
практической
цели знания и
о единстве рассмотрения,
связывающего
эффективное
практическое
действие с
его теоретическим
основанием. В
них, кроме
того,
подчеркнут
материалистический
характер
учения
Бэкона о
соотношении
практики с
теорией. В
учении этом
Бэкон такой
же
материалист,
как и в
корпускулярном
учении о
частицах, из
которых, по
его
воззрению,
складываются
тела природы.
V.
КЛАССИФИКАЦИЯ
НАУК
Вопрос о
задаче
знания
неотделим у
Бэкона от его
классификации
н а у к.
Классификация
эта
подлинная
энциклопедия
современного
Бэкону
знания и
искусства.
Она обнимает
философию,
специальные
науки и даже
художественную
литературу.
Бэкон не
был первым
философом,
задавшимся целью
создать
классификацию
знания, описать
«интеллектуальный
мир» (globus intel-lectualis). Из
древних философов
такую
классификацию
пытались построить
Платон и
особенно
Аристотель.
От этих
попыток
попытка
Бэкона
отличается
двумя
важными
чертами: 1)
полнотой и 2)
принципом
классификации.
Энциклопедия
наук Бэкона
несравненно
шире систем
классификации,
выработанных
его
предшественниками
в античной
философии.
Она обнимает
возможно
большее
число наук
философских
и
специальных,
о природе и о
человеке.
Насколько
полна
классификация
Бэкона, можно
судить по
такому факту.
Когда французские
энциклопедисты
приступили в
середине XVIII
века, век с
четвертью
после Бэкона,
к построению
собственной
системы, они
полностью
повторили
классификацию
наук Бэкона,
сделав к ней
самые
незначительные
добавления.
Во-вторых,
энциклопедия
Бэкона
отличается
от
энциклопедий
античных
философов
самим
принципом
распределения
материала. Античные
классификации
принимали за
основу деления
наук
различия
между
предметами
знания. Сила
и
преимущество
этих
классификаций
в том, что
весь мир наук
распределялся
в них по
рубрикам в
зависимости
от
объективного
признака от
различий,
лежащих в
самих предметах
познания.
Однако эта
объективность
оставалась
созерцательной:
предметные
различия
брались
такими,
какими они
оказывались
для
непосредственного
созерцания.
В
отличие от
этого
принципа
деления,
Бэкон выдвинул
другой,
основывающийся
на различиях
не по предмету
знания, а по
познавательным
способностям,
при помощи
которых эти
предметы
постигаются,
иначе,на
различиях в
интеллектуальных
способностях.
При этом,
однако, для
Бэкона эти
познавательные
способности
не чисто
личные, или
субъективные.
Субъективность
принципа
классификации
наук Бэкона
кажущаяся.
Различные
«способности»,
на которых Бэкон
основывает
различия
между
науками, различные
методы
познания,
различные
средства, с
помощью
которых
общечеловече-
375
ское
познание
овладевает
своими
различными предметами.
Классификация
Бэкона
основывается
на
активности
человеческого
познания. В
ней
различные
познавательные
способности
только
различные
формы и
проявления
этой
активности.
Способности
эти1) память, 2)
воображение
и 3) рассудок,
или мышление.
Каждой из
этих трех
способностей
соответствует
особая
группа наук.
А именно:
памяти соответствует
группа
исторических
наук, или история
в широком
смысле;
воображению
соответствует
поэзия с ее
различными
видами, или
родами; и,
наконец,
рассудку
(мышлению) соответствует
наука в
собственном
значении этого
слова.
История,
как видно из
сказанного,
есть описание
зримой
природы и
человеческого
сознания,
достигаемое
с помощью
восприятия и
с помощью
явлений,
сохраненных
в памяти. Вся огромная
область
исторического
познания
делится на
две части: на
«естественную
историю» (historia naturalis) и
на
«гражданскую
историю» (historia civilis).
Естественная
история
исследует и
описывает
естественные
явления, или
явления природы.
Гражданская
история
исследует
явления
человеческой
жизни и
человеческого
сознания.
Каждая
из обеих этих
ветвей
«истории», в
свою очередь,
делится на
подчиненные
ей части ее
объема. В
естественной
истории это 1)
часть,
исследующая
нормальные
процессы
природы; 2)
часть,
исследующая
аномалии
природы, т. е.
отклонения
ее явлений от
правильного
течения, и 3)
часть,
исследующая
искусственные
явления. Так
называются
явления
природы, созданные
человеком в
его
собственных
интересах, в
виду его
пользы,
могущества,
наслаждения.
В
гражданской
истории
Бэкон
выделяет не
только общую
историю
жизни
человека, но
также
предлагает
различать,
как части гражданской
истории, ист
ор и ю
литературы и
историю
философии.
Науки эти
отсутствовали
в
современной
Бэкону
системе
классификации
знания. В них
Бэкон видит
отражение природы
и жизни в
сознании
человека.
Разъясняя
задачи и
содержание
этих наук, Бэкон
подчеркивает,
что их
основание в
памяти
ничуть не
должно
обусловливать
субъективности
исторического
знания. Как
раз наоборот.
В истории
мысль
исследователя
не должна
уступать стремлению
обрисовать
ход
изучаемых
исторических
процессов и
событий
соответственно
собственным
взглядам и
излюбленным
склонностям:
историческая
мысль должна
заставлять
говорить
самые факты.
Если
история есть
отражение
мира в памяти
человечества,
то поэзия есть
отражение
бытия в
воображении.
Поэзия отображает
жизнь не
такой, какова
она есть, но
соответственно
с желаниями
человеческого
сердца. Это
понимание
поэзии
приводит Бэкона
к выводу,
который на
первый
взгляд кажется
крайне
странным, но
который
закономерно
вытекает из
его
определений.
А именно:
Бэкон
исключает из
области
поэзии всю
лирику. Согласно
его
определению,
лирика не
выражает
того, что
желательно
сердцу
человека. Лирика
выражает то,
что есть
действительные
чувства и
мысли поэта.
Область
лирики действительные
факты
человеческого
сознания;
лирика
представляет
мысли и
чувства человека
такими, как
они
существуют. А
так как
поэзия
говорит, по
Бэкону, не о
том, что есть,
а о том, что
желательно,
то лирика
принадлежит
не к области
поэзии, а
скорее к области
риторики и
философии.
Исключив
из сферы
поэзии
лирику, Бэкон
делит весь
род поэзии на
три вида: на
эпос, драму и
аллегорик о-д
идактическую
поэзию.
376
Эпическая
поэзия
подражает в
своем повествовании
истории.
Драматическая
поэзия представляет
события, лица
и их действия
так, как если
бы они происходили
на глазах у
зрителей.
Аллегори-к о-д
идактическая
поэзия
представляет
события и
лица
посредством
символов.
Для
Бэкона
чрезвычайно
характерно,
что ценность
видов поэзии
он ставит в
зависимость
от их практической
действенности.
С этой точки
зрения
высшим видом
поэзии он
считает не
эпос и не
драму, а
поэзию
аллегорико-дидактическую,
как наиболее
назидательную,
наиболее
способную
воспитывать
человека.
Такова
вторая
группа
знаний
группа знаний
художественных,
или поэзия.
Наиболее
разработана
в системе
классификации
Бэкона
классификация
третьей группы
наук,
опирающихся
на рассудок.
В нем Бэкон
видит высшую
из
умственных
деятельностей
человека.
Хотя все
науки этой
группы объединяются
в единый род
тем, что они
все
опираются на
рассудок, т. е.
относятся к
мыслительной
функции,
распределяются
они на виды в
зависимости
от различий
между их
предметами. А
именно:
рассудочное
познание
может быть
познанием: 1)
или бога; 2) или
нас самих; 3)
или природы.
Этим трем различным
видам
предметов
рассудочного
познания
соответствуют
три
совершенно
различных
способа или
вида самого
познания. На
природу
направлено
наше
непосредственное
знание. На
бога
насколько он
доступен для
человеческого
познания
направлено знание
опосредствованное:
мы познаем
бога не
прямо, а посредством
природы,
через
природу. И
наконец самих
себя мы
познаем
через
размышление,
или
рефлексию.
Таким
образом, и в
группе наук,
опирающихся на
рассудок,
различие
предметов
познания Бэкон
ставит в
связь с различием
способов или
методов,
посредством
которых
мыслящий ум
осуществляет
их познание.
Разделив
область
рассудочного
познания на
три вида,
Бэкон
представляет
их не совершенно
изолированными
друг от
друга, не имеющими
между собой
ничего
общего. По
его мысли, над
ними
возвышается,
подчиняя их
себе и объединяя,
некоторая
высшая и
общая для
всех них
наука.
Предмет этой
науки
понятия и категории,
относящиеся
одинаково к
каждой из них
одинаковым
образом. Это
понятия и категории
бытия и
небытия,
сходства и
различия,
равенства и
неравенства.
Эта высшая наука,
объединяющая
все три
области
рассудочного
знания и
подчиняющая
их своим
категориям,
называется у
Бэкона
«первой
философией»
(philosophia prima), или
«всеобщей
наукой» (scientia universalis) *.
Не
следует думать,
будто виды,
наук,
получающиеся
у Бэкона в
результате
его
классификации,
представляют
в его глазах
одинаковую
существенную
ценность. Они
равноправны
только
логически, но
не по
существу.
Так,
например,
первый вид
рассудочного
знания
знание о боге
не имеет, по
Бэкону,
серьезного
значения в
системе наук.
Учение о
боге,
теология
предмет не
столько
знания,
сколько веры.
Размышление
о боге имеет
значение
только
отрицательное:
оно может
служить
опровержению
атеизма, но
не
раскрывает
собственной
природы бога.
Задача
теологии
всецело
ограничивается
этим
отрицательным
результатом.
Другое
дело второй
вид
рассудочного
знания, т. е.
группа наук о
природе, или
естествознание.
Этой группе
Бэкон
отводит
главенствующее
и решающее
значение во
всей системе
знания. Естествознание
377
в его
глазах мать
и основа
всякого
знания. Именно
естествознание
и только оно
одно имеет
целью
доставить
человеку
господство
над природой.
Для
достижения
этой цели
естествознание
исследует
причины
явлений и
качеств предметов.
Эти причины
двух видов: 1)
действующие
и 2) конечные
(или целевые).
Действующие
причины те,
которые
обычно
называются в
науке и в
обиходной
жизни этим
именем (causae efficientes).
Целевые
причины те,
которые
схоластика,
вслед за
Аристотелем
и особенно вслед
за Фомой
Аквинским,
называла causae finales.
Бэкон
требует
самого
резкого и
последовательного
отделения
действующих
причин от
причин
целевых.
Наука о
действующих
причинах
процессов
природы
физика. Наука
о целевых
причинах
существующих
предметов и явлений
«метафизика» *.
Только
формально
Бэкон
признает
равноправие
физики и
«метафизики». Познание
целевых
причин
формально
возможно.
Однако весь интерес
Бэкона как
философа
сосредоточен
на
исследовании
действующих
причин. Отсутствие
строгого
различения
между
причинами
действующими
и конечными Бэкон
считает
одним из
главных
пороков всей
доселешней
науки. Эта
наука
постоянно примешивала
к познанию
действующих
причин познание
причин
целевых. Она
полагала, будто
предмет
разъяснен,
вводя в
объяснение понятие
цели,
целевого
назначения.
Она не
понимала, что
введением
цели предмет
с
естественной
стороны
ничуть не
раскрывается.
Но
физика выше
«метафизики»
не только
вследствие
неспособности
«метафизики»
с ее понятиями
о целевых
причинах
разъяснить
явления
природы. Физика
выше
«метафизики»
еще и потому,
в особенности
потому, что
только
физика
способствует
решению
главной
задачи
знания. Задача
эта не чисто
теоретическая.
Она состоит в
усилении
могущества
человека, в
достижении
им
господства
над природой.
А так как господство
это
достигается
только
познанием
действующих
причин, то
первой из
всех наук для
Бэкона
оказывается
только наука
о действующих
причинах, т. е.
ф и з и к а.
Но
физика,
будучи
главной
наукой,
необходимой
для
достижения
могущества
человека, не
есть единственная
наука,
которая
служит этой
задаче.
Физика
раскрывает
природу
вещей. Однако
для
господства
человека над
вещами человек
должен уметь
также и
пользоваться
полученными
из физики
знаниями,
применять их для
усиления
своей власти
над природой.
Поэтому наряду
с физикой и
«метафизикой»
науками теоретическими
должны
существовать
и науки
практические,
прикладные.
Одна из них
механика. Ее
задача
применение
знания действующих
причин к
господству
человека над
природой.
Наука эта
соответствует
физике.
Другая
прикладная
наука
«естественная
магия» (magia natura-lis). Она
исследует то,
что человек
мог бы сделать,
опираясь на
познание
целевых
причин.
Однако
признание
«естественной
магии» у Бэкона
чисто
формальное.
Она
интересует
его так же
мало, как
мало интересует
его
«метафизика».
Бэкон
признает
задачу
«естественной
магии», но
средств для
решения этой
задачи ищет в
физике и
механике.
Во всей
этой
классификации
привлекает
внимание
крупнейший
пробел,
допущенный
Бэконом. В
его
энциклопедии
не нашла себе
места,
сколько-нибудь
подобающего
ей по значению,
математика.
Ум Бэкона не
только не был
умом
математическим.
Бэкон не
понял огромной
роли, которая
принадлежит
математике в
науках о
природе.
Современ-
378
ник
Галилея и
Кеплера,
Бэкон резко
разошелся с
ними в оценке
математики.
Он не мог
принять мысли
Галилея,
который
писал:
«Философия
записана в
той большой
книге,
которая
лежит всегда
раскрытой
перед нашими
глазами... Она
написана на
математическом
языке, ее
буквы это
треугольники,
круги и
другие
геометрические
фигуры, без
которых
человеку
невозможно
понять даже
одного слова;
без них мы бесполезно
вертимся в
темном
лабиринте» (16, VI, 232).
Для Бэкона
математика
только
второстепенное
и
незначительное
вспомогательное
средство
естествознания.
Последний
в классификации
Бэкона
крупный
раздел науки,
опирающихся
на рассудок,
наука о
человеке, или
антропология.
Наука о
человеке
делится на
два вида, из
которых один
рассматривает
человека в
качестве
отдельной
личности, а
другой в
качестве
члена
общества.
Первый называется
у Бэкона philosophia humana,
второй philosophia civilis.
Первый антропология
в
специальном
смысле, второй
политика.
Равные,
как члены
логического
деления, обе эти
науки далеко
не одинаково
доступны всем
людям. Сын
государственного
деятеля,
хранителя
печати! и сам
крупный
государственный
деятель, с
измальства
готовившийся
к
политической
карьере,
Бэкон
считает политику
делом только
небольшой
избранной верхушки
общества.
Знание
политики
может принадлежать
лишь людям,
всецело
посвятившим
себя искусству
управления
государством.
Специальная
антропология,
или наука об
отдельном
человеке, в
свою очередь,
делится на
подчиненные
ей частные
науки. Так
как каждый
отдельный
человек
состоит из
тела и души,
то наука об
индивидуальном
человеке делится
на науку о
теле и на
науку о душе.
Первая из них
физиология,
вторая
психология.
Это
различение
вовсе не
означает,
будто в учении
о душе Бэкон
отступает от
материализма.
Различие
между
физиологией
и психологией
не есть
различие
между наукой
о телесных и
наукой о
бестелесных
процессах. По
Бэкону, душа,
составляющая
предмет
психологии,
также есть
нечто
материальное,
телесное.
Если мы не
видим душу,
то только
потому, что
она слишком
тонка и, в
силу этой
тонкости,
недоступна
непосредственному
чувственному
восприятию.
Ни в коем
случае не
следует
думать, будто
невидимость
души
означает ее
бестелесность
и
существенное
отличие ее от
всех остальных
вещей.
В эту по
своему
принципу
вполне
материалистическую
психологию
вторгается,
однако, теологическая
непоследовательность.
Материалист
и в
психологии,
Бэкон не хочет,
чтобы его
считали
таковым. Он
требует,
чтобы душа
строго
отличалась
от духа. Душа
предмет
естественнонаучного
изучения. Напротив,
дух
недоступен
естественнонаучному
исследованию
и есть
предмет не
научного, но
лишь
богооткровенного
знания.
Физиология
заключает в
своем
составе несколько
наук. Они
отличаются
одна от
другой в
зависимости
от того,
какие цели
может преследовать
человек
относительно
своего тела.
Физиология
может иметь
целью либо
здоровье
человека,
либо его
силу, либо
красоту,
либо, наконец,
его
наслаждение.
Поэтому
части
физиологии 1)
медицина,
наука о
здоровье; 2)
атлетика, наука
об
укреплении
физической
силы человека;
3) косметика,
наука о
способах
увеличения и
сохранения
красоты; 4) ars voluptaria,
наука о
наслаждении,
или об
удовольствии.
Деление
психологии
основывается
на различии
основных
способностей
души. Это
способность
к познанию и
способность
к дея-
379
тельности.
На
способности
к познанию
основывается
логика в
широком
смысле этого
понятия. На
способности
к
деятельности
этика.
Из обеих
этих частей
Бэкон
подробно
расчленил
только
«логику». В ней
он различает:
1) учение о
мышлении
(логику в
собственном,
специальном
смысле
слова); 2)
учение о
памяти (мнемонику)
и 3) учение об
убеждении
посредством
речи
(риторику).
Все эти
подразделения
физиологии и
психологии
подчеркивают
практические
задачи знания.
В физиологии
это
совершенно
очевидно:
здесь речь
идет о
здоровье, о
силе, о красоте
и о
наслаждении
человека. Но
то же подчинение
практическим
задачам
характеризует
и части «психологии»
Бэкона.
Логика, как
ее понимает
Бэкон, хочет
быть
практическим
искусством мыслить,
она должна
наставлять
человека в правильном
применении
правильных
приемов
мышления и
исследования.
Мнемоника
также должна найти
практические
средства, с
помощью которых
может
развиваться
человеческая
память.
Практическая
цель
риторики не
требует
специальных
пояснений.
Во всех
отраслях
физиологии и
психологии тело
и душа
составляют,
по Бэкону,
предмет изучения
не столько
сами по себе,
сколько в
виду
конечной
практической
пользы, какую
может
принести их
изучение
Однако в
своем
исследовании
познания Бэкон
поступает
так же, как он
поступил при
решении
вопроса о
соотношении
между
практикой и
теорией. Хотя
последняя
цель
познания-практическая,
достигнуть
этой цели
можно, по
Бэкону,
только
владея
точным
теоретическим
знанием о
том, какие
препятствия
стоят перед
человеком на
пути к
истинному
знанию, каков
самый
процесс
истинного
знания и как
этот процесс
протекает,
каковы его
методы и
средства.
VI.
КРИТИКА
СХОЛАСТИЧЕСКОЙ
НАУКИ. ЛОЖНЫЕ
ОБРАЗЫ
(«ПРИЗРАКИ»).
СКЕПСИС КАК
СРЕДСТВО
ОТРИЦАНИЯ
СХОЛАСТИКИ
И КРИТИКА
СКЕПТИЦИЗМА.
ИСТИННЫЙ
МЕТОД
ПОЗНАНИЯ
И ИНДУКЦИЯ
Никто из
предшественников
Бэкона не был
так убежден в
том, что
высшим и
последним
оправданием
науки может
быть только
ее практический
результат, ее
способность
служить
благу
человека. Но
вместе с тем
никто не
понимал так
ясно, как он,
что
достигнуть своей
практической
цели наука
может только
будучи
истинной
наукой. Наука
должна дать
человеку
истинное
познание
причин,
действующих
в природе и
порождающих
действия
полезные или
вредные для
человека.
Из двух
этих
положений
Бэкон вывел,
что философия
должна дать
знание об
условиях, делающих
науку
подлинной
наукой,
знание достоверным
знанием.
Философия
должна
развить
учение о методах
истинной
науки.
Необходимость
такого
учения
подчеркивалась
состоянием
современной
Бэкону науки.
Наука эта
была наукой
школьной,
«схоластикой»
(от слова schola,
что значит
по-русски
«школа»). Но
школа эта
была порабощена
церковью,
подчиняла
знание вере,
исследование
догме. В
течение
многих веков
она
разрабатывала
«разумные»
средства доказательства
верований
религии. Она
усвоила
теорию
силлогизма
Аристотеля
для того,
чтобы,
использовав
логический
аппарат силлогистики,
создать
наукоподобное
богословие.
Это было
чисто
формалистическое
применение
логики.
Строились
выводы, в
которых
заключения
извлекались
по правилам
логической
связи из
принятых
посылок. Но
посылки эти
принимались
на веру, не
только ничем
не были доказаны,
но и по
своему
существу не
могли быть
доказанными.
Со
временем
схоластика
утратила
веру в то, что
догматы
религии
могут быть
философски
доказаны. Но
схоластический
метод построения
науки не был
сразу
упразднен.
Средневековая
наука
осталась
схоластической
и после того,
как корифеи
схоластики и
особенно
последователи
Уильяма Оккама,
так
называемые
парижские
номиналисты
*, доказали,
что ни один
из основных
догматов христианской
веры не может
быть
логически
доказан.
Догматы
предмет веры,
а не доказательства.
Схоластический
метод был
перенесен из
богословия в
философию и в
науку. После
того как
схоластика
познакомилась
с философией
Аристотеля и
с его
естественнонаучными
трудами во
всем их
объеме, поло-
381
жения
философии и
науки
Аристотеля,
особенно его
космологии и
физики, были
признаны незыблемо
достоверными
устоями
всего знания.
Все, что
вновь
добывалось
наукой,
должно было
стоять в
нерушимом
согласии с
этими устоями
и выводиться
из них как
следствие из
посылок или
аксиом.
Авторитет
Аристотеля в
вопросах
науки
продолжал
оставаться
непререкаемым.
Только
парижские
последователи
Оккама взяли
смелость
отклониться
от учений
Аристотеля в
физике в
учении о
движении и
даже
выдвинули
предположение
о возможности
суточного
вращения
Земли. Но их
предположения
не были
приняты
схоластикой
и не получили
в ней
развития.
Застой в
науке,
освященный
авторитетным
именем
Аристотеля,
не мог
длиться
неопределенно
долго. Не
только в
Англии, но
еще раньше в
Италии, а
затем в
Нидерландах,
во Франции и
в Германии в XVI
веке
развивались
зачатки
нового в то
время капиталистического
способа
производства.
Начиналось
развитие
морской
торговли, обусловленное
открытием
новых
морских путей
и
неизвестных
дотоле
европейцам
материков.
Развитие
навигации
требовало
усовершенствований
не только в
технике
кораблестроения,
но и в
наблюдательной
и
вычислительной
астрономии.
Усовершенствования
эти
требовали отказа
от
громоздкой и
искусственной
космологии
Аристотеля
Птоломея с ее
догматами о
центральном
положении
Земли в
мироздании, о
неподвижности
Земли. В
Польше
пытливый и
бесстрашный
ум Коперника
уже проникал
в тайну строения
солнечной
системы. В
Италии техника
орошения и
строительства
каналов, в Нидерландах
инженерное
искусство
возведения
плотин,
защищавших
низменную
страну от
затопления
морем,
вызвали к
жизни не
только быстрое
развитие
механики, но
также в
физике развитие
гидравлики.
Ряд новых
научных задач
ставили
перед
математикой,
физикой и химией
важные и
быстро
развивавшиеся
отрасли
военного
дела
артиллерия с
баллистикой и
фортификация.
Быстрыми
шагами шло
также развитие
медицины,
опиравшееся
на успехи анатомии.
Весь
этот научный
прогресс не
укладывался
в рамки
схоластики и
схоластического
метода.
Правда,
многие новые
данные
добывались
людьми,
которые
видели в
своих
открытиях
только новые
эмпирические
факты и не
решались
сопоставить
эти факты с
принципиальными
основами
схоластического
научного мировоззрения.
Те, кто
боялись
революционной
ломки
общепризнанной
философской
и научной
системы,
предпочитали
путь компромисса,
залатывания
образовавшихся
прорех.
В такие
эпохи,
предшествующие
перевороту, назревающему
в самих
основах
научного мировоззрения,
обычно
развивается
настроение
скептицизма.
Выступает он
как в форме скептицизма
религиозного,
так и в форме
скептицизма
философского.
Начавшееся в
Германии в
начале XVI века
религиозное
движение
протестантизма,
борьба католицизма
против
протестантизма
и борьба
внутри
лагеря
протестантизма
породили не
только
обострение
религиозной
розни и
фанатизма, но
в известной
части
общества
также и настроения
религиозного
скептицизма.
Не менее
действенны
были причины
для возникновения
скептицизма
философского.
Чем глубже
был разрыв
между
учениями
Аристотеля,
которые
схоластика
превратила в
застывшие
догмы, и
данными
новейшей
науки, тем
легче у людей
нерешительного
и
неэнергичного
ума напрашивался
вывод, будто
истина
непостижима, превосходит
слабые силы
человеческого
разума. XVI век
оказался
временем,
когда волна философского
скептицизма,
обусловленного
крушением
схоластического
богословского
рационализма
и
противоречиями
между
аристотелизмом
и фактами
новой науки,
разлилась по
382
всей
Европе.
Санхец в
Португалии,
Монтень, а
вслед за ним
Шаррон во
Франции были
только наиболее
видными
среди
многочисленных
скептиков
этого
столетия.
Бэкон
был хорошо
знаком с
соблазнительными
для слабых
умов доводами
и
настроениями
современного
ему скептицизма.
Он хорошо
знал Монтеня
и, может быть,
именно у
Монтеня
учился
афористической
выработке
своего
философского
стиля. Но
Бэкон твердо
отклонил
принципиальные
выводы скептицизма.
С
замечательной
ясностью
Бэкон
различает
вопрос о
достоверности
знания,
которым располагает,
вернее
думает, будто
располагает
современная
ему
философия и
наука, и вопрос
о
принципиальной
доступности
достоверного
знания уму
человека.
В
вопросе о надежности
знания,
предлагаемого
современной
философией,
Бэкон
занимает
самую критическую
Позицию. В
современной
науке, утверждает
он, нет
ничего
прочного,
обоснованного,
достоверного.
Оглядываясь
на все прошлое
в развитии
науки, Бэкон
не видит в
нем для себя
точки опоры.
Он не
доверяет
ничему из того,
что
схоластическая
традиция
философская
или научная
предлагает
как истину.
Он требует,
чтобы первым
шагом новой
философии на
пути к
достоверной
истине был
недоверчивый
отказ от
всего якобы
уже добытого
и установленного,
а также -
строгий
контроль,
проверка
каждого шага,
который
делается в направлении
к истине:
«Единственное
спасение,
остающееся
нам, говорит
он, состоит в
том, чтобы
предпринять
всю работу
ума совершенно
сызнова и от
самого же
начала никогда
не
предоставлять
ум самому
себе, а постоянно
руководить
им (sed perpe* tuoregatur)» (10, 186).
Но,
сомневаясь в
достоверности
всего, что до
сих пор
предлагалось
и даже
предписывалось
в качестве
истинного,
Бэкон
нисколько не
сомневается
в
возможности
самой истины,
в ее
доступности,
в
необходимости
и успешности
поисков,
направленных
на ее
достижение.
Поэтому свою
позицию в
вопросе о
возможности
достоверного
познания Бэкон
характеризует
как позицию
вовсе не скептическую.
Только в
начале пути,
ведущего к познанию,
Бэкон
признает
некоторое
сходство
своих
взглядов со
взглядами
скептиков. Но
в конечной
цели пути
Бэкона и
скептиков резко
различаются.
«Взгляд тех,
которые придерживаются
сомнения,
говорит
Бэкон, и мои пути
в некотором
отношении
согласуются
в начале, но в
конечной
цели они
неизмеримо
далеко
расходятся
по
противоположным
направлениям.
Первые (т. е.
скептики. В.
А.) прямо
объявляют,
что ничто не
может быть познано;
я же, говорит
Бэкон о себе,
утверждаю только
то, что
методом,
употребляющимся
до сих пор,
можно узнать
в природе
лишь немногое
(поп multum sciri posse in natura)» (9, I, aph. 37). И
дальше:
«Первые
(скептики. В.
А.) отнимают у
человеческого
познания
всякое
значение;
напротив, я
ищу средств
поддержать и
упрочить
познание» (10, 211212).
И,
характеризуя
свои цели,
Бэкон
поясняет: «Цель,
которую я
имею в виду и
предложил
себе не
сомнение (acatalepsia), а
правильное
познание (eucatalepsia),
ибо я не хочу
отвергать, а
хочу
руководить
человеческими
чувствами и
поддерживать
их, хочу не
унизить, а
направить
человеческий
ум» (9, I, aph. 126). К тому же,
по Бэкону,
гораздо
лучше, если
мы будем знать,
что
требуется
для познания,
и при этом будем
считать
человеческое
знание недостаточным,
«чем
воображать
себя
обладающими
глубоким
познанием и
при этом не
знать ничего
из того, что
необходимо для
знания (et tamen nil eorum quae opus est
scire)» (9, I, aph. 120).
To, что
можно было бы
заподозрить
в качестве «скептицизма»
у
383
Бэкона,
есть
скептицизм
лишь в
отношении к схоластической
науке и к ее
методу. Но
этот
«скептицизм»
радикальный.
Бэкон
требует
полного
преобразования
метода научного
исследования.
Программе
этого преобразования
Бэкон
предпосылает
критику
метода,
которым до
него
руководствовались
наука и
философия.
В
отличие от
скептиков,
которые
просто
уверяют,
будто ничего
нельзя знать,
Бэкон
утверждает
только то,
что «нельзя ничего
знать без
известного
порядка или метода...
определяющего
известную
степень достоверности
с тем, чтобы
пособить
труду и
облегчить
его
приложение» (12, I,
144).
Правда,
Бэкон
находит, что
даже чисто
скептические
школы «не
были
нисколько
ниже школ, смело
бравшихся за
решение
всякого
вопроса» (12, I, 144).
Однако
скептические
школы,
говорит Бэкон,
«не
доставляли
пособий ни
чувствам, ни
уму, как это
делаем мы, а
разрушали
всякую веру в
авторитет...» (12, I,
144). А это, поясняет
Бэкон, «уже не
согласно с
нашим
учением и
почти ему
противоположно»
(12, I, 144).
Сомнение
Бэкона
только
необходимая
предварительная
ступень
познания. Оно
характеризует
только метод
Бэкона, но не
его научное
мировоззрение.
По мысли Бэкона,
ученые,
руководствующиеся
его сомнением,
«благоразумно
воздерживаются
от оценки и
решения того,
что
недостаточно
еще разъяснено,
чтобы
принятое раз
заблуждение
не породило
новых
заблуждений,
и чтобы не высказывать
никакого
решительного
мнения, пока не
будешь
убежден
совершенно» (3, I,
266). Кроме того,
сомнение
стимулирует
дальнейшее
развитие
научного
исследования:
сомнения
«служат как
бы губкой,
всасывающей
и притягивающей
новые
материалы
для наук» (3, I, 266). В
результате
вопросы,
которые
прошли бы незаметно,
если бы не
были указаны
сомнением,
теперь, когда
на них уже
обращено
внимание,
тщательно
рассматриваются
и изучаются (см.
3, I, 266).
Но как бы
ни было ценно
методологическое
и эвристическое
(наводящее на
открытия)
значение
сомнения,
Бэкон зорко
следит за
тем, чтобы
сомнение из
средства,
ведущего к
познанию
объективной
истины, не
превратилось
в средство
отдаления от
нее или даже
ее отрицания.
Бэкон ясно
видит опасность
сомнения, не
введенного в
строгие рамки
достоверного
познания.
Состоит эта опасность
в том, что
сомнение,
«как только
оно признано
основательным
и
достоверным,
тотчас же
побуждает
множество
людей стать за
него или
против него,
и передать
его на соблазн
потомству; в
итоге люди
перестают работать
и только
питают свой
ум этим
сомнением
вместо того,
чтобы
покончить с
ним или рассеять
его» (3, I, 266).
Признание
сомнения, как
методологического
введения в
науку о
достоверном
знании, и отрицание
скептицизма,
как
мировоззрения,
вот
последнее
слово Бэкона
по вопросу о
сомнении.
Сомнение,
составляющее
у Бэкона
исходное начало
знания, не
есть, таким
образом,
сомнение
скептика или
агностика.
Цель его не
отказ от
истины, а
указание
условия, без
которого ум
человека не
может
двигаться к
познанию
истины.
Сомнение это
радикально.
Оно
охватывает в
знании все,
что не
проверено,
принято на веру,
признано из
одного лишь
уважения к
авторитету.
Предварительная
задача
знания искоренить
все
заблуждения:
как чувств,
так и ума, как
благоприобретенные,
так и прирожденные.
Уже
чувства
недостаточны
для познания.
Во-первых,
существует
предел, за
которым они отказывают
нам в своей
помощи. Даже
при самом
благоприятном
положении и
состоянии органов
чувств
имеются вещи,
которые
ускользают
от
восприятия.
Они
ускользают «либо
384
вследствие
тонкости
самого тела
(subtilitate totius corporis), либо
вследствие
малости его
частей, либо
вследствие
дальность
расстояния,
либо вследствие
медленности
или |так же и
быстроты движения...»
(10,174).
Во-вторых,
даже тогда,
когда чувство
охватывает
предмет, наши
восприятия
недостаточно
надежны (neque admodum firmae sunt)
(10, 174).
Происходит
это от того,
что
свидетельство
чувств и
получаемая
нами от них
информация
всегда
основаны «на
аналогии с
человеком, а
не на
аналогии с
миром» (10, 174):
чувство не
есть мера
вещей.
Но не
только
показания
чувств
требуют дополнения
и проверки.
Их требуют
также и операции
ума:
умозаключения
и
доказательства.
И в логике
науке об этих
операциях
необходимо
начать с
сомнения в
том, что до
сих пор без
проверки
принималось
за надежное
средство расширения
знания. «...Мы
подвергаем
проверке,
поясняет
Бэкон, то, что
обычная
логика (logica vulgaris) принимает
как бы по
чужому
поручительству»
(10, 173). Он
упрекает
современных
ему логиков в
том, что они
«берут начала
наук как бы
взаймы от
отдельных наук»
(10, 173). Напротив,
Бэкон
утверждает,
что истинная
логика (logica vera)
«должна войти
в области
отдельных
наук с
большей
властью, чем
та, которая
принадлежит
их
собственным
началам, и
требовать
отчета от
самих этих
мыслительных
начал до тех
пор, пока они
не окажутся
вполне
твердыми» (10, 173).
Обычная
логика
считала
силлогизм
орудием
расширения
знания. Она
доверяла его
познавательной
силе, так как
обращала
внимание
только на
логическую
связь между
его посылками,
отвлекаясь
от вопроса о
методе
установления
истинности
самих этих
посылок.
Бэкон не
отрицает
необходимости
и достоверности,
с какой
заключение
правильного
силлогизма
следует из
его посылок,
если только
посылки эти
истинны.
«Никто не
может сомневаться,
говорит он, в
том, что
содержания,
совпадающие
со средним
термином,
совпадают
между собой...»
(10, 172). Он
прибавляет
даже, что в
этом совпадении
«заключена
некая
математическая
достоверность»
(quod est mathema-ticae cujusdam certitudinis) (10, 172).
И все же
силлогизм
не надежный
способ получения
научных
истин. В
силлогизме
всегда предполагается,
что его
посылки
истинны. Но далеко
не всегда это
предположение
соответствует
действительности.
«Силлогизм
состоит из
предложений,
предложения
из слов, а слова
это символы
и знаки
понятий» (10, 172).
Понятия разума
составляют
как бы душу
слов (verborum quasi anima sunt) (10, 172).
Поэтому если
понятия
разума «дурно
и опрометчиво
отвлечены от
вещей, смутны
и недостаточно
определены и
очерчены... то
все рушится» (10,
172).
Итак,
порочность
силлогизма
не в недостатке
необходимой
логической
связи между
его
посылками и
его
заключением.
Порочность силлогизма
в порочном
методе
обоснования
его посылок.
Главной
ошибкой
этого метода
Бэкон считает
необоснованную
торопливость
в обобщениях.
Ученые, не
подвергшие
критической
проверке
метод
обобщения, обычно
совершают
скачок от
эмпирически
установленных
фактов к
высшим
обобщениям или
высшим
принципам и
аксиомам
науки. Именно
так
добывались
до сих пор
аксиомы, принятые
в силлогизмах
в качестве их
посылок: «...от
чувства и от
частного
сразу
возносились
к наиболее
общему,
словно к
твердой оси,
вокруг которой
должны
вращаться
рассуждения;
а оттуда все
выводилось
через
средние
предложения
(per media)» (9, I aph. 173). Путь
этот, по
признанию
Бэкона,
скорый, но
крутой: он не
ведет к
природе, но
уклоняется к
спорам и, в
сущности,
только для
споров и
приспособлен.
Напротив,
385
поясняет
Бэкон, «у нас
постоянно и
постепенно
устанавливаются
аксиомы,
чтобы только в
последнюю
очередь
прийти к
наиболее
общему» (9, I, aph. 173).
Применению
силлогизмов
поэтому
должно предшествовать
учение об
индукции, с
помощью
которой
могут
устанавливаться
их общие
посылки.
Для
правильного
понимания
бэконовской
теории
индукции
нельзя
упускать из
виду, что вся
теория эта
была развита
Бэконом, как
метод
обоснования
аксиом,
которые
Бэкон выразительно
называет
«средними».
Как показывает
термин, это
не высшие
посылки
всего знания,
а
специальные
обобщающие
положения
специальных
или частных
наук. Как
обобщающие
положения,
они
обосновываются
индукцией.
Как
специальные
обобщения
частных наук,
они не
являются
аксиомами,
лежащими в основе
всего знания.
Предпосылка
всей бэконовской
теории
индукции
критика
метода, посредством
которого
добэконовская
наука и, в частности,
добэконовская
индукция
получала
высшие
аксиомы,
составляющие
исходные посылки
всех наук.
Таким
методом был
метод чересчур
торопливого
восхождения
или скачка от
частных
фактов, плохо
изученных,
ненадежно
установленных,
к положениям
высшей
степени общности.
Этому методу
Бэкон
противопоставляет
свой метод
постепенного,
последовательного
восхождения
от частных
фактов к хорошо
обоснованным
«средним
аксиомам» и уже
от этих
последних к
аксиомам
высшим.
Но,
прежде чем
развивать
свое новое
учение об
индукции,
Бэкон считал
необходимым
оградить ум
от возможности
проникновения
в его операции
и
рассуждения
ошибок,
коренящихся
в особых
склонностях
самого ума.
Постоянным
источником
ошибок при
познании
являются препятствия,
всегда
существующие
в уме человека
и влияющие на
весь ход его
размышлений
и исследований.
Препятствия
эти Бэкон
называет idola.
Слово это
латинская
транскрипция
греческого
слова εϊδωλα, означающего
в буквальном
переводе
«видики», т. е.
«маленькие
образы».
Термин этот
восходит к
понятиям
древнегреческого
атомистического
материализма
Эпикура. Так
называли
Эпикур и
философы его
школы
маленькие и
по своей
малости
невидимые
образы, или
подобия,
отображеньица
вещей, будто
бы
отделяющиеся
с
поверхности
вещей и
мчащиеся от
них во все
стороны в
пустом пространстве.
Однако,
взяв термин idola
из традиции
Эпикура, Бэкон
изменяет его
значение. У
Эпикура ε΄δωλα
истинные
образы вещей.
Восприятие
состоит в
том, что ειδωλα
проникают в
органы наших
внешних
чувств и порождают
в нас
ощущения. И
если на пути
от предмета
до
чувственных
органов ειδωλα
не
испытывают
никаких
перемен
(например, от
«бомбардирующих»
их в пути
атомов) и
если они
свободно
проходят
через поры
наших органов,
то
возникающие
в нас образы
вещей будут
истинными,
«адекватными»
их образами.
Напротив,
у Бэкона idola не
истинные, а
искаженные,
ложные
образы вещей.
Причина их
ложности в
несовершенстве
чувств и
самого ума, в
его внутренней
предрасположенности
к заблуждению.
Поэтому
бэконовский
термин часто
переводили
на русский
язык словом
«призраки»,
подчеркивали
«призрачность»,
обманчивость
этих образов
(В дальнейшем
мы также
будем переводить
idola
посредством
слова
«призраки».)
Так как
возможность
«призраков»
обусловлена
склонностями
самого ума,
то Бэкон
считает
очень важным
исследовать
и классифицировать
эти
«призраки».
Необходимо
постоянно
иметь их в
виду, чтобы
386
предупреждать
их
отрицательное
влияние на
результаты
исследования.
Предпосылку учения
Бэкона о
познании
образует его
твердое
убеждение,
что помехи,
состоящие в
несовершенстве
чувств и ума,
как бы эти
помехи ни
искажали
подлинный
образ вещей,
все же не
могут быть
непреодолимым
препятствием
к истинному
познанию. Правда,
как мы уже
знаем, ум
человека не
похож, по
Бэкону, на
гладко
отполированное
зеркало.
Скорее он
подобен
зеркалу
шероховатому,
неровному.
Однако
неровности
эти могут
быть
сглажены. В
последнем
счете истинное
познание
вполне
доступно:
«...бог дал человеку
душу,
подобную
зеркалу,
способную
отражать
целый мир,
так же
жаждущую
знания, как
глаз жаждет
света, и не
только
склонную к
созерцанию
разнообразия
и
переменчивости
времен, но
столь же
ревностную к
исследованию
и к открытию
незыблемых
уставов и неизменных
законов
природы (immotas atque naturae
leges)» (9, I, aph.).
Но, чтобы
знание
достигло
этого своего
назначения,
необходима
неусыпная
бдительность
по отношению
к постоянно
подстерегающим
его и
угрожающим ему
«призракам».
Существует,
по Бэкону,
четыре вида
«призраков»:
«призраки
рода» (idola tribus),
«призраки
пещеры» (idola specus),
«призраки
торжища» (idola fori) и
«призраки театра»
(idola theatri). Что
кроется за
этими
образными названиями?
«Призраки
рода» помехи
к знанию,
обусловленные
родовыми
свойствами
человека,
общие для
всех людей,
поскольку
они люди.
Бэкон указывает
некоторые
разновидности
«призраков
рода». Так, человек,
по своей
природе,
чрезвычайно
склонен
предполагать
во всем
правильность
и сходство
между всеми
явлениями.
«Человеческий
разум по
своей
склонности
легко предполагает
в вещах
больше
порядка и
единообразия,
чем их
находит» (9, I, aph. 45).
Например, астрономы
выдумали,
будто
светила
должны двигаться
по кругам.
Другой вид
«призраков рода»
общая всем
людям
склонность
подыскивать
основания
для того, что
уже принято
ими на веру.
Люди хотят
думать, будто
они не просто
верят в то, во
что они
верят, но что
в пользу их
веры могут
быть указаны
разумные
основы.
Третий вид
«призраков
рода» общая для
всех людей
склонность
обращать
внимание
преимущественно
на те
явления,
которые
возбуждают и
заполняют их
воображение.
При этом все
остальные
явления
безотчетно подгоняются
под явления,
уже
воспринятые
воображением,
и
уподобляются
этим
последним. Четвертый
вид
«призраков
рода» общая
для всех
людей
склонность
их рассудка
стремиться в
исследовании
к последнему
пределу даже
в тех
случаях,
когда это
исследование
уводит ум в
бесконечность,
когда в силу
этого искомый
предел не
может быть
найден.
Например, люди
пытаются
мыслить,
каким
образом
вечность
могла
достичь
настоящего
момента или каким
образом
отрезок
линии может
быть делим до
бесконечности.
Стремление
к последним,
конечным
инстанциям
исследования
Бэкон считает
особенно
вредным там,
где речь идет
о познании
причин.
Существуют
такие общие положения,
которые уже
не могут быть
обоснованы.
Положения
эти выражают
общие законы.
Вразрез с
этим общее
всем людям
стремление
вести
исследование
дальше и
дальше
приводит к
тому, что
начинают
спрашивать о
причинной
обусловленности
также и этих
наиболее общих
законов.
Чтобы
преодолеть
трудность, ученые
хватаются за
какое-нибудь
простое, но
ошибочное
представление
и в нем ищут
конечную
инстанцию
объяснения.
Так, не
находя дальнейших
оснований
для
объяснения
причины
некоторого
факта, ищут
его
объяснение, например,
в
целесообразности.
Но целесообразность,
по
разъяснению
Бэкона, есть
результат
рассмот-
387
рения
природы по
аналогии с
человеком, а
не в
соответствии
с ней самой.
Пятый
вид
«призраков
рода» общая
всем людям
склонность
подчинять
ход познания
чувствам и
желаниям. Но
чувства и
желания
изменяют
направление,
в котором
идет
познание действительности.
Всё, что
чувства
могут показать
нам в
действительности,
имеет известные
пределы,
заключено
между
известным максимумом
и минимумом.
В результате
возникает
склонность
не обращать
внимания на все
то, что
недоступно
непосредственному
чувственному
восприятию.
Например,
люди часто
говорят о
том, что
предмет
«изменяется»,
так как «изменение»
есть то, что
воспринимается
прямо посредством
чувств.
Однако за
смутным понятием
«изменения» в
действительности
часто
скрывается
нечто иное, а
именно
процесс перемещения
в предмете
его
мельчайших
частиц, вовсе
не
воспринимаемых
чувством зрения.
Второй
вид
«призраков»
«призраки
пещеры». Под
ними Бэкон
разумеет
подверженность
ошибкам,
которыми
характеризуется
уже не весь
человеческий
род, а лишь
отдельные
группы людей
или даже
отдельные
люди. Каждая такая
группа
склонна
впадать в
ошибки, которыми
ее мышление
отличается
от мышления других
групп,
входящих в
состав
человеческого
рода. Есть,
например,
люди, которые
склонны
исследовать
отдельные
предметы, а
именно те, с
которыми у
них
соединено
убеждение,
что именно в
этой области
знания можно
совершить
что-нибудь
великое. Так
Аристотель достиг
блестящих
результатов
в своей логике.
Но, когда он
перешел к
вопросам,
составляющим
содержание
физики, он ив
этой области
продолжал
руководствоваться
теми воззрениями,
которые он
приобрел в
логике, но
которые,
будучи
приложены к
физике,
совершенно
исказили
учение о
природе.
По
наблюдению
Бэкона,
различные
группы людей
не только р а
з-личаются
одна от
другой характерными
для них
склонностями,
но часто
оказываются
по этим
склонностям
совершенно
противоположными.
Так, одни
особенно
склонны
находить и
исследовать
различия,
существующие
между вещами.
Другие,
наоборот,
склонны
находить в
них все
сходное. Но
если одна из
обеих этих
склонностей
получает
преобладание
в знании, то
возникает
односторонность,
которая дает
вредный для
знания
результат.
Существует
другой вид
противоположности
между
учеными. Одни
ученые
склонны
неограниченно
доверять
авторитету
древних. Наоборот,
другие
склонны так
же
неограниченно
верить всему
новому,
каждому
последнему
слову науки.
В своей исключительности
оба эти
взгляда
ведут к ошибкам
и вредны.
Истинный
ученый
должен усваивать
из учений
древности
все то и только
то, что
составляет
подлинное
приобретение,
и должен
принимать из
нового все то
и только то,
что
представляет
действительное
знание.
Третий
вид
противоположности
возникает по
вопросу о
способе
исследования
связей между
предметами.
Одни люди
склонны
рассматривать
вещи в их
отдельном
друг от
друга, изолированном
состоянии.
Другие, наоборот,
стремятся
исследовать
вещи в их
взаимном
действии, как
нечто целое.
Античная философия
дает, по
Бэкону,
прекрасный
пример обеих
этих
противоположных
склонностей. Это
атомистические
материалисты
и противоположная
им школа, под
которой
Бэкон имеет в
виду
объективных
идеалистов
Платона и Аристотеля.
Атомисты
исследовали
главным образом
отдельное,
частное;
идеалисты
общее
взаимодействие
предметов.
388
Третий
класс
«призраков»
«призраки
торжища». Так
называет
Бэкон помехи,
источник
которых в
общении
людей между
собой.
«Призраки
торжища» бывают
двух родов.
Это,
во-первых,
наименования
несуществующих
вещей. Бывают
вещи, у которых
нет названия,
так как их не
замечают. Но бывают
и
наименования,
для которых
нет соответствующих
им вещей, так
как эти названия
выражают
вымысел.
Таковы
понятия вроде
Судьбы,
Первого
движения,
Кругов планет,
Элемента
огня и т. п.
Понятия эти
выдумки, а их
корень
ложные и
пустые
теории.
Во-вторых,
«призраки
торжища»
могут быть
понятиями,
которые
возникают из
плохих, невежественных
абстракций.
Как пример
Бэкон рассматривает
слово
«влажность».
По Бэкону,
это слово не
что иное, как
«смутное
обозначение
различных
действий,
которые не
допускают
никакого
объяснения
или сведения»
(9, I, 60). Понятие
это
необдуманно
отвлечено
только от
воды и от
обычных
жидкостей
без какой бы
то ни было
должной
проверки.
Поэтому если
возникает
вопрос о
применимости
этого слова,
то, взяв одно
определение,
получается,
что,
например,
пламя влажно,
а взяв другое,
что воздух не
влажен. При
одном мелкая
пыль влажна,
при другом
стекло
влажно. Этот
второй вид
«призраков
торжища»
сложен, а
основа его
коренится
глубоко.
Впрочем,
степень
ошибочности
слов, по Бэкону,
в различных
словах не
одинакова.
Худший вид
слов слова,
обозначающие
качества (за исключением
непосредственного
восприятия
чувств).
Менее
порочны
слова,
обозначающие
действия,
например
«производить»,
«изменять». Наименее
порочны
слова,
обозначающие
субстанции,
особенно
если
субстанции
эти низшие и
хорошо
очерчены,
например
«мел», «глина». Но
уже,
например,
понятие
«земля» Бэкон
относит к
числу дурных
(см. 9, I, aph. 60).
Само по
себе общение
между людьми
должно помогать
людям в
исследовании
истины. Общение
происходит
неизбежно
посредством
речи или
слова,
которому
таким
образом, в
процессе познания
принадлежит
важная роль.
Но со словами
связывается,
к словам
приурочивается
также знание
о предмете,
которое
часто возникает
на основе
случайного,
первоначального
впечатления.
Это
впечатление
может оказаться
вовсе не
характерным
и не существенным
для самого
предмета. По
мере
совершенствования
наших
представлений
о предмете
знание
стремится
точнее
определить
его природу.
Но на этом
пути оно
часто
встречает
препятствие
в слове, так
значение
слова отличается
косной
устойчивостью
и не
поспевает за
успехами
познания.
Многие споры
в науке
происходят и
ведутся из-за
слов, т. е. из-за
различного
понимания
тех или иных
наименований.
Такие споры
не имеют в
виду
достижение и
защиту
истины.
Казалось
бы, этот
недостаток
языка легко может
быть
устранен или
исправлен. В
научных
исследованиях,
казалось бы,
необходимо
пойти по пути
математики. В
этой науке ни
одно понятие
не вводится
без того, чтобы
определить
его, т. е.
закрепить в
словесной
формуле
точное его
значение.
Однако то,
что так легко
достижимо в
математике,
не может быть
применимо в
естествознании.
Дело в том,
что
определение
может быть
выражено
только
посредством
слов. В свою
очередь,
слова эти
требуют
каждое для
себя нового
определения.
Раз
начавшись,
этот процесс определения
не имеет
конца.
По
Бэкону, единственный
способ
определения
истинного
смысла слов
состоит в
том, чтобы не
опираться на
словесные
определения,
а исследовать
самые вещи,
которые
посредством
них обозначаются.
Четвертый
и последний
класс
«призраков» «призраки
театра».
389
Таким
названием
Бэкон
обозначает
распространенные
среди ученых
ошибочные
мнения как о
самих вещах,
так и о
методах их
исследования,
а также о
методе
доказательства.
Таковы
схоластическая
наука,
схоластические
методы исследования
и лежащая в
их основе
логика Аристотеля.
«Призраки
театра» не
врожденные
уму, а приобретенные
сознанием
человека. От
других классов
«призраков»
«призраки
театра»
отличаются
важной
чертой:
относительно
мнений, усвоенных
на основе
«призраков
театра», невозможен
никакой спор:
здесь основа
разногласия
в различном
понимании
доказательств,
другими
словами
отсутствует
общая почва
для спора.
«Призраки
театра» имеют
у Бэкона еще
другое название
«призраки
теорий». Они
передаются и
воспринимаются
из
вымышленных
теорий и из
превратных
законов
доказательства.
Призраки эти
многочисленны.
Их было бы
даже еще
больше, если
бы
распространение
их не
встречало
препятствия
со стороны
государственной
власти,
особенно монархической.
Власть эта
противостоит
новшествам,
даже если эти
новшества
чисто созерцательные.
Люди,
обращающиеся
к этим
новшествам, навлекают
на себя
опасность,
терпят ущерб и
не только не
получают
награды, но
еще подвергаются
презрению и
недоброжелательству.
Если бы не
такое
отношение
власти к нововведениям,
то «без
сомнения
были бы
введены еще
многие
философские
и
теоретические
школы,
подобные тем,
которые
когда-то в
большом
разнообразии
процветали у
греков» (9 I, aph. 62). Предела
для
измышления
плохо
обоснованных
гипотез не
может быть не
только в
естествознании,
но и в
философии.
«Подобно тому,
как могут
быть
измышлены
многие предположения
относительно
явлений
небесного
эфира, точно
так же, и в еще
большей
степени,
могут быть
образованы и
построены
разнообразные
догматы
относительно
явлений философии»
(9, I, aph. 62).
Условия
для
образования
ложных
гипотез в
философии
более благоприятные,
чем в
естествознании.
Дело в том, что
содержание
философии
образуется
обычно путем
выведения
многого из
немногого или
немногого из
многого. Но в
обоих этих
случаях
философия
утверждается
на слишком узкой
основе опыта
и
естественной
истории и
выноси г свои
заключения
из данных
меньших, чем
это
необходимо.
Корень
заблуждений
ложной философии
и
возникающих
в ней ложных
теорий
троякий. Это
софистичность
рассуждений,
близорукий
эмпиризм и
суеверие
попытка выводить
науку от
духов и
гениев.
Описав
так
обстоятельно
четыре
класса «призраков»,
Бэкон далек
от мысли,
будто это описание
составляет
нечто вроде
науки и будто,
усвоив
учение о
«призраках»,
мы тем самым гарантированы
в том, что
впредь они
уже не станут
нас
обманывать.
Согласно
разъяснениям
самого
Бэкона,
«призраки»
«представляют
самые глубокие
самообольщения
человеческого
ума; действие
их состоит не
только в
обмане, подобно
прочим
иллюзиям...
путем
затемнения ума
и
расставления
ему сетей;
они обманывают
еще в силу
самого
состояния
ума до
суждения и в
силу его
порочного
устройства...» (3,
I, 370). По Бэкону,
«призраки»
«действительно
осаждают ум,
и... нет
возможности
искоренить
их окончательно»
(там же ).
Именно
поэтому
Бэкон
полагает, что
учение о
«призраках»
«не может
быть сделано
для
предохранения
от них», это
«обладание
известным
интеллектуальным
благоразумием»
(3, I, 370371).
Усвоение
учения о
«призраках»
дает возможность
избежать
множества
ошибочных
положений,
возникающих
под
действием
«призра-
390
ков». Но
устранение
этих
положений
только отрицательная
сторона
правильного
учения о
методе.
Необходима
еще
характеристика
положительного
метода, с
помощью
которого не
только
отвергается
заблуждение,
но и устанавливается
истина.
Свой
положительный
метод Бэкон
выясняет
путем
противопоставления
методам,
господствовавшим
до него в
науке.
Оглядываясь
на путь
развития,
пройденный
наукой, Бэкон
сводит все
бытовавшие в
ней методы к
двум
основным.
Методы эти он
называет
«догматическим»
и
«эмпирическим».
Догматический
метод
исходит из
общих
положений и
стремится
свести к ним
или подвести
под них все
частные
случаи. Бэкон
сравнивает
ученого-«догматика»
с пауком,
который из
самого себя
разматывает
собственную
паутину.
Эмпирический
метод
состоит в
стремлении собрать
как можно
больше
частных
фактов и
отдельных
наблюдений.
Ученый-эмпирик
похож, по
Бэкону, на
муравья,
который
тащит в
муравейник все,
что
попадется
ему на пути.
Ни
догматический,
ни
эмпирический
метод, взятые
сами по себе,
каждый
порознь и в
отдельности,
не могут
быть, по
Бэкону,
подлинным
положительным
методом
научного
исследования.
Истина не
может быть ни
результатом
спонтанной
деятельности
ума, ни
коллекционирования
или
эмпирического
собирательства,
не освещенного
светом ума.
Деятельность
истинного
ученого
похожа, по
Бэкону, на
деятельность
пчелы. Работа
пчелы
состоит в
том, что,
облетая различные
цветы и
собирая их
соки, пчела
не оставляет
эти соки в
том виде, в
каком она их
нашла, но
перерабатывает
их в себе и
собственной
деятельностью
в мед.
При
обдумывании
вопроса об
истинном
методе Бэкон
руководится
аналогией,
почерпнутой
из наблюдений
над
практической
производственной
деятельностью
человека. Он
видит, что
при совершении
практической
деятельности
необходимы
не только
органы, но и
искусственные
орудия для
органов. С
помощью
орудий
органы могут
и быстрее и
лучше
совершать
свою работу.
Сходным
образом
обстоит дело
и в познании.
Если познавательные
способности
предоставлены
только самим
себе, то
польза от них
меньше той,
какая может
быть
получена при
помощи
особых
органов,
ускоряющих
их работу.
Правда, и в
прежние
времена,
когда дело
науки было
предоставлено
простому
случаю, люди
порой делали
открытия и
изобретения.
Но эти открытия
и
изобретения
были бы
сделаны в гораздо
большем
количестве,
если бы
ученые были
вооружены
необходимыми
для исследования
орудиями. Для
выполнения
действия без
инструмента
бывает
иногда
необходима огромная
сила, но то же
действие
легко осуществляет
рука,
вооруженная
инструментом.
То же
справедливо
и
относительно
познания.
Требуются огромные
умственные
усилия для
достижения
результата
средствами
одного
только ума,
не
вооруженного
специальными
орудиями. Но
те же
результаты
могли бы
находиться чаще
и получаться
легче, если
бы ум был
снабжен
необходимыми
средствами.
Средства
эти не те, что
совершенствуют
нашу
способность
восприятия.
Науку движет
вперед и
совершенствует
не
восприятие,
основывающееся
на наблюдении,
а
эксперимент.
Под
экспериментом
Бэкон
понимает
поставленный
перед природой
искусственный
вопрос,
основаннный
на активном
отношении к
природе, на
деятельности.
Из всех
видов такой
деятельности
главным Бэкон
считает
деятельность
самой мысли.
Орудие мысли
истинная
индукция, при
помощи которой
добываются
обобщения,
способные стать
достовер-
391
ными
посылками в
умозаключениях.
Именно
поэтому в
правильном
понимании индукции
Бэкон видит
основное
условие прогресса
научного
знания во
всем его
объеме.
Для
достижения
этого
прогресса
должна быть
проделана
предшествующая
ей критическая
работа.
Критике
подлежит,
во-первых,
силлогизм,
как средство
умозаключения,
во-вторых,
обычная, или
«популярная»,
индукция.
Критика
силлогизма
всего
подробнее
развита
Бэконом в
пятой части
трактата «О
достоинстве
и умножении
наук». В
естественных
явлениях,
зависящих от
материи,
утверждает Бэкон,
силлогизм «оказывается
формой
недостаточно
верной и
точной для
вывода
последующих
аксиом» (3, I, 341). Все,
что можно
сделать
посредством
силлогизма,
это
«привести
предложения
к принципам
при
содействии
средних
посылок» (3, I, 341).
Именно' эта
форма
доказательства
или
изобретения
применяется
и, по Бэкону,
должна
применяться
в таких
науках, как этика,
политика,
юриспруденция
и богословие.
Даже в
богословии
божественной
благости
было
благоугодно
приноровиться
к слабости
человеческого
понимания. Но
если придерживаться
силлогизма в
физике, где
речь идет не
о том, чтобы
опутать
противника
аргументами,
а о том, чтобы
связать
природу ее
явлениями, то
истина
«ускользает
из рук» (3, I, 341).
Здесь, вследствие
«полнейшей
непригодности
силлогизма,
приходится
вернуться к
индукции...» (3, I, 341).
Однако эта
индукция не
обычная, а «истинная»
(inductio vera). Под ней
Бэкон
понимает
индукцию
«исправленную
как в самых
общих
принципах,
так и в
средних
посылках...» (3, I, 341).
Такая индукция
противостоит
силлогизму,
ибо силлогизм
«состоит из
предложений,
предложения
из слов, а
слова суть
как бы язык
понятий (3, I, 341). Так
как обычно в
силлогизмах
понятия,
составляющие,
по Бэкону,
как бы душу
слов, получены
случайно и
без
определенного
метода, то «все
здание
рушится само
собой» (3, I, 341).
Особенно
важный в
глазах
Бэкона
недостаток
силлогизма
его
практическая
бесплодность,
удаленность
от практики,
непригодность
в
действенной
части наук.
Относящиеся сюда
соображения
Бэкон развил
в «Предисловии»
к «Новому
Органону».
Кроме
силлогизма
логика
выдвигает в
качестве
формы умозаключения
также и
индукцию. Но
эту индукцию
Бэкон также
отвергает. Он
даже находит,
что ум,
предоставленный
самому себе,
вследствие
одной лишь
присущей ему
силы, делает
«более
совершенные
выводы, чем
та индукция,
которую
предлагают
нам
диалектики» (3, I,
340). Обыкновенная
индукция
сводится к
склонности
«заключать на
основании
простого перечисления
отдельных
фактов, если
не встречается
факта,
противоречащего
доказываемому
предложению»
(3, I, 340). Но
поступать
таким
образом
«значит
делать
весьма ошибочные
выводы» (3, I, 340).
Посредством
индукции
такого рода,
уверяет
Бэкон, «можно
получить
только более
или менее
вероятное
предположение»
(3, I, 340). И кто может
быть уверен,
спрашивает
Бэкон, что
«между тем,
как он
взирает
только с
одной
благоприятной
для его
мнения
стороны на
частные
факты, знакомые
ему или
припоминаемые
им, в то самое время
не
ускользает
от него
какой-нибудь
скрытый факт,
опровергающий
его мнения?» (3, I, 340).
Эта форма
индукции
представляется
Бэкону столь
грубой и
поверхностной,
что, по его
мнению, могло
бы
показаться
просто
невероятным,
каким
образом
проницательные
и изощренные
умы могли
выпустить ее
на свет, если
бы не было
известно,
каким способом
подобные умы
фабрикуют
свои теории,
устанавливают
свои догматы
(см. 3, I, 340).
392
Не
такова
«истинная»
индукция.
Первое ее преимущество,
по Бэкону, в
том, что, в
отличие от силлогизма,
или
опосредствованного
вывода,
индукция
основывается
на
непосредственном
умозаключении.
«Что касается
до индуктивного
суждения..,
разъясняет
Бэкон, то при
исследовании
мы
изобретаем и
судим одним и
тем же
процессом
разума; для
этого вовсе
не требуется
ничего
промежуточного,
процесс
совершается
немедленно, и
все происходит
точь в точь,
как в
ощущениях...
Совсем иное
силлогизм,
доказательство
которого не
непосредственно
и требует
промежуточного
звена» (3, I, 365 366).
Второе,
по Бэкону,
преимущество
научной индукции
в
действенности
ее выводов.
Аксиомы,
выведенные
должным
образом из
частностей,
«в свою очередь
легко
указывают и
определяют
новые частности
и таким путем
делают науки
действенными
(itaque scientias reddunt activas)» (9, I, aph. 24).
Третье
преимущество
научной
индукции Бэкон
видит в ее
универсальности,
во всеохватывающем
характере ее
умозаключений.
«Наша логика,
писал Бэкон,
которая движется
посредством
индукции,
охватывает
все (omnia complectitur)» (9, I, aph. 127).
Могло бы
показаться
удивительным
то, что Бэкон
настаивает
на
непосредственном
характере
индуктивного
умозаключения.
Утверждение это,
может быть,
представится
не столь парадоксальным,
если принять
во внимание,
что Бэкон,
по-видимому,
различал два
вида индуктивного
исследования.
Один из них
простое непосредственное
обобщающее
умозаключение,
которое
может быть
извлечено
даже из одного
единственного
частного
случая. И
другой
умозаключение
также
индуктивное,
поскольку
оно
выводится из
частного, но
вместе с тем
сложное,
поскольку
вывод в нем
обосновывается
не одной
единственной,
а множеством
посылок.
Таково
подробно
развитое
Бэконом индуктивное
исследование
так
называемых «форм»,
о котором
речь впереди.
Огромное
значение,
какое в
логике и во
всей системе
материалистической
философии
Бэкона имеет
исследование
форм и
обоснование
сложных методов
этого
исследования,
совершенно
отодвинуло в
тень мысль
Бэкона о
существовании
простого
непосредственного
индуктивного
заключения.
Да и сам
Бэкон не
развил этой
мысли сколько-нибудь
подробно. Тем
не менее мысль
эта у него
была, и выше
мы привели
относящееся
к ней
свидетельство
самого
Бэкона.
Бросив ее
мимоходом, на
лету, Бэкон
тем
внимательнее
развивает
свою теорию
сложного
индуктивного
исследования
«форм».
VII.
УЧЕНИЕ
БЭКОНА О
«ФОРМАХ» КАК
ПРЕДПОСЫЛКА
УЧЕНИЯ
ОБ ИНДУКЦИИ.
СЛОЖНЫЕ
ИНДУКТИВНЫЕ
МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Как
всякий
подлинный
новатор
науки, Бэкон
развивает
свое
беспрецедентное
учение об
индукции не в
абсолютной
научной пустоте,
а в русле
определенной
философской
традиции.
Такой
традицией
для его
учения о
сложных
формах
индуктивного
исследования
стало учение
античной
философии о
«формах» ( = «эйдосах»,
«видах»).
Материалистическая
школа
Демокрита
называла
«формами», или
«идеями», или
образами неделимые
частицы, тел
«атомы».
«Формами она
их называла
потому, что
одним из
основных объективных
свойств
атома она
считала его
форму, его
«вид». Атомистическая
школа
подчеркивала,
что, будучи
«формами»,
атомы формы
телесные,
материальные.
Все видимое
во внешнем
мире при
помощи
чувств
сводится, как
к своей
объективной сущности,
к «атомам», или
формам.
«Формы» представляют
элементы, или
сущность
всех вещей.
Все видимое,
осязаемое,
слышимое,
обоняемое и
т. д. есть или
простое
«мнение» (как,
например,
цвета, звуки,
запахи), или,
если дойти до
его
объективной
сущности,
есть только
связь атомов,
отличающихся
друг от друга
формой,
величиной,
положением,
порядком.
Платон
извратил это
учение в
доктрину идеализма.
И он сводит
явления к
«формам», или
«видам» (ta eide),
«идеям» (ideai), как к
сущностям. И
для него, как
и для
Демокрита,
«формы» это
бытие, более
того
истинно
сущее бытие.
Но, в
противоположность
Демокриту и
его школе, он
провозглашает
свои «формы»
(«идеи»)
бестелесными.
Для Платона они
не только
постигаются,
или
созерцаются умом
(с чем
соглашался и
Демокрит),
они, кроме
того, и по
самой своей
природе,
«умные», т. е. идеальные,
бестелесные
формы.
Это
учение о
«формах» как о
постигаемых
умом сущностях
развивает и
Аристотель.
Как равнозначащий
термину
«форма» (rnorphe), он
применяет платоновский
термин «вид» (eidos).
Как и для
Платона, для
Аристотеля
«формы» вечны,
не возникают
и не
творятся.
Когда медник
отливает
медный шар,
форма
шаровидности,
как таковая,
как форма, не
создается им
впервые.
Медник лишь
сообщает
изначально и
вечно
существующую
форму
шаровидности
веществу
меди, и таким
образом
возникает
медный шар.
394
Ни у
Демокрита, ни
у Платона, ни
у Аристотеля
«форма» не
означает то,
что понимает
под формой
позднейшая
западноевропейская
мысль: форма
не только
вид, принимаемый
бытием, но
само это
бытие, даже
сущность
этого бытия
(Демокрит,
Платон).
Сделавшееся
характерным
для
позднейшей
идеалистической
и
метафизической
мысли противопоставление
формы
сущности
нечто, не только
совершенно
чуждое
античной
мысли, но в корне
ей
противоположное:
формы это и
есть
сущности, а
сущности
формы.
К этому
античному
пониманию
«формы»
примыкает и
Бэкон. Но он
не просто
повторяет
или
воспроизводит
античное
учение о
формах.
Во-первых, он
разрабатывает,
развивает
его на основе
материализма,
притом
материализма,
отличного от
демокритовского.
Во-вторых,
развивая свое
оригинальное
материалистическое
учение о формах,
Бэкон
особенно
подробно
рассматривает
вопрос
гносеологический
вопрос о том,
каким
образом
приходит
наука к
достоверному
познанию, или
установлению
форм. Именно разработка
этого
гносеологического
вопроса о
методах
достоверного
постижения форм
связывает
онтологию
Бэкона с его
теорией познания
и логикой, в
частности с
его теорией индукции.
Бэкон
сам
подчеркнул
связь своего
учения о
«формах» с
античной
традицией.
Впервые выраженное
понимание
значения,
какое должно принадлежать
учению о
формах, Бэкон
находил
именно в
античности.
Вместе с тем
он хорошо
видел
идеалистическую
порочность
результата, к
которому
учение о
формах было
приведено
Платоном.
«Платон,
писал Бэкон,
человек
высокого
гения,
обращая
взоры на всю
природу и
созерцая все
предметы как
бы с высокой
скалы, ясно
представлял
себе в своем
учении об
идеях, что
формы
составляют настоящий
предмет
науки...» (3, I, 269). Но
тут же Бэкон
отмечает,
что, сделав
«формы»
предметом
науки,
Платон,
будучи
идеалистом,
«сам не воспользовался
плодами
этого основательного
мнения,
обратившись
к созерцанию
и желанию
охватить в
материи
формы вполне
нематериальные
и
неопределенные;
вследствие
этой ошибки
он и
обратился к
теологическому
умозрению,
исказившему
и заразившему
всю его
натуральную
философию» (3, I, 269270).
Так как
«формы» в
понимании
Бэкона
материальные
сущности
открываемых
в природе свойств
вещей, то
исследование
форм и их
установление
имеет
величайшее
значение не
только для
теоретического
познания, но
также для
практического
воздействия
на природу «По
моему
мнению,
пояснял
Бэкон,
весьма трудно
достигнуть
какого-либо
коренного
преобразования
природы,
создать
что-либо вполне
новое, как
при
содействии
какой-либо счастливой
случайности,
так и ощупью,
путем опыта,
или
руководствуясь
физическими
законами;
этой же цели
можно
достигнуть
только открытием
форм» (3, I, 279). По
Бэкону, кому
известна форма,
«тому
известна и
высшая
степень
возможности
ввести
данное
свойство во
всякого рода
материи, и он
так же мало
стеснен в
своих
действиях,
как
относительно
такого-то
материального
основания,
так и относительно
такого-то
условия
действующей
причины» (3, I, 273).
Но,
подчеркнув
огромное
значение,
какое он придает
исследованию
форм, Бэкон
не дал себе
труда
достаточно
ясно, твердо
и недвусмысленно
выяснить
смысл, который
он
вкладывает в
понятие
«формы». Термин
«форма» у
Бэкона
многозначен,
переливает
различными
оттенками. Не
только в
разных
сочинениях,
относящихся
к различным
периодам
развития
Бэкона, но и в
пределах
одних и тех
же сочинений
Бэкон
выдвигает в
понятии
«формы» то
одну, то
другую
сторону его
395
содержания.
Для полной и
точной
характеристики
учения
Бэкона о
«формах»
необходимо не
только
учесть все
предлагаемые
им определения
«формы», но
также
имеющиеся в
его трудах
иллюстрации
или примеры
«формы» *.
Исследование
«формы» по
сути
совпадает
для Бэкона с
целью
научного
исследования
вообще. Цель
эта
уяснение
«форм» тех
свойств, которые
наблюдение
обнаруживает
в предмете. В
первом
приближении
«форма» может
быть определена,
как
внутренняя,
имманентная
самому
предмету
причина его
свойства.
Так, физические
тела
обладают
свойством
теплоты.
Свойство это
должно иметь
внутреннюю
причину.
Причина эта
должна быть
всюду там, где
возникает и
наблюдается
свойство
теплоты. По
Бэкону, эта
причина или
«форма» -есть
некоторый
вид движения.
Утверждение
это сопровождается
у Бэкона
пояснениями.
Мысль Бэкона
не следует
понимать в
том смысле,
будто
определенный
вид движения
порождает теплоту.
Не следует
также думать,
будто, наоборот,
теплотой
порождается
движение или
будто теплота
сопровождается
движением. В
отдельных
примерах
может быть и
то и другое.
Но Бэкон ищет
не отдельные
примеры. Он
ищет именно
сущность
теплоты то,
что в явлении
теплоты
составляет
ее
объективную
основу или что
существует
само по себе,
без всякого
отношения к
человеку. И
когда Бэкон
говорит, что
теплота есть
определенный
вид движения,
то он
разумеет
отношение
человеческого
ощущения
теплого к
тому, что
существует в
самом
предмете
совершенно
объективно,
не имеет
отношения к
человеческому
ощущению. Так
как «форма»
теплоты
предполагает
не только определенный
совершенно
объективно
существующий
вид движения,
но
предполагает
также и его
отношение к
человеческому
существованию,
то «теплота»
не есть нечто
неизменное.
Она
изменяется в
зависимости
ог состояния
воспринимающего
теплоту
органа, в
зависимости
от условий, в
какие
поставлен
воспринимающий
человек.
Именно
поэтому тог
же самый предмет,
при одних
условиях, при
одном состоянии
воспринимающего
органа
кажется теплым,
а при иных
условиях, при
другом
состоянии органа
холодным.
Изложенная
здесь
тенденция
или идея учения
Бэкона о
«форме»
состоит в
том, что под
формой
известного
свойства
(известной
«натуры»,
согласно
выражению
Бэкона)
следует понимать
объективное
состояние,
состояние самой
вещи в
противоположность
субъективному
состоянию,
которое
возникает в
сознании
человека в
результате
действия
объективного
состояния.
Мысль
эту о
противоположности
объективного
и
субъективного,
или о
противоположности,
какая
существует
между
состоянием
известного
предмета, как
оно дано вне
человеческого
сознания, и
нашими
субъективными
ощущениями
свойства, Бэкон
развил в
«Новом
Органоне»
при
исследовании
«формы»
теплоты. Но в
других
сочинениях Бэкона
намечается
иное
понимание
«натуры», или
«свойства». В
них под
«натурой»,
«свойством»
понимается
уже не
субъективное
состояние
ощущения в
противоположность
объективному
характеру
формы. Здесь
«свойство», как
и «форма»,
рассматривается
также в качестве
объективного
состояния
вещи. Разница
между
«формой» и
«свойством»
не в том, что первая
объективна,
а второе
субъективно.
Разница в
том, что
объективное
состояние вещи,
называемое
ее «формой»,
первично, а
объективное
состояние
вещи,
называемое
ее «свойством»
или
«природой»,
вторично,
производно, относится
к «форме» как
более внутреннее
состояние
вещи к более
внешнему.
Какие
гносеологические
и логические
выводы
должны были
полу-
396
читься
из этого
учения о
«формах»?
Чтобы разобраться
в них,
следует
предварительно
учесть еще
одну сторону
взгляда
Бэкона на бытие.
По Бэкону,
каждая вещь
сложна,
представляет
соединение
самых
разнообразных
свойств.
Форма того
или другого
свойства (той
или другой
«натуры») существует
в вещи вовсе
не
изолированно
от других ее
свойств.
Поэтому если
задача в том,
чтобы, зная
известную
«природу» (=
«свойство»)
вещи, найти
«форму» этой
«природы», то
необходимо
исключить из
числа
принадлежащих
этой вещи
черт все
черты,
которые
только случайно
сосуществуют
в ней с
«формой» ее
«природы» ( =
«свойства») и
которые в
действительности
не имеют
связи с
исследуемой «природой».
Если
исключение
всех таких
черт будет
произведено
полностью, то
в результате
из числа
принадлежащих
предмету
черт
останется
только та, от
которой
действительно
зависит
исследуемое
«свойство».
Черта эта и
будет
«формой»
исследуемой
«природы».
Однако
реально
отторгнуть
от предмета
его черту, не
имеющую
существенного
отношения к
исследуемому
«свойству», по
Бэкону,
невозможно:
ведь в
реальном
предмете все
его черты и
необходимо
связанные с
данным
«свойством»
черты, и с ним
необходимо
не связанные
сосуществуют,
данные в
нерасторжимом
единстве.
Таким
образом
возникает,
по-видимому,
парадоксальное
положение. С
одной
стороны, операция
выяснения,
или
исследования,
«формы» может
осуществляться
только
посредством исключения
всех черт
предмета
случайных, несущественных
для
исследуемого
«свойства». С
другой
стороны,
реальное
исключение этих
черт не
достижимо.
Из этой
ситуации, по
Бэкону,
возможен
только один
выход:
исключение
несущественных
для
«свойства»
черт должно
быть
операцией не
реальной (не
физической или
технической),
а операцией
логической. Исключение
это есть
логический
процесс отвлечения,
или
абстракции:
черты, не
имеющие действительной
связи с
исследуемым
«свойством»,
должны
исключаться
только
логически. В
процессе
отвлечения
черты
предмета, не
имеющие
необходимого
отношения к
«свойству», выделяются
только в
абстракции. В
результате
этого
отвлечения
получается
вывод, что
черта
предмета,
оставшаяся
неисклю-ченной,
и есть
искомая
«форма»
исследуемого
«свойства».
Но как
должен
протекать
самый
процесс исключения
несущественных
для
«свойства»
черт
предмета? Для
выполцения
этого
процесса Бэкон
рекомендует
составить
две таблицы, или
два обзора
частных
фактов. Обе
таблицы основываются
на двух
фундаментальных
положениях.
Строго
говоря, здесь
мы имеем одно
единственное
положение,
однако в
каждом обзоре
оно
рассматривается
с другой
стороны. Состоит
это
положение в
тезисе, по
которому между
«формой» и
«свойством»
существует
тесное
внутреннее
отношение. А
именно: там,
где налицо
известное
свойство,
необходимо
должна быть
налицо и его
«форма». Это
первое положение.
И во-вторых:
там, где
«свойство»
отсутствует,
необходимо
должна
отсутствовать
и его «форма».
Или, говоря
словами
самого Бэкона,
«форма
какой-либо
природы такова,
что когда она
установлена,
то и данная природа
неизменно за
ней следует.
Итак, форма
постоянно
пребывает,
когда
пребывает и эта
природа, она
ее вполне
утверждает и
во всем
присуща ей.
Но эта же
фор-ма
такова, что
когда она
удалена, то и
данная
природа неизменно
исчезает» (9, II, aph. 4).
В нашем
примере, где
налицо
явление или
свойство
теплоты, должно
быть налицо и
то особое
движение,
которое
составляет
сущность
теплоты. И
точно так же:
где нет
свойства
тепло-
397
ты, там не
может быть и
движения, составляющего
сущность
этого
свойства.
Первым
положением
определяется
особенность
первого
рекомендуемого
Бэконом обзора
фактов. В
этот обзор
должны
попасть или войти
все предметы,
имеющие
исследуемое
«свойство», т. е.
свойство,
форму
которого
надлежит
найти. Так
как при
наличии
данного
свойства
необходимо
должна
существовать
и «форма»,
определяющая
это
«свойство», то
все предметы
первого
обзора
должны иметь
эту форму.
Предметы эти,
вообще
говоря,
разнообразны.
Напротив,
форма
свойства
должна быть в
них одинакова,
так как при
всех
различиях
между ними исследуемое
свойство в
них
одинаково.
Поэтому все
черты
предметов,
которыми эти
предметы
отличаются
друг от
друга, никоим
образом не
могут быть
«формой»
исследуемого
«свойства».
Черты эти
должны быть
все исключены.
Таким
образом,
«форму» можно
искать
только среди
тех черт
рассматриваемых
предметов, по
которым
предметы не
отличаются
друг от друга,
а совпадают
друг с
другом. Это
черты общие
всем
предметам
первого
обзора. Именно
где-то среди
них таится
искомая форма
данного
свойства.
Для
иллюстрации
мысли Бэкона
можно воспользоваться
следующей
схемой. Имеем
три случая,
составляющие
первый обзор,
или первую
таблицу:
I а т р b r s с >
В
II aklb n с > В
III aqbfgtc > B
Во всех
трех случаях
в предмете
налицо свойство
В. Следует
найти его
форму. В
каждом из
трех случаев
имеются
черты,
которыми
предметы отличаются
друг от
друга. Эти
черты т, p, r, s, k, I, n, q, f, g. И
в каждом
случае
имеются
черты, по
которым предметы
сходны между
собой. Это а, b,
с.
Согласно
методу
Бэкона,
несходные
черты не
могут быть
формой
одинакового
во всех трех
случаях свойства
В. Поэтому
все
несходные
черты должны
быть исключены,
т. е. от них
необходимо
отвлечь-с я (реально
эти черты не
могут быть
отторгнуты
от предметов,
так как
реально они
все
сосуществуют
в этих
предметах).
По
исключении
различных
для всех
случаев черт
имеем:
I а, b, с > В
II а, b, с > В
III a, b, c > В
Очевидно,
форму
свойства В необходимо
искать среди
сходных для
всех случаев
черт или
обстоятельств:
среди а, b, с. Нет
основания
предполагать,
что «формой»
свойства В должны
быть все
черты,
одинаковые в
рассмотренных
предметах
первого
обзора: и а, и b,
и с. Одна из
этих черт во
всяком
случае
должна оказаться,
по Бэкону,
формой
свойства В. Но
какая именно
черта это
должно
решить
дальнейшее
исследование.
Не исключена
возможность,
что среди
одинаковых
черг а, b, с некоторые
сосуществуют
со свойством В
не
необходимо,
но
совершенно
случайно. Поэтому
предстоит
исключить, т.
е. опять-таки
выделить в
абстракции
из совокупности
черт а, b, с те
из них,
которые не
стоят в
необходимой,
существенной
связи со
свойством В.
Для
этого
исключения
необходимо,
по Бэкону,
составить
вторую
таблицу, или
второй обзор.
В этот обзор
должны войти
все предметы,
которые
сходны по
своим чертам
с предметами
предыдущего
обзора,
398
но
отличаются
от них тем,
что все
лишены исследуемого
свойства.
Например:
I a m p r s с
II a k I n с III a q
f g t с
Анализ
этой второй
таблицы идет
следующим
образом. Так
как, согласно
второму
фундаментальному
положению,
форма
необходимо
отсутствует там,
где
отсутствует
определяемое
этой формой
свойство, то
все, что в
каждом, из
предметов
второго
обзора
сходно с
предметами, имеющими
данное
свойство, не
может
состоять в
связи с
формой этого
свойства.
Стало быть,
не могут быть
формой
свойства В ни
черты,
исключенные
на основании
первого
обзора
черты т, р, г, s, k, I, n,
q, f, g, ни, кроме
них, также и
черты а и с: ведь
эти
последние
черты
наблюдались
в предметах
второго
обзора,
однако
свойство В ни.
в одном из этих
предметов не
было
обнаружено.
Таким
образом,
посредством
второго
обзора
исключаются
из сходных
черт первого
обзора те,
которые не
могут быть
формой
данного,
исследуемого
нами
свойства (в
нашем примере
черты а и с свойства
В). Остается
неисключенной
черта b. Она и
должна быть
формой.
Другими
словами,
первая
таблица
выделяет в
разнообразных
предметах,
которые все
имеют данное
свойство, все
то, что в этих
предметах
имеется
сходного и в
чем,
следовательно,
возможно и
необходимо
искать
«форму» исследуемого
свойства.
Вторая
таблица идет
дальше. Из
черт
сходства,
выделенных
первой
таблицей, она
исключает
все, что не
может быть
признано формой
данного
свойства, не
может, так
как наблюдается
у других
предметов,
лишенных этого
свойства.
Мы видим,
что метод
отыскания
«форм»,
предложенный
Бэконом, есть
метод
последовательного
двойного
исключения. Посредством
этого метода
должны
остаться
неисключенными
те черты
предметов,
которые,
во-первых,
всегда
налицо в них,
когда предметы
обладают
данным
свойством, и
которые, во-вторых,
всегда
отсутствуют,
когда
предметы
лишены этого
свойства.
Так мы
приходим к
следующему
определению формы:
форма то, что
имеют
сходного или
общего все
предметы,
несмотря на
различие между
ними в других
чертах, и
одновременно
со сказанным
форма есть
то, чего не
имеет ни один
предмет, у которого
нет данного
свойства.
Разобранное
рассуждение
есть пример
сложного
индуктивного
метода.
Исследование
это
индуктивное,
так как
добываемое с
его помощью
общее
суждение
(например,
«всякая теплота
есть некоторый
вид
движения»)
выводится из
систематического
обобщающего
рассмотрения
частных
случаев.
Вместе с тем
вывод,
получаемый
посредством
этой
индукции,
представляется
Бэкону не
проблематическим,-не
всего лишь
вероятным, но
вполне
достоверным,
научно
обоснованным.
Это и есть
«истинная
индукция» (inductio vera)
Бэкона.
Чтобы
сообщить
индуктивному
исследованию
наибольшую
возможную
надежность и
довести его
до полной
достоверности,
Бэкон рекомендует,
помимо уже
рассмотренных
двух обзоров,
еще и третий.
В этом третьем
обзоре, или в
третьей
таблице,
помещаются и
рассматриваются
все случаи,
когда исследуемое
свойство
предмета
существует в
нем нев одной
и той же
степени.
Рассмотрение
основывается
на
предпосылке,
согласно
которой
между формой
свойства и
самим свойством
имеется
внутренняя
связь: не
только существование
«свойства»
необходимо
предполагает
существование
«формы», не
только от-
399
сутствие
«свойства»
необходимо
предполагает
отсутствие
«формы» этого
«свойства», но
и степень, в
какой
обнаруживается
«свойство»,
всегда
должна
соответствовать
степени, в
какой дана
«форма».
Отсюда
получается
правило
третьего
обзора: если
имеются
случаи, где
исследуемое
свойство
дано не в
одинаковой
степени, и
если мы
знаем, что
степень свойства
должна
соответствовать
степени формы,
то
необходимо
исследовать
и установить,
какие черты
предмета
изменяются в
нем в зависимости
от изменений
свойства, т. е.
увеличиваются
или
уменьшаются
в той же
степени.
Именно среди
этих черт и
надлежит
искать его
форму.
В XIX веке
Джон Гершель
и Джон Стюарт
Милль
разработали
с большой
обстоятельностью
(особенно
Милль) теорию
индуктивных
методов
исследования.
При разработке
ее Милль имел
в виду
главным
образом исследование,
опирающееся
на
эксперимент
и обосновывающее
теоретические
истины на данных
наблюдения и
эксперимента.
Теория
индуктивного
исследования
у Бэкона
далека еще от
понимания
роли
эксперимента,
его условий и
обстоятельств
в деле индуктивных
обобщений.
Тем не менее
Бэкон несомненно
предвосхитил
некоторые
важные черты
форм научной
индукции, которые
были
рассмотрены
знаменитыми
английскими
логиками XIX
века. Так,
например,
«метод
согласия»
(или
«совпадения»)
Милля есть
лишь более
обстоятельное
развитие
метода «первого
обзора»
Бэкона. И
точно так же
миллевскии
«метод
сопутствующих
изменений»
есть лишь
развитие
идеи
«третьего
обзора» Бэкона.
Теория
истинной
индукции
Бэкона не
ограничивается
характеристикой
трех обзоров,
изложенных
выше. Обзоры
намечают
только общие
принципы
метода. В
таблицы,
соответствующие
схемам
обзоров,
входят и в
них предусматриваются
по
возможности
все случаи,
предполагаемые
схемой
каждого
обзора. Не
трудно
догадаться,
что случаи
эти, входящие
в ту или иную
из трех
таблиц,
вообще
говоря, могут
быть не
одинаково
ценными для
открытия «формы»
предмета.
Учитывая это
неодинаковое
значение
различных
случаев в
деле установления
«форм», Бэкон
поставил
задачу
указать некоторые
частные и
преимущественные
случаи,
помогающие
исследователю
с наименьшей
затратой сил
отделить в
исследуемых
предметах то,
что в нем
случайно по
отношению к
данному
свойству, от
того, что у
него
необходимо связано
с этим
свойством и
таким
образом есть
«форма» этого
свойства». В
«Новом
Органоне»
Бэкон
указывает
двадцать
семь таких
преимущественных
частных
случаев или,
как он их
называет,
«прерогатив-ных
инстанций».
Очень
характерны
из числа
прерогативных
инстанций
первые две.
Они прямо
относятся к
той цели,
ради которой
Бэкон ввел
свои таблицы:
это случаи,
способствующие
наискорейшим
образом
открытию
«форм». Это,
во-первых, случаи,
которые
Бэкон назвал
«изолированными».
Их
существует
два рода.
Первый
состоит в
том, что два
предмета,
полностью
отличающиеся
друг от друга
во всех
других
отношениях,
сходны между
собой в одном
в том, что оба они
имеют
определенное
свойство.
Второй случай
состоит в
том, что у
предметов,
полностью
сходных друг
с другом во
всех других
отношениях,
существует
единственное
различие, а
именно: один
из них имеет,
а другой не
имеет
исследуемого
свойства.
Нетрудно
убедиться,
что первый
случай относится
к таблице
первого
обзора, а
второй к таблице
второго.
Вместе с тем
понятно, в
чем преимущественное,
особое
значение
обоих этих случаев.
В таблице
первого
обзора речь
шла вообще о
всех
предметах,
отличающих-
400
ся друг
от друга, но
вместе и
совпадающих
в том, что все
они обладают
известным
свойством.
Напротив, в
«преимущественном»
случае, о котором
здесь идет
речь,
рассматриваются
предметы, не
только
вообще
отличные
друг от
друга, но
отличные
полностью.
Особенность
их на первый
взгляд
только в том,
что они имеют
исследуемое
свойство.
Важность
этого
особого
случая
совершенно
очевидна: он чрезвычайно
пригоден для
исключения
всего
случайного. В
нем при
сопоставлении
двух
совершенно
разнородных
предметов
сразу
исключаются
все
различные
черты, как не
относящиеся
к форме
исследуемого
свойства.
Так же упрощается
исследование
и во втором
случае. Как и
во второй
таблице,
здесь
рассматривают
два сходных
предмета. Но
при этом
предметы эти
не только
сходны: они
сходны
полностью во
всех других
отношениях и
отличаются друг
от друга
только тем,
что один из
них имеет, а
другой не
имеет
исследуемого
свойства.
Исключение всех
случайных
черт
получается
здесь сразу.
Другая
прерогативная
инстанция
представляет
особый
случай
третьей
таблицы. Случаи,
которые
должны быть
здесь
приняты во внимание,
Бэкон
называет
«странствующими».
Это случаи
или
возникновения,
или исчезновения
исследуемого
свойства. Как
было
разъяснено,
третья
таблица
рекомендует
сравнивать
предметы,
отличающиеся,
вообще
говоря,
степенями
исследуемого
нами свойства.
Особый и
крайний
случай этого
рода, очевидно,
будет тот,
когда
различие
выступает не
просто как
различие в
степени, а
как различие,
состоящее в
том, что
исследуемое
свойство
сначала
отсутствует,
а затем
появляется
или,
наоборот,
сначала
присутствует,
а затем
исчезает. Так
как, согласно
лежащему в
основе
индукции
предположению,
«форма» должна
привходить и
исчезать в
связи с появлением
и
исчезновением
«свойства», то
в случае
«странствующей»
прерогативной
инстанции
форма может
быть открыта
всего легче.
Выгодность
«странствующей»
инстанции,
во-первых, в
том, что при
этой
инстанции
исследователь
наблюдает
возникновение
свойства, а
потому может
наблюдать и
возникновение
его формы.
Во-вторых,
выгодность
этой
инстанции в
том, что в
случае
возникновения
и исчезновения
исследуемого
свойства его
наличие и его
отсутствие
наблюдается
не в различных
предметах,
как это
предполагается
в третьей
таблице, а в
одном и том
же предмете.
Именно
поэтому
связь между
свойством
этого предмета
и формой
этого
свойства
выступает
особенно
отчетливо.
В учении
о
«странствующей»
прерогативной
инстанции
Бэкон
предвосхищает
указанный в XIX
веке Миллем
знаменитый
«метод
единственного
различия».
Сходство между
инстанцией
Бэкона и
методом
Милля в том,
что в обоих
случаях
исследователь
имеет дело с
двумя
моментами
существования
одного и того
же предмета,
один из этих
моментов определяется
наличием
наблюдаемого
свойства,
другой его
отсутствием.
Но есть и различие
между
«инстанцией»
Бэкона и
методом Милля.
Метод Милля
есть метод
экспериментирующей
науки. При
этом методе в
хорошо известный
и во всех
своих
элементах
сполна учтенный
порядок
явлений
экспериментатор
вводит некое
новое
обстоятельство.
Только этим
обстоятельством
и только
после его введения
наблюдаемый
порядок
отличается от
непосредственно
предшествующего
ему состояния.
Совершенно
очевидно, что
то новое, что
произойдет
после
введения
этого нового
обстоятельства,
должно быть
действием
этого
обстоятельства.
Таким
образом, у
Милля его
метод различия
есть метод
активного
эксперимента,
а ход
исследования
в этом
401
Методе
есть движение
от причины к
ее действию.
У Бэкона «странствующая»
инстанция
применяется
непосредственно
не к
эксперименту,
а к исследованию
данных
наблюдения.
Ход мысли при
этом
обратный
сравнительно
с методом
различия:
сначала
наблюдается
возникновение
«свойства», т. е.
действия
причины, а
затем
возникновение
«формы» этого
«свойства», т. е.
причины.
Рассмотрим
еще
некоторые из
27
прерогативных
инстанций
Бэкона,
представляющие
наибольший
интерес для
логики
научного
исследования.
Из них могут
быть
отмечены
«отчетливые»
инстанции.
Это случаи,
когда исследуемое
свойство
дано в
сочетании с
такими другими
свойствами
предмета,
которые не препятствуют
проявлению
исследуемого
свойства в
самом
отчетливом
его виде и с
наибольшей
полнотой.
Необходимость
выделения
«отчетливых»
инстанций
обусловлена,
по Бэкону,
тем, что,
вообще
говоря, любое
свойство
предмета
сосуществует
в нем с
огромным
множеством
других
свойств.
Свойства эти
могут различным
образом
относиться к
исследуемому
свойству. Они
могут
оказаться
совершенно «нейтральными»,
или
безразличными,
для
проявления
этого
свойства. Но
они могут
оказаться и препятствием
для его
обнаружения,
могут задерживать
процесс его
выявления. В
других случаях
сочетание,
исследуемого
свойства с
другими
свойствами
не порождает
никаких препятствий
к его
проявлению, и
тогда
исследуемое
свойство
выступает
наиболее
отчетливо и в
наиболее
полном виде.
Чем полнее
обнаруживается
исследуемое
свойство, тем
легче
установить
его отличие
от других
свойств, тем
легче
выявить его
форму и
отличие этой
формы от
всякой
другой формы.
Так, если
теплота
представляет
собой
движение, то
ее истинная
форма
представляет
особый,
определенный
вид движения,
отличный от
всех других
его видов.
Однако,
по мысли
Бэкона, для
науки
выгодно принимать
во внимание
не только случаи
отчетливого
проявления
исследуемого
свойства.
Столь же
важны, столь
же плодотворны
и обратные
случаи. Это
случаи,
которые
Бэкон
называет
«темными»
инстанциями,
или «случаями
сумерек». В
этих случаях
исследуемое
свойство,
будучи
подавлено
препятствиями,
причина
которых
коренится в
других свойствах
предмета,
обнаруживается
для исследователя
самым
смутным
образом.
«Отчетливые»
инстанции
помогают
открыть
«форму» как некоторое
видовое
отличие.
Напротив,
«темные»
инстанции ( =
«случаи
сумерек»)
помогают открыть
сходство
формы с
другими
формами.
Другой
ценный вид
прерогативных
инстанций
так
называемые
«пропорциональные»
инстанции.
Так называет
Бэкон случаи,
когда между
известными
свойствами
или
известными предметами
существует
не видовое
сходство, т. е.
не то
сходство,
какое
имеется
между
экземплярами
одною и того
же вида, но
совершенное
частное
сходство
одних
отдельных
предметов
вида с
другими
отдельными
предметами
того же вида.
Опираться на
такие случаи
для доказательства
научной
истины
невозможно. И
тем не менее
исследование
таких
случаев
может быть
очень
плодотворным.
Не
обосновывая
прямым
способом
никаких
выводов,
случаи эти
побуждают
исследовать
сходство
между предметами
в таких
сторонах
этих
предметов, в
таких
отношениях,
где на первый
взгляд сходство
это кажется
несуществующим
и даже немыслимым.
«Пропорциональные»
инстанции
указывают на
характерную
для природы
связь родства,
обнимающую
всю природу.
Эту
мысль Бэкон
иллюстрирует
некоторыми примерами.
По его
мнению,
полезно,
например,
наблюдать
сходства, замечаемые
между глазом,
отражающим
образы
предметов, и
зеркалом,
хотя на
первый
402
взгляд
могло бы
показаться,
будто глаз и
зеркало
совершенно
различные
предметы. Полезно
также
наблюдать
сходство
между строением
уха и
строением
тех мест
природы, которые
особенно
способны
порождать
отзвук, или э
х о. В науке
часто
наблюдается,
что отдельное
сходство,
кажущееся
совершенно
случайным,
может
пролить
неожиданный
свет на сходство
между собой
предметов,
чрезвычайно
удаленных
друг от
друга. И то же
отдельное сходство
может
пролить свет
на строение
сложных
предметов,
уясняя один
предмет посредством
другого.
Понятая
в изложенном
выше смысле
индукция
должна, по
Бэкону,
охватить все
роды исследования.
Она должна
обнять не
только те его
роды, которые
обычно
относились к
индукции, но
и те, в
которых
основным орудием
научного
исследования
считался только
силлогизм.
Значит
ли это, что
Бэкон сводит
к индукции всякое
научное
исследование?
Такое мнение приписывали
Бэкону
логики XIX века,
которых Энгельс
характеризует
насмешливой
кличкой
«всеиндуктивистов».
Однако позиция
самого
Бэкона не
была такова.
Бесспорно он
расширяет
сферу
применения
индукции Он
отводит
силлогизму
сравнительно
узкую и
подчиненную
область
«искусств»,
которые он
называет
«популярными
и основывающимися
на мнениях» (artes
populares et opinabiles).
«Искусства»
эти лишены в
его глазах
действительного
научного
значения.
Этим,
однако, еще
не решается
вопрос,
действительно
ли думал
Бэкон, будто,
став на место
силлогизма,
индукция
превращается
во всеединый
метод
всякого
познания.
Есть
основания
полагать, что
Бэкон не был
«всеиндуктивистом»
в смысле
всеиндуктивизма
XIX века. А
именно: в одном
месте Бэкон
утверждает,
что в математике
большую роль
играют
доказательства
посредством
среднего
термина. Но в
том же самом
месте он
утверждает,
что
силлогизм совершенно
неспособен
быть
надежным
орудием
научного
исследования.
Как
согласовать
между собой
эти два
утверждения?
Согласно
догадке М. И.
Карийского,
под методом,
который
Бэкон
характеризует
по аналогии
с силлогизмом,
как
доказательство
при помощи
среднего
термина,
необходимо
понимать
метод доказательства
только
сходный, но
не тождественный
с
силлогизмом.
Сходство
между ними
лишь в том,
что
доказательство
в них опосредствовано
средним
(третьим)
понятием. Каринский
предполагает
и с ним можно
согласиться,
что под этим
методом
мысли Бэкон
понимал
математические
выводы,
основывающиеся
на общих
аксиомах
равенства.
Таков, например,
вывод: а = b, b = с, следовательно
а = с. Вывод
подобного
вида по своей
логической форме
близок к
силлогистическому,
но не тождествен
ему.
Догадка
М. И.
Карийского
подтверждается
некоторыми
местами
«Нового
Органона»,
где Бэкон
прямо
сопоставляет
математическую
аксиому
равенства со
схемой
силлогистического
вывода:
«признак
признака
есть признак
самой вещи». В
этой аксиоме
он видит форму
вывода,
параллельную
форме
силлогистического
вывода, но не
тождественную
ей.
Таким
образом
индукция
заняла в
теории познания
и в логике
Бэкона место
аристотелевского
силлогизма,
но наряду с
индукцией Бэкону
представлялся
и другой
чисто
математический
метод.
Почему
Бэкон не дал
полной
развернутой
теории этого
метода?
Потому, что в
«Новом Органоне»
он подробно
останавливается
только на тех
методах,
которые,
согласно его
мнению,
нуждались в
преобразовании.
Напротив,
выводы о
равенстве,
опирающиеся на
общие аксио-
403
мы
равенств,
представлялись
ему совершенно
достоверными
и потому не
нуждающимися
в
обстоятельном
разборе.
Теория
индукции
наиболее
ценное
учение гносеологии
и логики
Бэкона.
Вместе с
двумя первыми
«прерогативными
инстанциями»
три таблицы,
или три
обзора
индукции
Бэкона, указывают
путь Гершелю
и Миллю с их
методами сложного
индуктивного
исследования.
Уступая
теории
Гершеля и
Милля в
точности, в
освещении
подробностей,
теория
индукции Бэкона
превосходит
их по крайней
мере в трех
отношениях.
Во-первых,
бэконовская
теория
индукции
твердо стоит
на основе
материалистического
понимания
как бытия,
так и
познания. В
сравнении с
материалистом
Бэконом,
убежденным в
возможности
поднять
индукцию до степени
научной
индукции,
Милль
агностик и
субъективный
идеалист: в
материи он
видит только постоянную
возможность
ощущений.
Во-вторых,
теория
индукции
Бэкона
отличается
всеми
чертами
подлинной
оригинальности.
Пусть даже
неполно
разработанная
и выраженная,
она так
относится к
теории Милля,
как о р и-гинал,
как
первичное
теоретическое
построение к
его
продолжению
и развитию.
Первый шаг самый
трудный, и
именно в его
первичности
заключена
величайшая
ценность.
В-третьих, значение
и
проницательность
теории индукции
Бэкона в том,
что в ней
впервые была
осознана
роль, какую в
индуктивных
исследованиях
и
доказательствах
играют
случаи,
противоречащие
индуктивному
обобщению
(«oi-рицателъные
инстанции»).
Если
сравнить
понятие об индукции,
разработанное
Бэконом, с
понятием об
индукции,
какое имела
античная
философия от
Аристотеля
до школы
Эпикура, то
можно сказать
вместе с М. И.
Каринским,
что никогда
учение об
индукции не
подвигалось
так далеко
одним лицом и
что никогда
не существовало
пропасти
большей, чем
пропасть
между теорией
индукции
Бэкона и
теориями
всех его
предшественников.
Некоторые
плодотворные
идеи
индукции Бэкона
начали
выясняться
только в
последние
десятилетия
в связи с
успехами
новейшей логики.
Самой
плодотворной
из них
оказалась
идея, которая
после Бэкона стала
развиваться
Декартом и
Локком. Это идея,
согласно
которой
математические
аксиомы о
равенстве
представляют
особые формы
вывода,
отдельные и
отличающиеся
от силлогистических.
Ценность
этой мысли не
могут
уменьшить и
крупные
ошибки,
допущенные Бэконом
в его критике
предшествующей
логики. Крупнейшая
из них
огульное и
полное
отрицание логических
форм
силлогистического
вывода в
научном
мышлении.
Бэкон смешал
вопрос о
методе
обоснования
общих
посылок
силлогизма с
вопросом о
логической
значимости самой
формы
силлогистического
вывода.
Другими словами,
ошибки,
которые были
ошибками
схоластической
науки (по
существу ее
содержания) и
ошибками
известных
античности
методов
обобщения, он
приписал
силлогистической
форме вывода
как таковой.
Промах
Бэкона легко
было
обнаружить и
указать.
Гораздо
труднее было
понять, что
направленные
не по адресу
возражения
Бэкона по
сути
выдвигали
перед наукой
и перед
логикой
важнейшую
задачу: преодолеть
разрыв между
логической
формой и содержанием,
поднять
науку на тот
уровень, на котором
правильная
логическая
связь осуществляется
между
посылками,
обобщающая сила
которых
проверена и
научно
обоснована,
т. е.
посылками,
отражающими
для мысли объективную
реальность,
действительный
порядок
вещей. В этой
тенденции
непреходящее
значение бэконовской
критики
силлогизма и
вульгарной
индукции.
КРУГ
ИДЕЙ
ЛЕРМОНТОВА
ПРИМЕЧАНИЯ
Впервые
напечатано в
«Литературном
наследстве»
(газетно-журнальное
объединение),
т. I, кн. 4344 («М. Ю.
Лермонтов») в 1941
году. (Ред.)
Стр. 9 *
Современное
поэту поколение.
Стр. 10 *
Общеизвестная
энергия, с
какой диалектический
мыслитель
Гегель
критиковал метафизическое
понятие
кантианцев
об идеале как
принципиально
неосуществимом
и трансцендентном
по отношению
к реальности
образце. В
этом вопросе
Лермонтов с
Гегелем
против Канта.
Стр. 36 *
Проблемы Schein в
эстетике
Платона и
Аристотеля я
специально
рассмотрел в
работе «Эстетика
классической
Греции».
ЛИТЕРАТУРА
1
Лермонтов М.
Ю. Поли. собр.
соч., изд. «Academia» M. Л, 1937.
2.
«Литературное
наследство»,
тт. 4344. «М. Ю.
Лермонтов». М.,
Изд-во АН
СССР, 1941.
3. Л о к с К.
Проза
Лермонтова.
«Литературная
учеба», 1938, № 8.
4.
Шопенгауэр А.
Мир как воля
и
представление.
М., 1900.
МИРОВОЗЗРЕНИЕ
ТОЛСТОГО
ПРИМЕЧАНИЕ
Работа
была впервые
напечатана в
«Литературном
наследстве»,
т. I («Лев
Толстой») в 1961
году. (Ред.).
ЛИТЕРАТУРА
1. Маркс К.
и Энгельс Ф.
Собр. соч.
2. Л е н и н
В. И. Поли. собр.
соч.
3.
Горький М.
Собр. соч.
4.
Гольденвейзер
А. Б. Вблизи
Толстого М.,
Гослитиздат,
1959.
5.
Толстой Л. Н.
Поли. собр. соч.
Юбилейное
изд. (18281928). М.Л.,
Госиздат, 19281955.
6. «Статьи
Толстого об
искусстве».
«Литературное
наследство», 1939,
тт. 3738.
7. Ш и л л е
р Ф. Статьи по
эстетике,
изд. «Academia». М. Л., 1953.
8. Stendеr-Petersen.
Geshichte der Russischen Literatur. Munchen, 1957.
9. Weisbein (Nicolas).
L'evolution religieuse de Tolstoi. Paris, 1960.
405
ГЕТЕ В
«РАЗГОВОРАХ»
ЭККЕРМАНА
ПРИМЕЧАНИЯ
Напечатана
как вводная
статья к
книге И П Эккермана
«Разговоры с
Гете», изд «Academia», 1934 (Ред
)
Стр 106 * См
столь часто
цитируемую
сцену
переделки
Фаустом
евангельского
стиха
«Вначале было
Слово» в стих
«Вначале было
Дело» (Im Anfang war die Tati)
Стр 108 * Cp
известное
положение
Маркса, по
которому
«религия есть
вздох
угнетен ной
твари»
Стр 109 * Ср
известное
учение
Спинозы о
том, что в
душе
человека
есть частица,
не
разрушимая с
гибелью тела,
и что степень
ее
неразрушимости
определяется
энергией, с
какой
человек
предается деятельному
познанию,
покоряющему
природу его
власти
Стр 157 * Ни
единое
существо не может
распасться в
ничто
** Ибо все
должно
распасться в
ничто «Разговоры
», II, 12 февраля 1829
Стр 159 * Как
печально
восходит в
влажном сиянии
неполный
диск месяца
Стр 166 *
Именно в этой
связи он
говорил,
например, что
не будь
природа
нашего глаза
солнечной, мы
не могли бы
видеть
солнца, и т д
Стр 177 * См
выше, глава
«Естествознание,
философия,
религия»
Стр 180 *
Впрочем,
суждения
Гете о музыке
далеко
уступают по
обоснованности
и по конкретности
опыта,
лежащего в их
основе, его
суждениям о
поэзии и об
изобразительных
искусствах
То, что
казалось
Гете
«превышающим
уровень
человеческих
ч\вств», было
музыкой
Бетховена,
Вебера, Мендельсона,
и его
оппозиция
против
современного
музыкального
формализма
на деле была
скорее
оппозиция
немецкого
музыкального
вкуса XVIII века
против
новаторов XIX
века
ЛИТЕРАТУРА
Эккерман
И П Разговоры
с Гете, изд «Academia», M
Л, 1934
ФИЛОСОФИЯ
И ЭСТЕТИКА
РУССКОГО
СИМВОЛИЗМА
ПРИМЕЧАНИЕ
Впервые
напечатано в
«Литературном
наследстве»,
кн 2728, в 1937 году (Ред
)
ЛИТЕРАТУРА
1 Ленин
В И Поли собр
соч
* * *
2
«Аполлон»
Художественный
и
литературный
журнал Пг, 19091917
3 Белый
А Символизм
Книга статей
М, «Мусагет», 1910
4 Блок А
Соч в 12 ти
томах
«Издательство
писателей в
Ленинграде»,
19321936
5 «Весы»
Ежемесячник
искусств и литературы
М.19041909
6 «Вехи»
Сборник
статей о
русской
интеллигенции
Н А Бердяева,
С Н Булга
кова, М О
Гершензона и
др М , 1909
7. «Записки
Мечтателей»
Журнал,
посвященный литературе
и искусству
Пг, 19191922
8
«Записные
книжки Ал
Блока» Л ,
«Прибой», 1930
9
Иванов В
Борозды и
межи Опыты
эстетические
и
критические
М , «Муса гет», 1916
10
Иванов В По
звездам
Статьи и
афоризмы Опыты
философские,
эстетические
и критические
СПб , «Оры», 1909
11 «На
перевале»
Сборник
статей,
выпуск первый
М, 1917
12 Шиллер
Письма об
эстетическом
воспитании,
изд «Academia», M Л , 1935
406
БОРЬБА
ФИЛОСОФСКИХ
ТЕЧЕНИЙ В
МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В 70-х годах XIX
века
ПРИМЕЧАНИЯ
Статья
была впервые
напечатана в
«Вопросах
истории», I, за 1946
год. (Ред.)
Стр. 239 *
«Московскому
университету,
да и всему
просвещению
в России,
писал
Чичерин по
поводу запрещения
философии в
России,
нанесен был
удар, от
которого они
никогда не
оправились»
(3,3334).
Стр. 242 * Цит.
по статье
сына С М.
Соловьева,
философа В. С.
Соловьева
Стр. 243 *
Внимание
русского
читателя к
учению Конта
привлек еще
Белинский,
отозвавшийся
на изложение
этого учения
у Сессе; в 1847
году систему
Конта
изложил в 55-м
томе
«Отечественных
записок» В. А.
Милютин.
Стр. 246 *
Какое
общественное
значение
имел этот факт,
видно из
того, что в
начале 1870 года
число подписчиков
«Московских
ведомостей»
достигло 12
тысяч.
Стр. 248 * В.
Соловьев
отзывался о
нем как о
человеке «с
значительным
умом», но «ни во
что не верующим»
(15, 1, 40).
Стр. 252 * В
этом
отношении
показательна
эволюция В.
Соловьева. В
первой своей диссертации,
написанной в
1874 году, он
прямо выступил
против
позитивизма.
Диссертация называлась
«Кризис
западной
философии»,
но подзаголовок
«Против
позитивистов»
сразу обнажал
ее
направленность.
Впоследствии
в открытом
письме
редактору
«Вопросов
философии и
психологии»
Н. Я. Гроту,
напечатанном
в 1890 году,
Соловьев дал
уже иную
примирительную
и
снисходительную
оценку
позитивизму.
Правда, и
здесь он
неодобрительно
говорил о
«катехизисе»
Огюста Конта,
которым в
сознании
передовой
части
русского общества
сменился
«катехизис
Бюхнера».
Однако тут же
он разъяснял,
что в самой
сущности этого
новейшего
катехизиса
«было нечто
такое, что
совершенно
изменяло
положение
дела и
открывало
возможность
дальнейшего
правильного
развития» (7, VI, 272). В
это время
Соловьев
видел уже в
позитивизме
Огюста Конта
и Герберта Спенсера
«первый шаг
на пути к
отчетливому
критическому
миросозерцанию»
(7, VI, 273), «первое элементарное
условие
истинной
философии» (7, VI, 273).
В частности,
заслугой
позитивистов
Лесевича,
Вырубова, де
Роберти
Соловьев
считал то,
что они «содействовали
исцелению
русских умов
от материалистической
эпидемии
посредством контовского
позитивизма»
(7, VI, 275).
Стр. 253 *
Работа эта
доклад,
прочитанный
Троицким в
заседании
Психологического
общества при
Московском
университете
24 октября 1885 года.
** Один из
критиков
Троицкого
находил, что
его
отношение к
критикуемым
учениям есть
«манера узкой
нетерпимости,
позволяющей
себе
ругательства
только что не
площадные,
зато
истощившей в
дозволяемых
приличием
пределах
ругательный
лексикон до
той границы,
за которую
уже
бессильно
переступить
самое смелое
и довольно
изобретательное
остроумие» (6, 412).
Стр. 255 *
Текст письма
П. Д. Юркевича
М М. Троицкому
сообщил В.
Ивановский в
статье «К
характеристике
М. М. Троицкого»
(2, 204205).
Стр. 256 *
Свою
рекомендацию
Карийского
Иванцов-Платонов
изложил в
письменном
«мнении», представленном
им в совет
Московского
университета.
Мнение это
вместе с
другими четырьмя
мнениями по
тому же
вопросу об
избрании
профессора
на кафедру
философии
Московского
университета
хранится в
деле совета
Московского
университета
1874 года за № 300
под литерами
А, Б, В, Г и Д. Все
эти «мнения» и
изложения
всего
происшедшего
в совете при
решении
вопроса о
замещении
кафедры
философии
впервые были
опубликованы
С. М.
Лукьяновым в
главе XIV его
работы «О В. С.
Соловьеве в
его молодые
годы. Материалы
к биографии».
**
Каринский не
имел ученой
степени по
философии. Он
имел лишь
ученую
степень
магистра богословия,
присужденную
ему за
исследование
«Египетские
иудеи».
Правда,
«Критический
обзор последнего
периода
германской
философии»
отличался
такими
достоинствами,
что мог быть представлен
на получение
докторской
степени, но,
конечно, по
философии, а
не по богословию.
Но
Московская
духовная
академия, в
которой
Каринский
закончил
аспирантуру,
не имела
права
присуждать
ученые
степени по философии.
Как магистр
богословия,
Каринский не
мог, согласно
университетским
правилам,
баллотироваться
в профессоры
университета,
а только в
доценты. Но,
будучи уже
магистром, он
не
соглашался
баллотироваться
в университет_
на должность
доцента.
Таким образом,
кандидатура
претендента,
наиболее
сильного по
своим ученым
достоинствам,
отпала, и
остались
лишь
кандидатуры
Троицкого и Соловьева.
Последний
при
бесспорной
личной одаренности
был скорее
богослов и
мистик, чем философ
и ученый.
407
Стр 261 *
Поворот Н. В
Бугаева от
позитивизма
к рационализму
и, в
частности, к
своеобразной
«монадологии»
произошел не
раньше 80-х
годов. Но еще
в конце 90-х
годов Н. В.
Бугаев
влиянию
мистики на своего
сына
писателя,
впоследствие
известного
под
псевдонимом
Андрея
Белого,
стремился
противопоставить
влияние
позитивистов.
** Записка Н. В.
Бугаева
хранится в
бумагах того
же «дела» № 300
совета
Московского
университета
1874 года как
«приложение».
Цит. по
публикации С.
М. Лукьянова
«О В. С. Соловьеве
в его молодые
годы».
ЛИТЕРАТУРА
1 Аксаков
Н. Подспудный
материализм
(по поводу
диссертации-брошюры
г-на Струве). М.,
1870.
2.
«Вопросы
философии и
психологии», 1900,
март апрель.
3.
«Воспоминания
Бориса
Николаевича
Чичерина.
Москва
сороковых
годов». М., 1929.
4.
Глаголев С.
Протоиерей
Федор
Александрович
Голубинский.
Памяти
погибших
наставников.
Изд.
императорской
московской
духовной
академии ко
дню ее столетнего
юбилея.
Сергиев
Посад, 1914.
5.
Григорьев А.
А. Мои
литературные
и нравственные
скитальчества.
Поли, собр.
соч. и писем,
под ред. В.
Спиридонова,
т. I. Пг., 1918.
6.
Епископ
Никанор.
Позитивная
философия и сверхчувственное
бытие, т. I. СПб., 1875.
7. «Журнал
министерства
народного
просвещения»,
1917, март
апрель.
8.
Кудрявцев В.
Критический
разбор
учения О.
Конта о трех
методах
философского
познания.
«Годичный акт
в Московской
духовной академии
1 октября 1874 г.». М.,
1875.
9.
Лесевич В. Соч.,
т. II. М., 1915.
10.
Лопатин Л.
Философские
взгляды В. Я.
Цингера.
Философские
характеристики
и речи. М., 1911.
11.
Лукьянов С. М.
С В. С.
Соловьеве в
его молодые
годы.
Материалы к
биографии.
ЖМНП, 1917, март
апрель.
12.
«Московские
ведомости», 870, №
59.
13. Отчет и
речи,
произнесенные
в торжественном
собрании
императорского
Московского
университета
12 января 1874 г.
Приложение.
М, 1874.
14.
Пирогов Н.
Университетский
вопрос. Соч., т. I.
Киев, 1910.
15. «Письма
Владимира
Сергеевича
Соловьева». СПб.,
1908 (1), 1911 (III).
16.
«Современные
известия», 6
апреля 1869 г.
17.
Соловьев В.
Соч., изд. 2-е, тт. 110.
СПб., 19111914.
18.
Страхов Н.
Философские
очерки. СПб., 1895.
19. С т р у в
е Г. Взгляд на
материалы,
необходимые
для
разработки
вопроса о
самостоятельном
начале
душевных
явлений.
«Русский
вестник», 1870, т. XI.
20. С т р у в
е Г.
Самостоятельное
начало душевных
явлений.
Психо-физиологи-ческое
исследование.
М., 1870.
21.
Троицкий М. и
Кавелин К.
Страница из
истории
философии в
России. «Русская
мысль», 1885,
ноябрь.
22.
Троицкий М.
Немецкая
психология в
текущем
столетии.
Историческое
и
критическое
исследование,
с
предварительным
очерком успехов
психологии
со времен
Бэкона и
Локка. М., 1867.
23. Усов С.
По поводу
диссертации
Струве и ответ
П. Д. Юркевичу.
М., 1870.
24.
Чичерин Б.
Положительная
философия и
единство
науки. М., 1892.
25.
Юркевич П.
Игра
подспудных
сил (по
поводу диспута
проф. Струве).
«Русский
вестник», 1870, т. IV.
* * *
26. Littr ё Е. Paroles de
philosophie positive. Paris, 1863, p. 1 et suiv.
ЛОГИКА
ОТНОШЕНИЙ В
РАБОТАХ
ШАРЛЯ
СЕРРЮСА
ПРИМЕЧАНИЯ
Работа
напечатана в
«Известиях»
АН Армянской
ССР, № 8, за 1947 год. (Ред.)
Стр. 267 *
«Предложениями»
английские (и
отчасти французские)
логики
называют
суждения.
** «Des relations entre
objets, поп des
relations entre pensees».
408
Стр. 271 * «La logique moderne
est sortie des besoins de la science».
Стр. 272 * «Une adaptation de la
pensee a son objet».
Стр. 273. *
Логики,
основанные
не только на
значениях
истинного и
ложного, но и
на других
значениях,
например,
истинного,
ложного и
абсурдного
(тривалентная
логика) и т. д.
Стр. 274 * Thomas Greenwood
автор труда
«Основания
символической
логики» (Les fondements de la logique
symbolique. Paris, 1938). ** Marcel Boll автор работы «Элементы научной логики» (Les
Elements de logique scientifique, 1942). Анализ
основных
положений
этой книги, а
также ряд
.принципиальных
критических
соображений,
относящихся
к логистике,
развил проф.
Андре Лаланд и статье Logique et
Logistique (Revue philosop-hique, 1945, IIII, pp. 7393). ***
Впрочем,
аналогия
между
логическими
нормальными
формами и
каноническими
формами алгебры
только
частичная.
Числа
относятся
между собой
не так, как
предложения,
и математические
операции не
являются
исчислениями
в том смысле,
какой
придается
этому слову в
логике. С
другой
стороны,
важное
различие состоит
в том, что
алгебраический
полином не
есть
предложение.
Напротив, в
логике всякое
выражение,
образованное
из
соединения других
выражений,
есть
предложение.
ЛИТЕРАТУРА
1.
Каринский М.
И.
Классификация
выводов. СПб., 1880.
2. Lalande (Andre). La
philosophie en France. The philosophical Review, 1942, vol. LI.
3. S erru s (Charles).
Essai sur la signification de la logique. Paris, 1939.
4. S e r r u s
(Charles). Traite de logique. Paris, 1945.
ПОНЯТИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ
«Понятие»,
«Аналогия»,
«Гипотеза» и
«Доказательство»
вошли как
главы в
учебник
«Логика», изданный
в 1956 году. (Ред.)
ЛИТЕРАТУРА
1. Маркс К.
и Энгельс Ф.
Собр. соч., изд.
2-е.
2. Л е н и н
В. И. Поли. собр.
соч.
* * *
3.
Введенский А.
И. Логика как
часть теории
познания,
изд. 2-е. СПб., 1912.
4.
Сеченов И. М.
Избр. произв.
М., Учпедгиз, 1953.
5. Уши
некий К. Д.
Собр. соч., т. 8,
Акад. пед.
наук РСФСР,
М.Л., 1950.
АНАЛОГИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ
Стр. 305 *
Ничтожные следы
атмосферы,
обнаруженные
в углублениях
лунных
кратеров,
практически
при решении
поставленного
вопроса не
могут приниматься
во внимание.
ЛИТЕРАТУРА
1.
Каринский М.
И.
Классификация
выводов. СПб.,
1880.
2. М и ч у р
и н И. В. Избр.
соч. М.,
Сельхозгиз, 1948.
3.
Спенсер Г.
Основания
психологии.
Соч., т. II. М, 1898.
409
ГИПОТЕЗА
ЛИТЕРАТУРА
1. Маркс К.
и Энгельс Ф.
Собр. соч., изд.
2-е.
2. Л е н и н
В. И. Полн. собр.
соч.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ПРИМЕЧАНИЕ
Стр. 333 *
Название это,
общепринятое
в математике,
не точно, так
как в этих
доказательствах
истинность
доказываемого
тезиса
выводится^ из
ложности не
противного, а
противоречащего
ему суждения.
ЛИТЕРАТУРА
1. Маркс К.
и Энгельс Ф
Собр. соч, изд.
2-е.
2. Ленин В.
И. Поли собр.
соч.
*
3. Джеймс
У. Вселенная
с
плюралистической
точки зрения.
М., 1911.
4
Павлов И П
Избр произв.
М,
Госполитиздат,
1951
5
Шопенгауэр
А Мир как
воля и
представление,
т I. M, 1900.
ФРЭНСИС
БЭКОН
ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается
впервые. (Ред.)
Стр 349 *
Дата
наброска не
ясна.
Соображения
по этому
вопросу см. Ch. Adam.
Philosophie de Francois Bacon (8,164165).
Стр. 352 *
Подробности
учения
Бэкона о
«формах» см
ниже в главе VII
** В одном
месте «Нового
Органона»
рекомендуется,
например,
такая
программа
исследования:
« . должно
исследовать,
сколько есть
во всяком
теле от духа
и сколько от
осязаемой
сущности, а
также
обилен ли и тучен
этот самый
дух или тощ и
беден, тонок он
или более
густ, более
воздушный
или более
огненный,
деятельный
или праздный,
слабый или
сильный,
влекущий
впреед или
назад,
раздробленный
или
непрерывный,
пребывает ли
в согласии с
внешним и
окружающим
или в раздоре
и т. д.» (9,11, aph. VII)-.
Стр. 354 * См.
об этом ниже,
в главе V, где
рассматривается
бэконовская
классификация
наук.
Стр 361 *
Хорошая и
точная
характеристика
черт «Новой
Атлантиды»,
отражающих
современное
состояние
английского
общества времен
Бэкона,
имеется в
работе Ф. А.
Коган-Бернштейн,
где
разъясняется,
в каком
смысле в «Новой
Атлантиде»
очень мало
утопического:
« .в ней нет
наброска
социально-политического
уклада,
который был
бы
противопоставлен
тогдашней
английской
действительности»
(6,154).
Стр. 366 * Alexander Bruno
Hanschmann, Walter Frost, Farrington. Alexander Bruno Hanschmann. Bernardl
Palissy der Kunstler, Naturforscher und Schriftsteller als Vater der induktiven
Wissenschaftsmethode der Bacon und die Naturphilosophie. Munchen, 1927.
Стр 368 *
Конечно, эта
оценка
современного
Бэкону
естествознания,
в котором
блистали имена
основателей
науки нового
времени, в котором
Тихо Браге
собрал
огромный
материал
измерений,
посвященных
движению
Марса,
Галилей
открыл закон
падения тел,
Кеплер
законы
движения
планет и т. д.,
несправедлива
и основана на
недостаточной
осведомленнос?и.
Однако мы
привели ее не
для того, чтобы
отметить ее
истинность, а
только для того,
чтобы
пояснить,
какие задачи
вменял Бэкон
в
обязанность
естествознанию.
Этого не понял
Жозеф де
Местр,
который в
двухтомном исследовании,
точнее
памфлете,
посвященном
Бэкону, не
находит слов
для
выражения своего
негодования
по поводу
отзывов
Бэкона о
современной
ему науке (15).
410
Стр 377 *
Здесь
термины
Бэкона
восходят к
терминологии
Аристотеля (в
его
«Метафизике»)
Стр 378 *
Термин
«метафизика»
Бэкон
употребляет
еще в
античном
смысле,
правда,
суженном
Стр 381 *
Номиналисты
средневековые
схоластики,
доказывавшие,
что общее или
общие роды вещей
не
существуют в
самой
реальности, а
только в
нашем языке
Общие роды
только общие
имена (nomma)
Стр 396 *
Хорошую
сводку
различных
значений бэконовского
учения о
«формах» дает
М Н Мельвиль
в своей
диссертации
«Материализм
Фрэнсиса
Бэкона»
ЛИТЕРАТУРА
1 Маркс
К. и Энгельс Ф.
Собр. соч.
2 Б э к о н
Ф Новая
Атлантида
Опыты и
наставления
нравственные
и
политические
М, Изд во АН
СССР, 1954
Ъ БэковФ
Собр. соч. Спб,
1895.
4 Бэкон
Ф Новый
Органон Л ,
Соцэкгиз, 1935
5 Бэкон
Ф Новый
Органон
Предисловие
6
КоганБернштейн
Ф А Новая
Атлантида,
Опыты
Фрэнсиса
Бэкона
(приложение
ккн Ф Бэкон Новая
Атлантида
Опыты и
наставления
нравственные
и
политические)
7 Франк
Ф Философия
науки М, ИЛ, 1960
* * *
8 Adam (Charles)
Philosophie de Francois Bacon Pans, 1890
9 Bacon (Francis)
Novum Organum, ed Fowler Oxford, 1889
10 Bacon (Francis)
Novum Organum Praefatio
11 Bacon
(Francis) Cogitata et Visa
12 Lord Bacon's
Works Philosophical Works, ed by Ellis and Speddmg
13 Essays or
Counsels Civil and Moral of Francis Bacon London, 1902
14 Farnngton
(Benjamin) Francis Bacon Philosopher of Industrial Science London, 1951
15 Maistre (Joseph
de) Examen de la philosophie de Bacon Pans Lyon, 1836
16 Saggiatore (II)
Opera, VI, ed Naz
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие...................
1
Круг
идей
Лермонтова................
7
Мировоззрение
Толстого................
40
Гете в
«Разговорах»
Эккермана..............
102
Философия
и эстетика
русского
символизма..........
187
Борьба
философских
течений в
Московском университете
в 70-х годах XIX
века 238
Логика
отношений в
работах
Шарля
Серрюса..........
267
Понятие....................
281
Аналогия....................
301
Гипотеза..................
308
Доказательство..................
321
Фрэнсис
Бэкон .................. 337
Примечания................
405